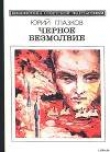Текст книги "Мост в белое безмолвие"
Автор книги: Леннарт Мери
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Дай-ка и мне взглянуть, – говорит Валерий, когда командир уходит.
Он скользит взглядом по странице, кивает головой и пододвигает записную книжку обратно ко мне.
– Моя мать эстонка, – говорит он.
Звучит это всего лишь как объяснение, сделанное вовсе не для того, чтобы вызвать у меня доверие к себе или навязаться в друзья, и мне становится еще симпатичнее этот уравновешенный парень здесь, над голой ледовой пустыней, объединяющей людей не по национальным признакам, а по каким-то совсем другим, куда более простым и высоким. На земном шаре каждый третьетысячный человек – эстонец. Для меня этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя причастным всему, что здесь происходит, и ответственным за это.
– Валерий, а страшно бывает?
– Не то чтобы страшно, но иногда надоедает. Конечно, бывало и страшно. Как-то мы загорелись. Радар был старый, не выдержал напряжения, а тут рядом запасные баки, сам понимаешь, полные бензина.
В ответ я могу только мрачно кивнуть головой, а техник в это время наклоняет кофейник, и струя кофе с тихим шипением наполняет кружку, заглушая грохот моторов, бензиновый угар и холодное дыхание Ледовитого океана, настороженно затаившегося по ту сторону трехмиллиметровой алюминиевой обшивки – близко и в то же время далеко.
– Ты был на том, предпоследнем корабле?
– Вот так штука! Значит, это ты кружил над нами?
– Странно, правда? – невозмутимо удивляется он.
Работников метеостанций на недоступных, ощетинившихся скалами островах Валерий узнает по голосам, он сбрасывает им свежие огурцы и газеты, но, окажись он в ленинградском трамвае рядом с кем-нибудь из них, они не узнали бы друг друга. Тот раз нам удалось пробиться сквозь последние пятьдесят, а может быть, всего пятнадцать метров высоты, которые отделяли мой корабль от его самолета, капитанский мостик "Вилян" от голубого рабочего стола Валерия... Даже в условиях относитель-{108}ности пространства, времени и человеческих отношений Севера это редкий случай. В этот миг я необыкновенно ясно, почти физически ощущаю сложное переплетение мира, зависимость нашей судьбы от сотен и тысяч обстоятельств, которые кажутся таинственными и не подвластными человеческой воле, как рокот самолета тогда над затянутым туманом Ледовитым океаном, но если начать распутывать клубок, в конце концов обязательно наткнешься на парня с зеленым или красным карандашом в руках, как раз в эту минуту откидывающего русую прядь со лба. Кроме конкретности, в этом опыте нет абсолютно ничего нового.
Кабина пилота залита солнцем и синевой. Слева по борту появляется северная оконечность Новой Земли, солидный кусище суши с пологими горными вершинами, коричневыми, как замша. Мыс Желания устремился в мерцающее море наподобие лошадиного копыта, и только при виде темнеющих точек – домиков полярной станции – я начинаю в полной мере понимать мощь здешней природы и величие человека, сумевшего вцепиться в скалистую крутизну и пустить корни посреди белых ледовых полей и синего, как флаг, моря, которое простирается перед нами, такое же пустынное и торжественное, как в далекие времена Баренца. Это он обронил здесь голландское слово Eck Begierde, всего-навсего слово в дрожащей от холода пустоте, которую ветры, тысячелетиями продувавшие ее насквозь, сделали такой гладкой и обтекаемой, что даже слову не за что было бы уцепиться, если бы его не вынашивала крылатая надежда многих поколений. Eck Begierde – Мыс Желания – переводим мы сейчас, пожалуй, правильнее было бы сказать Мыс Грез, Мыс Чаяний: ведь Баренцу мерещились за ним пагоды и жемчуга жарких широт, далекие сказочные страны, где месяц опрокинулся навзничь, а Полярная звезда висит на вершинах пальм. Мы летим дальше на север, даже не покачав крылами в память мужественных первооткрывателей, и меняем курс только тогда, когда горизонт наконец в одном месте разрывается и белый сверкающий парус закутывается в кучевое облако.
– Зефеи, – произносит штурман за моей спиной, смысл этой дегероизированной аббревиатуры доходит до меня уже после того, как самолет поворачивает на юг и видение исчезает.
– Это Земля Франца-Иосифа?! {109}
Штурман кивает головой.
– Идите в купол, оттуда, может быть, ее еще видно.
Земли Франца-Иосифа я больше не увидел, зато мир отсюда кажется совсем иным. Один купол у нас в потолке, он служит для измерения высоты звезд и солнца, другой, огромный, как глаз аллигатора, – на левом борту (может быть, лучше сказать, пользуясь морской терминологией, – на бакборте?), позади кресла пилота. Вот в этом-то куполе я и устроился: локоть, плечо и голова за бортом самолета, как будто в открытой спортивной машине; я вижу отсюда вибрирующий конец крыла, тяжелую сигару мотора с неподвижным нимбом пропеллера, руль высоты, похожий на тонкий палец, высунутый из самолета, и сверкающий ряд иллюминаторов – ощущение такое, словно я гляжу откуда-то со стороны на свою собственную жизнь.
И еще немало других тайн открывается мне из этого купола, на прозрачном днище которого перекатываются забытые кем-то огрызок карандаша и зеленый ластик. На письменном столе я их наверняка не заметил бы, а здесь они простодушно парят над арктическим морем, и под ними сто метров сизой пустоты. Наблюдаю за тем, как из этой пустоты рождается туман. Он поднимается из моря длинными полосами, извиваясь и все же сохраняя строгую параллельность, будто проходит между зубьев гигантской гребенки, похожий на разводы песка в мелкой прибрежной воде. Это и есть разводы, потому что между ними движется ветер, гася сверканье воды. Какой голубой, оптимистичный мир! Небо со всеми своими облаками отражается в море, как будто море сжалось до размеров маленького озера, а небо превратилось в одно-единственное огромное облако. Мы поднимаемся еще выше, и через мгновение внизу распахивается уже совсем в других красках и измерениях трехслойный мир. По темной поверхности моря плывут ледовые острова, похожие на тучи-великаны, в чернеющих разводьях открытой воды отражаются облака, плывущие по небу, перевернутые и застывшие в головокружительной глубине по ту сторону стеклянной поверхности воды, а сами мы летим в третьем слое облаков, и он становится все плотнее и плотнее. Еще раз промелькнуло ледовое поле с голубым озером, похожим на осколок неба, и в следующее мгновение мы застываем на месте, неподвижно повисая в безглазой пустоте, в которой нет ни света, ни красок, ни ощущения {110} скорости и вязнет даже монотонное бодрствование моторов. Наш затянутый черной фланелью свод превратился в казахскую юрту на высокогорном пастбище, полную тихих предвечерних хлопот, – кажется, сейчас розожгут костер и поставят на огонь бешбармак, вот только не слышно фырканья лошадей за войлочной стеной и домбры с длинной шейкой, на ней черноглазый Наубат посылает к звездам свои песни.
– Как в юрте.
– Как в молоке. У нас говорят: спокойно, как в молоке, – уточняет штурман. – Ваш караван застрял где-то здесь.
Я не сразу понял, о каком караване он говорит: "Виляны"?! Я уже успел забыть о судне, но теперь оно сразу всплывает в моем воображении... Рокот самолета, и Халдор нажимает на медную дверную ручку, которую матрос Маклаков во время второй вахты до блеска натер "сидолом". Он выходит из теплой рубки на стылый бортовой мостик и, щуря глаза, вглядывается в небо, но шум удаляется и гаснет. Да и самолет ли это? "Самолет! Самолет!" хочется помахать ему рукой отсюда, сверху. Но наши пути уже разошлись.
– Может, пойдешь с нами? – спрашивает Валерий.
– Куда?
– Радист говорит, что завтра полетим на Землю Франца-Иосифа.
– На четыре дня, – уточняет второй пилот.
Спасибо, друзья, спасибо, и прощайте!
Приземляясь, мы спугиваем со шхер чаек.
"Дрейфующие станции, остров Жаннетты, СП-13, СП-14", – читаю я в дневнике. "Мазурук, Певек, Немчинов, Купецкий". Мне надавали с собой адреса в обе части света, как будто я мог потеряться, а может быть, они и в самом деле опасались этого. И еще слова Колесникова: "Вот если бы я вел дневник!" Когда на рассвете послышался гул самолета, я бросился к двери, но штурман махнул рукой: "Это ИЛ-18, летит на высоте восемь тысяч метров, спешить некуда!" Утром они сделали круг над взлетным полем и покачали крыльями, а я махал им черным беретом, стоя посреди тундры, под низким небом, которое поглотило самолет.
Опять один. {111}
ИНСТРУКЦИЯ ПРОТИВ ВСЯЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ
Если бы мы терпеливо и последовательно – строчка за строчкой – читали все инструкции, которые подстерегают нас в трамвае, на пляже, в магазине игрушек, на этикетке галстука или на конверте, можно было бы спокойно прикрыть добрую половину юмористических журналов, а вместо них печатать новые инструкции. Вроде тех, которые пытались защитить честных (и бесчестных) любителей бани от эдипова комплекса и от пороков острова Лесбос. Коридор гостиницы на Диксоне украшали шесть пар плюшевых гардин с воланами. Между ними, на почетном месте, красовались инструкции, оповещающие постояльцев о том, как следует вести себя в гостиницах. Это были прекрасные инструкции, предполагавшие, однако, что все, кроме их автора, отъявленные головорезы или по меньшей мере хронические алкоголики. Пусть это останется на его совести. Особенное недоумение вызывал последний параграф, строго-настрого запрещавший "противозаконное включение" огнетушительных приборов. Я с недоумением огляделся по сторонам: ни огнетушительных приборов, ни тех, кто жаждал бы немедленно их включать. Ничто не подтверждало возникшего было подозрения, что я оказался в сфере деятельности неведомой мне доселе секты огнетушителей, к тому же, кроме гигантской железной бочки у наружной лестницы, в которой плавали окурки, не было ничего, что бы могло спровоцировать к запретной деятельности. Позднее я получил возможность более справедливо оценить тонкую психологическую одаренность анонимного автора: в долгие часы ожидания самолета все чаще ловил я себя на странном желании с оглушительным грохотом перевернуть ту проклятую бочку, как только ночи станут потемнее.
Думал я и о том, что единственная профессия, которая у нас не охраняется законом, – это профессия путешественника. Ведь путешествия и в самом деле для многих стали профессией, если, конечно, не превратились в болезненную страсть. У путешественников общие цели и приметы, они делятся по разрядам, как токари или шахматисты, у всех у них нетерпеливый характер и даже почти одинаковый язык. Они добры, энергичны и всегда солидарны друг с другом. Чаще всего это не очень-то помогает их продвижению вперед, хотя рано или поздно они {112} все-таки добираются до цели. Но с какой затратой времени, нервов и денег! Когда вернусь домой, подумал я, организую профсоюз путешественников и составлю прекрасный свод правил о том, как путешествовать не по правилам.
Может быть, это осталось от немцев петровских времен? Нет более разительного контраста, чем контраст между брюзгливой педантичностью буквы и славянской беспечной сердечностью, – два мира, слепо и радостно взаимоисключающие друг друга.
Двадцатиминутный разговор с начальником отдела перевозок – с мадам, внешне меньше всего похожей на садистку, в личной жизни она может оказаться премилой бабушкой, которая по субботним вечерам потчует внуков блинами, этот двадцатиминутный разговор начинается на паритетных началах, а кончается односторонне, не приводя ни к каким результатам. Самолета нет – и точка. Что с того, что по расписанию он должен быть, его нет, потому что мало пассажиров. "Не полетит же он из-за одного человека", – говорит она, рассчитывая на мой покорный кивок, и с резким щелчком захлопывает журнал. Этот сухой щелчок наводит на мысль о мухоловке: щелк – и нить жизни порвана – или о захлопывающейся тюремной двери: вдруг понимаешь, что надежды на адвоката, веревочную лестницу или мчащегося во весь опор коня рухнули. Журнал захлопнулся, и перед моим мысленным взором возникают кучи мусора на улицах Диксона и я сам, с помощью метлы зарабатывающий себе на хлеб насущный. Признаюсь, в это мгновение мне ужасно захотелось включить какой-нибудь огнетушительный прибор, запрещенный инструкцией! Набираю полные легкие воздуха, но их объем у меня невелик, если бы это сделал Тийт Куузик, мы попали бы на самолет куда быстрее. Впрочем, хватает и моих. Мадам, не зная, какую словесную форму я собираюсь придать воздуху, медленно и неохотно, явно колеблясь, поднимает палец, будто это чрезвычайно неприятный палец незнакомого ей человека, и произносит:
– Впрочем, я могу попытаться...
И поднятый неизвестно для чего палец, выбрав одну из двенадцати кнопок, вдавливает в нее, как ядовитое жало, свой наманикюренный ноготь. В этот миг я навеки вычеркиваю из ее анкеты блины с вареньем. Двадцать {113} минут пререкаться, когда можно было один раз попробовать?!
– Послушай, Коля, тут у меня один парень, рвется иа восток...
– Ну и что?..
В ту же секунду дверь распахивается и из-за перегородки врывается волосатый экзистенциалист. Я несколько дней приглядывался к нему и уже успел причислить к тем, у кого можно было бы кое-что узнать о деятельности секты огнетушителей.
– Не один, а девять! – выкрикивает он, с трудом переводя дух.
– Слышишь, Коля, не один парень, а девять...
– Раз так, можно подумать, – доносится из селектора.
Я хватаю волосатого огнетушителя за рукав ватника, отталкиваю от двери и кидаюсь вверх по лестнице в башню, едва успев заметить табличку: "Посторонним вход строго..." – последнее слово так стерлось от указующих на него перстов, что вполне может сойти за слово "желателен". Во всяком случае, это та самая лестница и та самая дверь, куда я должен поспеть раньше, чем Коля начнет думать, ибо мысль диспетчера тоже не всегда течет в нужном направлении. Он сидит у большого пульта, спиной ко мне.
– Вы обещали подумать, – набрасываюсь я на него. – Мы хотим...
– Порядок! – ухмыляется парень. – Вещички у вас упакованы?
Здесь и вправду все в порядке: аквариум пахнет чистотой, озоном и нагретыми проводами, на стенах развешаны карты, жужжат трансформаторы, мигают измерительные приборы, из эфира сыплются слова и цифры, может быть, среди них затерялся и голос самолета Валерия; всем этим безупречно налаженным хозяйством со своего крутящегося кресла управляет Коля, он предлагает мне закурить и время от времени небрежным движением руки переводит одни судьбы на магистральную дорогу, другие – на проселочные. Нужно вернуть культуру на землю, сказал бы Юхан Смуул, но сойдет и так, я согласен лезть за нею в башню и в следующий раз начну отсюда, вместо того чтобы на этом кончить. {114}
ОДНОКАШНИКИ В АПЕЛЬСИНОВОМ НЕБЕ
Через три четверти часа я покидаю Диксон по составленному мною же расписанию; меня тоже провожают, и когда провожающий меня поворачивается и начинает удаляться – быстро уменьшающаяся точка в ржавого цвета тундре, впитывающей незаходящие лучи вечернего солнца, – я вспоминаю, как махал рукой летчикам, улетавшим на Землю Франца-Иосифа, и еще раз в полную меру осознаю тоску остающегося и радость передвижения. Наверное, то же самое испытывают пилоты, с которыми я лечу: они только что вернулись из Антарктики, им полагался долгий, беззаботный отдых, но они не выдержали и сбежали от него. Сегодня их первый рейс, и здесь, в круглосуточном солнце Таймыра, в знойную полночь, в тиши кабины пилота, они снова хозяева пространства, времени и своей судьбы.
– Тарея, – кивает Игорь Николаевич в сторону земли, ни для меня это пустой звук, я знаю только восточное побережье этого большого полуострова и уж совсем не могу представить себе бревенчатый домик, на пороге которого сидит сейчас мой однокашник с карандашом в руках, держа на коленях страничку, вырванную из тетрадки в клетку.
"Здравствуй, Леннарт, – пишет он, затем прислушивается и, убедившись, что шум мотора доносится не из-за низкой береговой излучины, а с ночного неба, окрашенного в апельсиновый цвет, с неизвестного самолета, продолжает: – Сейчас 0 часов 45 минут. Светит солнце. Только что узнал, что завтра утром пришлют самолет за профессором Тихомировым, он должен лететь в Финляндию. Значит, могу послать тебе письмо. Ведь никакого сообщения с Большой землей отсюда нет.
Нахожусь в Тарее, единственном населенном пункте Западного Таймыра. Здесь пять домов, метеостанция и десять рыбаков, ну, и наша экспедиция. Природа чертовски интересная – тундра, горы. Работы выше головы, Рыбы навалом. В общем осенью все расскажу.
Теперь о тебе. Юрцев уехал на Чукотку еще пятнадцатого июня. Точного его местонахождения я не знаю. Сюда ты можешь добраться так: 1) на самолете из Москвы в Норильск (пять часов, восемьдесят рублей), 2) из Норильска в Валек – там есть гавань для гидропланов. Тов. Хан скажет тебе, когда самолеты полетят в Тарею {115} за свежей рыбой. Вторая возможность попасть сюда – на катере, но они ходят редко. Тарея находится в пятистах километрах от Норильска – по реке Пясина на север, в том месте, где река Тарея впадает в Пясину.
Я пробуду здесь еще недели две, остальные – до конца августа. Дела здесь тебе хватит. Народ приветливый.
Кончаю. Страшно хочется спать, сплю я тут мало, еще не привык к солнечным полярным ночам. Всего хорошего. Твой Антс".
Два месяца это письмо будет ждать меня дома, на столе.
Двум путешественникам встретиться проще, чем двум соседям. Почему-то вспоминаются Фрэд Хойл и теория красного смещения.
Строки, написанные на берегу Тареи, и мысли, возникшие в небе над Тареей, далеко не первые, родившиеся здесь на эстонском языке. Мои однокашники бывали в этих местах и раньше.
Владелец матрикула 1 № 3019.
"У старых людей черты финского племени особенно бросаются в глаза. Один дряхлый старик был так похож на знакомого эстонца из наших родных краев, что Фурман воскликнул: "Это же Юри из людской!"2
Эти строки принадлежат "верховному шаману" Таймыра – так нарекли здесь Миддендорфа*. Я всегда испытываю чувство вины, когда думаю о нем. Мир был бы куда беднее, если бы мы знали Гёте только как физика, Шамиссо – как ботаника, а Бородина – химиком. Нечто подобное случилось и с Миддендорфом: ореол ученого заслонил тот небольшой поэтический огонь, который освещал его дальние странствия. Но это бы еще полбеды. История науки не может достоверно объяснить, как сумел Миддендорф справиться с трудностями путешествия, гораздо большими, чем те, которые выпали на долю Росса, Парри, Ливингстона или Стэнли. История науки не может ответить на этот вопрос, потому что она – история научных идей. Драма характеров, нравственные проблемы, сложное переплетение человеческих отношений – все это отступает, растворяясь в драме идей. Они главная {116} опора истории и ее ахиллесова пята. Наука кyмyлятивна, она создает себя с одного конца и разрушает с другого, в отличие от искусства, которое через тысячелетия донесло до нас "Илиаду" первозданной и вечно молодой. В середине прошлого века Миддендорф считался лучшим знатоком Северной Азии, но на склоне лет должен был уступить это звание другим. Он мог исчезнуть в истории науки, мог превратиться в погремушку юбилейных сессий или уютных вечерних бесед почтенных академиков, если бы в его путевых дневниках не сохранилось то, что не подвластно воздействию времени, – человек. Открытие Миддендорфа, воссоздание его образа еще впереди, порукой тому исключительность этого характера.
На протяжении всего путешествия через Сибирь Миддендорфа не оставляла мысль о том, что со стороны матери он происходит из эстонских крестьян, что его дед и бабка были крепостными на мызе Клоога. Странствуя среди малых народностей Таймыра, он не ощущал себя пришельцем извне, он общался с ними не как представитель большого мира, а отождествлял себя с ними, разделяя их взгляды на этот большой мир вокруг. Оно, это отождествление, не было прагматичным, не было целесообразностью, навязанной Миддендорфу примитивными условиями существования, хотя и оказалось целесообразным и единственно приемлемым и не раз спасало жизнь исследователю в обстоятельствах, когда надежды на спасение почти не оставалось. Корни такого его отношения к малым народам глубже и сложнее. На Таймыре, любуясь, как люди из племени асья 1 танцуют медвежий танец, Миддендорф записал в дневнике следующие строки: "Я видел, что и во время вьюги племя асья танцевало этот танец в занесенной снегом тундре так истово и увлеченно, что снег под их ногами становился гладко утоптанным, как земля на гумне, а лица танцующих покрывались бусинками пота. "Tout comme chez nous"2, – бормотал я себе в бороду". Исходная точка его сравнений и ассоциаций, его надежд и мечты о будущем абсолютно конкретна. "Penikoorem 3, – размышляет он, меняя на льду Енисея лошадь на ездовых собак, – не свидетельст-{117}вует ли это слово о том, что ездовые собаки некогда играли важную роль и в жизни эстонцев?" Решительнее всего отмежевывается он от своих современников, когда описывает образ жизни народов Севера. В том, что для царских чиновников было варварством и "постыдным паясничанием язычников", Миддендорф увидел культуру и музыку. Описывая национальную одежду нганасан, отличающуюся изумительной красотой, он желчно замечает: "И этих сообразительных самоедов называют дикарями! Вероятно, потому, что они отказываются креститься, не ищут контактов с поселенцами и держатся с чувством собственного достоинства, сознавая свою зажиточность и независимость. Говорят, они уехали на своих санях, бросив в тундре не только епископа, но и самого асессора, полновластного самодержца Туруханского края, так как он обращался с ними свысока, быть может, даже несправедливо".
После совместной охоты на оленей, во время которой нганасаны пользовались луком и стрелами, Миддендорф с иронией писал о колониальной политике царизма: "В шведской Лапландии ружье сто лет назад вытеснило лук и стрелы, а негры приморских районов Африки знакомы с ружьями уже более двух столетий. Чем объяснить такую разницу в вооружении? Меньше всего пассивностью моих друзей! Нет, их оставляют так долго без современного оружия намеренно. Длинная цепь бунтов, последовавшая за захватом Сибири, явилась причиной неоднократных, все более строгих запретов снабжать туземцев ружьями. Создалось абсурдное положение, когда правительство, монополизировавшее торговлю порохом, запрещает продажу охотничьего снаряжения своим подданным, несмотря на то, что охота для них единственное средство существования, и в то же время оно взимает с них, налог шкурками зверей, на которых нужно охотиться".
Миддендорф описывает образ жизни северных народов без малейшего предубеждения; у европейца "словно спадает пелена с глаз, и он вдруг начинает понимать, что в этих первобытных условиях существования заключена законченность, созданная в результате тысячелетнего отбора". По вечерам Миддендорф вместе со всеми членами племени голый садится у костра и ищет вшей в одежде из оленьих шкур. Вождь племени Тойчум не верит, что дома у Миддендорфа вшей нет. "Говори, что хочешь, но три штуки у тебя должны быть, иначе ты бы умер",– {118} с осуждением качает он головой, ибо нганасаны превыше всего ценят честность. Через полгода этот же Тойчум без колебаний пустится в дальний путь, чтобы спасти жизнь Миддендорфу, оставшемуся в тундре. Осенняя шуга разбила и перевернула экспедиционную лодку, вместе с ней пошли ко дну рыболовные снасти и последние сухари, и, истощенный хроническим голодом и нечеловеческим напряжением, ученый слег. Трезво оценив создавшуюся обстановку, он решил пожертвовать собой и остаться в тундре один. "Людей может спасти лишь немедленное возвращение. Если моим спутникам 1 удастся достаточно быстро встретить самоедов, они смогут вызволить и меня. Если быстро найти самоедов не удастся, все-таки остается надежда, что спасутся хотя бы они. Если же самоеды уже откочевали в свои зимние становища и встреча вообще не состоится, гибель будет нашим общим уделом". Я убежден, что эти исполненные спокойной решимости слова понравились бы Роберту Скотту*. Может быть, они были бы так же знамениты, как последние слова Скотта, останься они последними. Но Миддендорф носил на Таймыре титул верховного шамана: он не только вел естествоведческие наблюдения, но и изо дня в день лечил людей. Миддендорф был врачом, врачом с дипломом Дерптского университета; за пять лет до экспедиции в качестве эпиграфа к своей диссертации он взял слова Шамиссо: "Тем, кто мечтает увидеть нецивилизованный мир, я советую предварительно запастись дипломом врача, как головным убором, во всех отношениях удобным путешественнику". Он вел себя в тундре не как асессор, а как свой человек, и не трогательно ли, что старый Тойчум, поспешивший ему на помощь и вынужденный вернуться обратно из-за снежного бурана, снова пустился в спасательную экспедицию, походившую скорее на похоронную процессию: где-то далеко на севере, в покрытой высокими сугробами скалистой тундре, посреди безжизненной пустыни, которую нганасаны из-за религиозных суеверий всегда обходили стороной, в глубокой расщелине, похороненной под снежным завалом высотой почти в три метра, которую, по всей вероятности, уже не удастся найти, угасал его друг, имени которого он, наверное, не сумел бы произнести. У Миддендорфа оставалось еды на два дня, это было мясо его белого пойнтера, верного {119} четвероногого друга, привезенного из Эстонии, а шел уже двадцатый день... "Меня охватывал неописуемый страх при мысли, что я могу потерять рассудок, он сжимал сердце судорогой, становился невыносимым. На протяжении нескольких дней сознание мое мутилось; хотя я и пытался отмечать каждый день, но, как выяснилось позднее, я ошибся на двое суток". Потерявший всякую надежду Миддендорф предпринимает отчаянную попытку, которая могла стать для него роковой: собрав последние силы, он выбирается из каменистой щели и пытается идти к югу. Было подлинным чудом, что они встретились, таймырская тундра изрезана горами. Но и это еще не все – они встретились и вернулись в злополучную расщелину, потому что Миддендорф хотел спасти свой "лучший термометр"...
...Кажется, будто над Таймыром только что прошел дождь. Полуостров блестит и сияет, как асфальт после летней грозы, ассоциации, возникающие здесь, наверху, в самолете, невольно оказываются сентиментальными и чуть-чуть эстетскими. Я тщетно пытаюсь представить себе окруженное скалистыми горами озеро, которое медленно покрывается наводящим ужас льдом, гигантское озеро со скалистыми островками, противоположный берег которого теряется за горизонтом. Вместо него отсюда, из кресла, виден слева мыс, до которого Миддендорф так и не добрался, но которому он дал имя Челюскина...
Я хотел бы указать еще на одну, может быть, самую главную черту в характере этого удивительного человека. Широте его души соответствовала широта его взглядов. Твердо стоявший обеими ногами в своем противоречивом, страдальческом времени, он умел проникать взглядом в далекое прошлое, где таились истоки многих занимавших его проблем, более того – он умел заглянуть в далекое будущее, где надеялся увидеть золотые плоды человеческих устремлений. В ослабленном голодом и холодом мозгу пульсировала оптимистическая мысль, опередившая даже наши дни: "Да, я осмелюсь утверждать, что под этими высокими широтами, где я сейчас нахожусь, можно успешно выращивать даже овощи! Не следует думать при этом об овощах, известных в нашей климатической полосе. Вместо них, как я уже ранее установил, здесь можно было бы выращивать растения Дальнего Севера, многие из которых очень приятны на вкус и {120} в качестве ранних весенних или поздних осенних сортов обогатили бы и наши сады. Но в любом случае для оседлых арктических экспедиций чрезвычайно желательно выращивать разнообразные виды овощей Дальнего Севера". Это пожелание Миддендорфа и сегодня еще стучится в двери всех столовых – от Мурманска до поселка Уэлен – и, наверное, будет стучаться, увы, еще и завтра.
...Таким был этот двадцативосьмилетннй молодой человек, который в одну августовскую полночь достиг большой воды. Позади осталось почти двухмесячное плавание на лодке – без палатки, чтобы уменьшить груз, и почти без пищи, потому что все необходимое для жизни ему, как нганасанам, должны были дать рыболовная снасть и тундра. Разумеется, у него не было никакой карты. Достигнув большой воды, он попробовал ее на вкус. Вода была соленой. Миддендорф записал: "Мы изо всех сил гребли против начавшегося прилива и пронизывающего северного ветра... Приложив неимоверные усилия, мы достигли огромной глыбы, которая оказалась не льдиной, а белым кварцевым утесом, вынесенным ледоходом на вершину скалистого острова. Итак, наконец-то тринадцатого августа в три часа утра мы вышли к Ледовитому морю. Я дал острову имя Бэра, и мы сошли на его берег.
На острове мы обнаружили бревенчатую избушку. Я уже не сомневался, что передо мной – следы экспедиции Лаптева. По всему побережью в изобилии валялся плавник. Вода была соленой. Перед нами открывался бескрайний залив. Всюду, насколько можно было видеть в мой бинокль, простиралось открытое море, нигде не было видно ни льда, ни туманной дымки, свидетельствующей о наличии льда"1.
Таймырский поход был всего лишь эпизодом для экспедиции Миддендорфа, длившейся три года, во время которой он прошел тридцать одну тысячу километров. Среди многих титулов и наград, щедро посыпавшихся на него, наряду с титулами верховного шамана Таймыра, почетного доктора Тартуского университета и почетного члена Тартуского общества естествоиспытателей он был удостоен золотой медали Виктории Лондонского королевского географического общества – самой высокой награды того времени, присуждаемой за заслуги в области {121} географических открытий. Миддендорф был отмечен этой медалью совсем молодым, так же как Нансен через несколько десятилетий после него.
Кстати, вспомним слова Нансена: "От этого мыса земля поворачивает на восток, образуя широкий залив, который получил название залива Толля". (На борту "Фрама", 7 сентября 1893 года.)
Разговор продолжает наш третий однокашник – Эдуард Толль*, матрикул номер 10215, год 1901: "Скала представляла собой огромную глыбу кварца... Не подлежит никакому сомнению, что это тот самый глинт, который Миддендорф видел на острове Бэра, что это и есть описанная им глыба. Если мы находимся на острове Бэра, значит, где-то здесь должна быть бревенчатая избушка Фомы! 2 Пройдя несколько шагов на восток, я увидел в бинокль нечто похожее на остатки избушки. Я поспешил туда и действительно увидел перед собой полуразрушенный домишко... От него остались лишь нижние венцы, верхние обвалились вовнутрь: двери лежали также внутри дома... Я сел отдохнуть на бревна, чувствуя себя счастливым оттого, что нашел самые северные следы пребывания Миддендорфа и что, заполнив пробелы, оставшиеся на географической карте, я получил возможность хоть в какой-то мере выразить этим благодарность своему учителю. Как все здесь прекрасно в этом прозрачном полуночном свете, как напоминает рокот волн, шум моря на моей родине, как величественна здесь природа и как ничтожен по сравнению с ней человек".