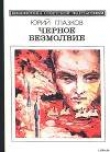Текст книги "Мост в белое безмолвие"
Автор книги: Леннарт Мери
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
– Возьмите! Оставите в Петропавловске.
– А как же вы?
– У меня есть еще одна. Там, наверху, минус сорок, замерзнете.
Я замерз и в шубе. Получив в гостинице койку, я спустился в тренировочном костюме спортивного общества "Калев" в ресторан на первом этаже. Три капитана издали жестами пригласили меня за свой стол, и тогда-то я впервые увидел Халдора. Его не назовешь ни старым, ни молодым. Он принадлежит к тому типу худощавых людей, лица которых не меняются, потому что там нечему меняться: черты резки и законченны, как на ксилографии, а такие синие глаза и рыжие волосы встречались уже на судах Отера, ходивших под кожаными парусами. Для капитанов не осталась незамеченной моя однобокая диета – я ел один суп, и на следующий день они скинулись на обратный билет для меня. Расписки я не предлагал, просто записал на листок бумаги свое имя и адрес и попытался сунуть его кому-нибудь из них в карман пиджака. С громким хохотом они убегали от меня, перескакивая через многочисленные кровати гостиничного общежития, первое ме-{91}сто в этом беге с препятствиями занял Пеэдо, хотя у Халдора ноги были длиннее. Мы звали его Пеэтером, и под этим именем его знали по всему Дальневосточному пароходству, иными словами – на Тихом океане. Во время последнего землетрясения он упал в порту с трапа, разбился и умер в Нымме, на расстоянии всего лишь нескольких улиц от меня, но мне об этом сообщили с Камчатки, так что было слишком поздно. Случается, капитаны умирают и так. Тогда я думал, что встреча с Халдором – последняя точка, заключающая мое путешествие по Камчатке. Так оно и было, но конечная точка всегда и начало чего-то нового.
Так вот и сегодня. Мне и сейчас трудно поверить, что у меня не было времени проститься с Халдором. Пожалуй, именно это угнетает меня больше всего, а может быть, гнетет и грязь, в которую я проваливаюсь, направляясь в сторону зеленой постройки,– судя по мачтам, это управление порта. Я шагаю как во сне: прыжок из одного мира в другой слишком резкий. Никого не встретив, вхожу в комнату, из которой доносится попискивание морзянки, киваю радисту, беру в руки трубку радиотелефона, вызываю "Виляны" и прошу позвать на мостик капитана. Из окна примерно в километре отсюда, на сером, как сталь, рейде Диксона, который ветер быстро заполняет плавучим льдом, вижу "Виляны". Лямки рюкзака врезаются в плечи, и остров Диксон на горизонте кажется недосягаемым ощетинившимся утесом. Рейдовый катер привез меня не на тот берег залива и высадил в крохотном поселке на материке; попасть отсюда при такой шуге на Диксон, пожалуй, сложнее, чем с Диксона дальше, на Чукотку. Я слежу за неподвижным кораблем, представляю себе, как матрос Маклаков стучится в дверь каюты Халдора; наверное, Халдор, вернувшись от Майнагашева, уже сменил свою парадную форму на тренировочный костюм, может быть, даже лег поспать, ведь мы с ним проговорили всю ночь, но вот он уже открывает дверь на мостик, берет микрофон и говорит. Что он скажет? "Леннарт, ты?"
Именно это он и произносит.
– Я хотел попрощаться с тобой.
– Жаль, что так получилось. Если бы у тебя было больше времени.
– Так ведь нет. Когда ты выходишь?
– Сейчас. Сам видишь – к обеду залив забьет льдами. {92}
– Ну, передавай привет Фариду и всем остальным,
– Непременно. Что думаешь делать?
– Не знаю еще.
– Разыщи Майнагашева. И постарайся попасть на остров до обеда. Потом может быть поздно.
– Кто говорит? Кто говорит? Немедленно прекратите разговоры на иностранном языке,– слышится вдруг из динамика чей-то симпатичный голос.
– Ну, доброго пути!
Я не уверен, что Халдор услышал это пожелание, ибо неизвестный входит в раж и эфир грохочет из-за его филологической некомпетентности, пока наконец Халдор не прерывает его, и неизвестному приходится довольствоваться почетным вторым местом. На душе немного светлеет. Иду в лавку и покупаю расческу – моя осталась в ванной комнате на подзеркальнике. Оставляю рюкзак в чьем-то кабинете, его хозяин обещает мне помочь переправиться на другой берег, и направляюсь к бараку с высокой железной трубой – то ли котельной, то ли хлебопекарне. Здесь поселок кончается, дальше тянутся одни коричневые скалы, закрывающие вид на океан. За ними и должен исчезнуть "Виляны". Судно приближается малым ходом и кажется сегодня особенно прекрасным со своими наклоненными мачтами, ослепительно белой палубной надстройкой и со всеми своими людьми на мостике, в машинном отделении, на камбузе и в каютах. Сначала за скалой скрывается нос корабля, на флагштоке которого дети рисуют несуществующий флаг, и сразу за ним первая мачта; какой-то миг я вижу иллюминатор своей каюты, бортовые иллюминаторы каюты Халдора, затем проплывают капитанский мостик, труба и кормовая палуба, полная груза: красивые жилые вагончики Таллинского машиностроительного завода, огромные электромоторы и полный трюм цемента из Кунды, который мы везем на новостройки Колымы и Чукотки; исчезает кормовая надстройка, последний раз мелькает флаг, и все это похоже на бесконечно долгий сон, от которого хочется проснуться. Позднее, вспоминая "Виляны", я всегда вижу судно медленно и неотвратимо исчезающим за скалами, и постепенно эта картина, это беспредельно длинное мгновение заслоняет все другие воспоминания, связанные с кораблем.
Наверное, я был слишком требовательным, но в конце концов катер отчалил от берега. Лед сжимает и молотит нас, поднимает высоко на гребень волны и бросает {93} бортом вперед обратно в воду. Нас движет не сила винта, а сила водного потока, опасность перевернуться кажется неизбежной, надежда на спасение – ничтожной. Привязываю рюкзак к рулевой рубке и готовлюсь к худшему, ибо, как это ни странно, всякая скверная ситуация может стать еще хуже, намного хуже, и оттого, что мы понимаем это, ни у кого не опускаются руки, наоборот, робко поднимает голову оптимизм. Уже вечер, и на небе пробивается солнце, когда мы достигаем пустынного берега, там стоит мальчик лет десяти и внимательно разглядывает меня. Стыдясь своего голоса, я спрашиваю у него дорогу к гостинице. Ковыляю по глинистой, проложенной трактором колее вверх по береговому откосу. Остров голый, открытый всем ветрам, то тут, то там перекрещиваются полосатые следы гусениц трактора и, теряясь за горизонтом, исчезают в тундре. Бочки из-под бензина, утонувшая в грязи цистерна, искореженные металлические детали. И все-таки – солнце. И шаги – паренек идет следом за мной, останавливаюсь я, останавливается и он. Первые дома барачной постройки, пузатые противопожарные бочки по обе стороны двери, деревянные мостки через ядовито-зеленые лужи, на пузырящейся поверхности которых плавают консервные банки и бутылки, транспарант с выцветшими буквами. Это не Диксон, это – мое щемящее чувство неприкаянности.
– Теперь вам надо свернуть налево,– слышу голос мальчика. Я уже успел забыть о нем, а он все идет по моему следу, серьезный и странный.
– Послушай, не пора ли тебе домой?!
Он трясет головой.
– Наверное, мама и папа давно ждут.
Он трясет головой.
– Раз так, проводишь меня до гостиницы?
В небе все еще висит солнце. По ту сторону тонкой перегородки помещается уборная. Из окна второго этажа виден склад, перед которым вышагивает сторож. Тридцать шагов вперед, тридцать обратно. Теперь ему не хватило одного шага, он очень удивлен, я удивляюсь вместе с ним. Поодаль мужчина рубит на топливо табуретку. Ночное солнце палит, в вате между двойными рамами жужжит муха. Полуночная пара гуляет далеко в тундре по водоводу – коробу, наполненному опилками и поднятому на метровые столбы. Словно какая-то кошмарная стена извивается он по холмам, через овраг, дотягивает-{94}ся до небольшого озера в тундре, до серебристого водного зеркала, где все успокаивается в неподвижных лучах ночного солнца, сходит на нет и затихает, а в окно льются бесконечные дали...
– В октябре я снова был в море, на "Минне", и подал документы в мореходку. Помню, экзамен по математике я сдавал в День Победы,-продолжал рассказывать Халдор за чашкой кофе.
Но тут по судовой трансляции разнеслась долгожданная команда: "Экипажу занять свои места", Машина сбавила обороты, и Халдор встал,
– Сколько вас было в первом выпуске?
– Тридцать шесть.
– А сколько осталось?
– Шестнадцать,– пожал Халдор плечами и ушел на мостик.
Я лег спать. Сквозь сон я услышал грохот якорной цепи и усмехнулся. Через час или два матрос Маклаков потянул меня за ногу:
– Капитан вызывает на мостик.
Спросонья я кинулся наверх, но Халдора там не было. Высоко подняв дугообразные брови, Камо холодно промолвил:.
– Вы заставляете ждать капитана.
– Где он?
Поклонившись с видом дуэлянта, Камо подал мне маленький черный микрофон радиотелефона, такой коварный на вид, что я чуть не выронил его.
Это так похоже на Камо!
– Слушаю!
– Я у Майнагашева. Прогноз неважный. Что ты решил?
– Очень неважный?
– Мы можем застрять в пути недели на три, а то и больше.
– Я должен решить сейчас?
– Да. Рейдовый катер отвезет меня на судно, и больше рейсов не будет. Сам видишь – дрейфующий лед. Если хочешь сойти на землю, это единственная возможность. Ну как?
– Погоди...
– Ну? {95}
– Халдор, я сойду на берег.
– Жаль. До скорой встречи.
До скорой встречи! На Зеленом мысе?
На трапе ко мне протиснулась буфетчица, под мышкой у нее был пакет величиной с хорошую тыкву.
– Здесь бутерброды, консервы и сигареты, вы ведь курите "Приму"?
Конечно, курю, почему не курить, вот если она станет еще хуже, тогда перейду на "Экстру". Спасибо, ребятки, спасибо, люди, передайте привет Фариду, когда он проснется. И вот катер уже приближается, описывая четкую дугу и завывая, как машина "Скорой помощи". Я вскочил на нос катера, в следующее мгновение Халдор прыгнул с его кормы на трап корабля, наши протянутые руки не дотянулись друг до друга, катер тут же рванулся обратно. Халдор стал подниматься по трапу... И вот теперь над тундрой разносятся удары топора. {96}
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
добавляет, как это и положено, немного таинственности, еще более усугубляя переполох, царящий в корчме "Белая лошадь". Золотой империал на Большом рынке. Колдуна избирают почетным доктором Дерптского университета. Прыжок в сторону, на Большие Оранские острова, и истинное лицо члена секты огнетушителей. Я стираю носки вместе с Миддендорфом. Что бы подумал об этом Ливингстон?
РАЗГОВОР ЗА ТРУБКОЙ
Конец апреля в Эстонии выдался сухой, солнечный и прохладный. Вполне возможно, что запоздалая вьюга еще закрутит над землей, но тем больше ценят люди те позолоченные закатом вечерние часы, в медленном угасании которых уже чувствуется приближение северных белых ночей. Студенты, собравшиеся в один из таких вечеров перед корчмой "Белая лошадь" на репетицию, решили устроить перекур. Курить и участвовать в театральных представлениях им было строго-настрого запрещено, но за чертой города запрет терял силу, и тем усерднее затягиваются они из трубок с длинными чубуками и будто ненароком распахивают полы накинутых на плечи пальто, из-под которых виднеются вишневые и голубые театральные костюмы. Не за горами майские праздники, а значит, и шествие с зажженными факелами, с представлениями, с битьем профессорских окон.
В корчме зажглись огни. Сумерки поглощают аромат цветущей ольхи, громко шумят голые еще ветви дубов, в воздухе скользит козодой. Докурив свои трубки, студенты начинают репетировать последнее действие.
"Кто-то идет", – произносит вдруг студент с факультета государственного права, которому по причине его округлых форм приходится играть Доротею – главную {98} женскую роль. Сквозь сгущающиеся сумерки слышится стук подкованных сапог по усыпанной гравием обочине дороги, а через некоторое время появляется и сам запоздалый путник. Он высок ростом и шагает очень быстро. Так быстро, что Доротея начинает встревоженно вглядываться в него, и постепенно взоры всех остальных тоже обращаются к странному путешественнику. Если бы не стук подковок по гравию, могло бы показаться, что он скользит на коньках или на лыжах, загребая руками. Огромный ранец болтается у него за спиной, туго набитый патронташ на каждом шагу бьет по левому бедру. Странно выглядит и то, что человек этот в легком сюртуке с расстегнутым воротом, его клетчатое кашне небрежно перекинуто через плечо, а голова не покрыта, как у простолюдина, – словом, он будто только что вышел из дома. И отнюдь не отблеск закатного неба заставляет пылать медью его волосы, отросшие, как у крестьянина, до самых плеч.
Но вот путник заметил насторожившихся студентов, замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Однако, вместо того чтобы обратиться к ним с почтительным приветствием, как приличествует бродячему мастеровому, он принялся рыться в своем оттопыренном кармане. Когда он наконец нашел, что искал, студенты с растущим раздражением заметили, что в зубах у пришельца появилась трубка, к тому же куда как великолепнее Доротеиной, полученной в пярнуской гавани от какого-то голландского шкипера в вознаграждение за услугу, о которой он предпочитает не распространяться. Доротея, известный зубоскал, чувствует себя задетым и уже готов съязвить и поставить пришельца на место, но тут незнакомец одним длинным шагом преодолевает канаву, вторым перемахивает на косогор, и происходит нечто такое, чего Доротея никогда потом не сможет себе простить, даже через много лет, когда он уже займет ответственный пост куратора Благотворительного Экономического Союза Безупречных Вдов Почтенных Граждан Эстляндии. Кивнув собравшимся не то чтобы неуважительно, но и без особой почтительности, пришелец похлопал Доротею по плечу и показал большим пальцем руки на свою трубку. И хотя неухоженные руки и обветренное лицо выдавали его невысокое происхождение, от путешественника веяло такой беспечной самоуверенностью, что растерявшийся Доротея протянул ему тлеющий трут. {99}
У нас на Севере друзья познаются, когда приходит настоящая беда. Студенты угрожающе столпились вокруг незнакомца, и пока он с явным удовольствием затягивался разгоревшейся трубкой, кто-то язвительно спросил из-за спины Доротеи:
"Ты, верно, идешь из Риги?"
"I beg your pardon?" – вежливо улыбнулся пришелец, недоуменно вскидывая брови, как человек, не понимающий, что ему говорят.
Если бы он даже заревел крокодилом, окружающие не были бы ошеломлены больше.
– Вы, по-видимому, идете из Риги? – повторил тот же студент по-французски, и теперь его смущал уже не столько незнакомец, сколько собственное скверное произношение и сам вопрос, который он задавал.
– О нет, – ответил незнакомец, – я иду из Сарагосы. – И, не замечая настороженного молчания, вызванного его словами, возвратил Доротее трут. Премного вам благодарен, – продолжал он любезно. – Вы не могли бы сказать, что за город виднеется впереди?
– Дерпт, – запинаясь, отвечает Доротея, густо краснея от злости и сознания собственного бессилия.
– Ах, вот как! Прекрасно. Доброй ночи вам, – проговорил путник и, рассеянно тряхнув рыжей шевелюрой, свернул на тракт.
– Э-э... послушайте, господин... – крикнул Доротея ему вслед, – черт побери, куда же вы идете?
Уже стоя на большаке, Рыжий повернулся, вынул изо рта трубку и ответил:
– На Чукотку.
И вот уже снова слышится его рубленый шаг, и тоненькая струйка дыма, которая следом за уходящим вьется на гаснущем вечернем небе, приобретает в глазах жрецов Мельпомены очертания ироничного вопросительного знака. Медлившая доселе северная ночь вступает в свои права, заглушая плотным покровом почти все, что скажут угрожающие голоса перед корчмой "Белая лошадь", которую в народе до сих пор зовут трактиром Тамме. Мы же последуем за колеблющимся красноватым огоньком. Владелец трубки и пышной шевелюры, оставив за спиной огороды местных горожан, миновал шлагбаум и вышел из-за темных в этот час пригородных домишек {100} на косогор, откуда столбовая дорога стремительной дугой спускается к каменному городу. И вот уже шаги рыжеголового эхом отдаются на пустынных улицах, скудно освещенных и грязных. Неподалеку от ратуши он сталкивается с бородачом, несущим фонарь и длинный шест, и спрашивает его о ночлеге. Не получив ответа на вопрос, заданный по-английски, а не по-эстонски, он тем не менее идет за стариком и пересекает вслед за ним продолговатую рыночную площадь. На булыжную мостовую падает свет из высоких окон господского дома, часть которых, несмотря на прохладное ночное время, распахнута настежь; оттуда доносится смех, гул голосов и звон посуды. Подняв голову, рыжеголовый заметил в окне мужчину с офицерскими погонами, который, кажется, следил за ним из-за кисейной занавески. Рыжий даже подумал, не дернуть ли за шнурок звонка этого гостеприимного господского дома, но тут старик пинком распахнул дверь, и они оба исчезли за ней.
Вернувшиеся в залу корчмы "Белая лошадь" студенты решили, что надо заставить иностранца объяснить свое поведение, а если это будет необходимо, потребовать у него сатисфакции, но, несмотря на все старания, ни завтра, ни в последующие дни им не удалось найти его в городе. Если бы они догадались спросить о нем у одной рыночной торговки, то не без удивления услышали бы, что поутру на рынке появился странный барин в коротких штанах, ноги что твои прясла, к тому же ни слова не понимающий по-эстонски; не торгуясь он купил десятифунтовый окорок крестьянского копчения и буханку хлеба и дал за них золотой. Старуха хотела было позвать на помощь, но быстро раздумала. А если бы Доротея не поленился, перейдя реку, направиться в сторону казенной мызы Яама, а оттуда дальше по Нарвской дороге, он увидел бы и самого незнакомца – тот сидел на обочине канавы и, прислонившись спиной к вязу и набив рот мясом, писал, держа дневник на коленях:
"В Дерпте я провел ночь в сенях у одного фонарщика, – записывал капитан дальнего плавания и путешественник Джон Дунден Кокрен. – Город выстроен, славно и своей чистотой и правильными пропорциями мог бы соперничать с Нанси, к тому же его расположение на берегу Эмайыги, промеж двух озер, посреди живописной и плодородной местности, очень даже доходно" (1820). {101}
МОРЯК НА СУШЕ
Большой зал пронизан солнечным светом, проникающим сквозь занавеси. Парни без пиджаков, в рубашках с закатанными рукавами, с ослабленными галстуками карандашом проводят на морских картах тончайшие линии. "Одну минуту,– говорят мне, хотя я еще не успел ни о чем спросить, – шеф сейчас освободится". Майнагашев, единственный из всех в форме капитана дальнего плавания, переходит от стола к столу. На свете нет более действенной пропаганды, чем умно организованная работа. Этот дом уже издали выделялся среди других домов свежей зеленой окраской. В коридоре меня подстерегал самый длинный из когда-либо виданных мною половиков, а дальше поскрипывающий, только что навощенный линолеум.
– Шеф просит вас, – кивает один из молодых людей в сторону двери, за которой исчез Майнагашев – невысокий, с буйной шевелюрой скрипача и лицом южанина.
– Таммерик говорил мне о вас, – с решительностью человека, умеющего ценить время, отсекает он сразу все вступления.– Чем могу быть полезен?
Происходит приятный, быстрый и совершенно бесполезный разговор. Я в ловушке.
– Над летчиками у меня нет никакой власти. – Видимо, я надеялся на что-то, что противоречит его характеру. Сегодня утром выяснилось, что следующий самолет на восток отправится в лучшем случае через четыре-пять дней.
– А пока заходите к нам, познакомьтесь с нашей работой, – предлагает Майнагашев. – "Виляны" застрял во льдах, и у вас может создаться несколько романтическое представление о Северном морском пути. Мы боремся с такой романтикой, в этом и состоит наша работа.
– А ледовая разведка? Ведь она подчиняется вам?
Он качает головой.
– Мы арендуем самолет. У него точный дневной маршрут, чаще всего по замкнутому кругу, который начинается и кончается здесь.
– Вы разрешите мне полетать на нем?
– Нет, не разрешу, у меня нет на это права. Командир самолета то же самое, что капитан на корабле. Он должен нести ответственность за каждого человека. И несет. {102}
В его серьезном взгляде я улавливаю отблеск легкой усмешки, которую он тут же прячет под густыми, кустистыми бровями, будто спохватившись, что и так сказал слишком много. Перевожу эту усмешку приблизительно так: мил человек, если ты настоящий путешественник, если ты знаешь людей нашего Севера, сам должен знать, что делать.
Знаю.
НЕБЕСНЫЕ НАДЕЖДЫ И ЛОЦМАНЫ
Раннее утро, тундра, взлетное поле.
Я уже бывал здесь раньше, на обратном пути из Якутии. В тот раз мы садились в густом тумане, и вокруг было темно, тесно и опасно. Как обманчиво это впечатление! Нет простора более синего, чем тундра на берегу Ледовитого океана ранним утром. Вокруг видавшего виды красного самолета хлопочут техники. Над берегом кружат чайки. Со стороны дремлющего еще поселка приближается маленький автобус, волоча за собой длинный шлейф пыли. И вот тут-то, когда из автобуса высыпают члены экипажа и ледовые разведчики, наступает мой час. Их путь идет мимо того места, где я поджидаю их.
– Товарищ командир, у меня для вас бумага, – говорю я. Бумага действительно лежит у меня в планшетке.
Командир останавливается, широко расставив ноги, и, смерив меня взглядом с ног до головы, с железной непоколебимостью хорошо отдохнувшего человека произносит:
– Никаких бумаг.
– Я хочу лететь вместе с вами.
– Об этом не может быть и речи.
– Но у меня бумага.
– Для меня бумаги ничего не значат.
До самолета метров двести. Этот путь я прохожу вместе с ними. Мы шагаем не спеша, как подобает командирам, и побежденным окажется тот, кто первым заговорит о деле.
Беседуем о разном.
Когда до самолета остается несколько десятков метров, командир останавливается и с наигранным безразличием говорит:
– Ну-ка, покажите, что у вас там?
– Значит, бумага все-таки что-то значит? {103}
– Что поделаешь, такое сейчас время, – отвечает этот симпатичный человек.
Взгляд его скользит по документу, потом он рассеянно складывает его.
– Это очень утомительная поездка. Десять часов болтанки.
– Куда мы полетим?
– Ну, вокруг Новой Земли и Оранских островов.
– А вы возьмете меня с собой, если я сознаюсь, что сам составил этот текст, напечатал его и сам же подписал?
Это сущая правда. Документ называется "справка", и текст его выглядит примерно так: предъявитель сего товарищ имярек путешествует по такому-то и такому-то маршруту; для успешного его осуществления просим всех причастных к сему помогать ему по мере сил и возможностей. Подписал все это я сам. Кто еще подпишет такую дурацкую бумагу?! Обычно мне как-то неловко бывает объяснять, зачем я разъезжаю по белу свету и что, может быть, когда-нибудь напишу об этом. Проще передать эти функции бумаге. Проще и, увы, убедительнее.
– Ну как, возьмете теперь меня с собой?
– Черт побери, вот теперь-то я вас и возьму! – хохочет от души командир.
– Смирно! – выкрикивает молодой парень в кожанке, как только мы пересекаем ту невидимую черту, за которой мой спутник перестает быть Алексеем Сергеевичем, человеком, ведущим частные разговоры, и становится командиром самолета.
Впрочем, я не сказал бы, что экипаж "замирает" на месте. Во-первых, для этого все его члены слишком много летали вместе. Во-вторых, командир уже не так молод, чтобы цепляться за устав, и не так стар, чтобы устав мог вытеснить в нем человека. Да и не устав это вовсе – то, что заставляет всех на мгновение застыть неподвижно, правда, в том положении, в котором каждый из них стоял вокруг трапа самолета, с отблеском улыбки, вызванной только что услышанным анекдотом. Конечно, это не устав, а давний обычай помолчать перед дальней дорогой, пришедший на эту кочковатую взлетную полосу в тундре из тех далеких времен, когда каждое путешествие начиналось с первого шага. И теперь мы уже попутчики, связанные одной судьбой и одной целью. {104}
– Вот, – тычет командир пальцем мне в спину, между лопаток, – прошу любить и жаловать.
– Привет, – говорит парень в кожаной тужурке, только что скомандовавший всем встать по стойке "смирно".– Меня зовут Юрка, я второй пилот.
А пожилой мужчина с хмурым лицом, которого у автобуса я чуть было не принял за командира, протягивает мне руку, считая, что мы с ним уже знакомы, так как у нас нашлись общие знакомые. Кто он? Оказывается, Евгений Георгиевич возил в Антарктике Смуула. "Как тесен мир!" – можно было бы воскликнуть, всплеснув руками, и, как всегда, в этой банальной фразе была бы доля правды, точнее – половина правды и половина неправды. Полярный мир тесен потому, что здесь мало людей и видны они издалека. Встретить здесь человека – событие, не то что на улице Виру, на Невском проспекте или на Пятой авеню. Не следует ли из этого, что мир больших городов своей анонимностью, черствым равнодушием и инфляцией человеческих ценностей уже сейчас непосильно велик? И все же в Таллине я еще чувствую себя хозяином и начинаю отчитывать любого, кто идет напрямик через газон, – к ужасу моей бывшей одноклассницы, преподающей общественные науки; она иногда забывает, что лабораторией общества является не учебный класс с его четырьмя покойными стенами и нравственными требованиями, а улица, у которой скоро не будет ни начала, ни конца, только две стены, две бесконечные каменные стены, в тени которых, если мы недоглядим, могут зачахнуть наши цветы и рассыпаться скрижали. Здесь же я дома, повсюду дома, среди своих, и если бы вечером я подал заявление, то утром мог бы приступить к работе вместе с Юркой.
Внутри самолет разделен на три отсека. В носовом отсеке работают пилоты и штурман, средняя часть оборудована под лабораторию, а отделенная портьерой хвостовая часть служит складом: три бака запасного топлива, длинная труба под потолком, на которой раскачиваются спасательные жилеты, ярко-красные, как сам самолет, и кажущаяся сейчас лишней резиновая лодка. Слово "лаборатория" может вызвать не очень точные ассоциации. Здесь нет ни белой краски, ни пробирок, ни ученого педантизма. Эта часть самолета похожа скорее на кухню холостяка или цыганскую кибитку: все помещение обшито мохнатой черной фланелью, не хватает только фило-{105}логичек, переодетых в костюмы гаремных одалисок. С каждой стороны по три окна величиной с бычий глаз, под ними голубой пластиковый стол на ножках из алюминиевых трубок, такие можно увидеть в любой столовой, в России их почему-то называют рижской мебелью, кроме того, два кресла и табуретки, на которых чего только не делали – и мясо рубили, и рыбу потрошили, – а на стене, отделяющей кабину пилота, – измерительные приборы, некоторые из них так хрупки, что подвешиваются на пружинах. Тут же плита: не эффектное, с многими кнопками, лабораторное сооружение, а простецкая плитка с накаленной докрасна спиралью, которую включают еще до того, как самолет отрывается от земли. Техника живет своей жизнью, люди – своей. На огонь ставят воду в двух чайниках. Над плитой висит сковорода, в углу стоит ведро с водой, и соединенная лошадиная сила моторов вибрирует на ее поверхности расходящейся кругами рябью. Русоволосый парень стаскивает с себя выходные брюки, расправляет их по стрелке на вешалке, подвешивает вешалку между спасательными поясами, натягивает джинсы и подходит к плите. Другой устанавливает между желтыми, сладковато пахнущими бензобаками раскладушку, надевает тренировочный костюм, ложится и натягивает на голову одеяло. Он так спешит, словно боится опоздать куда-то. Вторая смена? Или только что встал из-за праздничного стола? Впрочем, это не мое дело, да к тому же он уже спит. Самолет до самого потолка наполняется ароматом. Ребята заваривают кофе, а на меня и не смотрят. Ну, это уж слишком. Исчезаю в кабине летчиков, хлопаю штурмана по плечу:
– Что это такое, этот грязный лед?
– Не знаю, не моя область, – отвечает Евгений Георгиевич, у которого совсем не такое хмурое лицо, как мне показалось раньше, – но у нас есть специалист. – Он откладывает логарифмическую линейку, встает и подводит меня к светловолосому молодому человеку. – Валерий, просвети человека насчет своей гляциологии.
Кофе великолепен, лучшего мне в этом году в Сибири никто не предлагал.
– Грязный лед идет из дельты, – объясняет Валерий. – Мелкие протоки промерзают до самого дна, во время ледохода льдины переворачиваются, и донная грязь оказывается наверху.
Мы скользим над огромным ледовым полем, которое {106} пересекает тропинка, крест-накрест через нее идет дорога. Дорога, которая начинается и кончается в Карском море! Странная судьба для дороги, можно подумать, будто в потоке времени годы поменялись местами. Валерий объясняет, не прерывая работы. Он сидит лицом по направлению движения самолета, окно слева от него. На столе лежат коробка с цветными карандашами, лист бумаги размером с квадратный метр и наручные часы. За минуту самолет проходит четыре километра, и через каждую минуту ледовая карта увеличивается на полосу, длиной в четыре километра, а ширина ее двадцать миль. Валерий говорит, но взгляд его обращен в окно, на ледовое поле, рука движется вместе с самолетом, время от времени почти вслепую и машинально меняя на бумаге условные цвета. Радист протягивает штурману клочок бумаги с курсом и координатами, штурман расхаживает между радаром и нашим столом, здесь у него свои калька и логарифмическая линейка, но Валерий лишь изредка бросает на них взгляд: изменение направления полета самолета он воспринимает каким-то шестым чувством, вместе с самолетом сворачивается и загибается полоса раскрашенного пространства на его карте, которая пестрит уже всеми цветами, кроме одного – открытой воды почти не видно.
– На какой высоте мы летим?
– Официально мы обычно работаем на высоте от трехсот до шестисот метров, разрешено снижаться до ста метров, иногда даже до пятидесяти. Чем ниже, тем хуже.
– Меньше обзор?
– Да, и это тоже. Ну, и если что случится, ничего уже не поделаешь.
– Смотрите не напутайте чего-нибудь, – кричит кто-то мне прямо в ухо. Это командир заглядывает через мое плечо в дневник. – Из-за вашего брата не у одного нашего парня талоны полетели к чертовой бабушке. Напишет, что плохая видимость, и самолет летит все время на пятидесяти метрах, а ты расхлебывай...
Он подмигивает мне, и я все понимаю. Зачеркиваю одну строчку и показываю ему дневник.
– Вот так-то, – с удовлетворением ухмыляется он. – И все на эстонском языке? Вот эту цифру тоже зачеркните!
– Алексей Сергеевич, это же не высота полета!
– А что же? {107}
– Стаж Валерия. Он десятый год в ледовой разведке.
– Скажи пожалуйста, как годы бегут, не уследишь! Зайдите к нам, через четверть часа я покажу вам Мыс Желания...