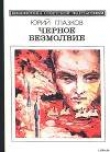Текст книги "Мост в белое безмолвие"
Автор книги: Леннарт Мери
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Загадочная Чукотка ревниво хранила свои тайны. {138}
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ "ВИЛЯН"
Несмотря на утренний час, в дощатой палатке, именуемой кафе, дым коромыслом. Тишина наступает только на минуту, когда я прошу кофе. Буфетчица протягивает мне завернутую в бумагу котлету и кружку пива. Здесь интересно сидеть, наблюдая за пробуждающейся улицей. По фонарному столбу около двухэтажного дома напротив узнаю комитет комсомола и редакцию "Полярной звезды". В тот раз Дима, указав на столб, сказал, что в буран его не видно из окна. Глядя на фонарь, радуюсь, будто встретил старого знакомого.
– Дима? – переспросили меня в "Полярной звезде", название которой за это время успели переменить на менее поэтичный "Маяк Арктики". – Вы имеете в виду товарища Сыровацкого? Он давно уже работает в Якутске, в министерстве.
Тиксинские угольные шахты за семь лет дали больше полумиллиона тонн каменного угля, в жилищном строительстве сейчас начинают осваивать большие дома, на шестьдесят четыре квартиры каждый, но возводят их конечно же по типовому проекту, предназначенному для средней полосы. На Тикси родился свой научный центр в виде геофизической лаборатории. Действительность отстает от науки: местная газета обратилась к читателям с призывом помочь изыскать трубы диаметром в полтора дюйма и дюйм с четвертью, чтобы скорее закончить строительство школьного интерната. Коротко и ясно. Такой я и представляю себе роль газеты как общественного организатора.
Я не забыл навестить Николая Ивановича Тябина, адрес и телефон которого мне дали на Диксоне. Я так много слышал о нем, что, только очутившись у его двери, сообразил, что даже не знаю, как он выглядит.
Мы пьем чай в его узком темноватом кабинете и ведем разговор о прошлом и будущем Арктики. О "Вилянах" нет никаких сведений, однако это не помешало нам провести несколько приятных часов. В Арктике умеют ценить время, разговоры начинаются без долгого вступления, кончаются без долгих поклонов. Мне так и не удалось понять, какова узкая специальность Тябина. Он работал в Антарктике, снимал фильм, который мне надо было посмотреть на следующий день, но не удалось этого сделать, защитил диссертацию, провел всю свою жизнь {139} во льдах и снегах. В наш век научно-технической революции ученый становится специалистом более узким, чем рабочий в средневековой мануфактуре, не у каждого хватает сил вырваться из узкого круга профессиональной специализации, пробиться к культуре, стать интеллигентом, увидеть результаты своих теоретических изысканий на фоне прогресса и прямо взглянуть в глаза вопросу – куда? во имя чего? Тябина тревожит, что Север и работа полярных станций потеряли притягательность в глазах молодежи. Он держится приветливо, но не скрывает неприязни к писателям, которые заромантизировали Дальний Север. Топор, лопата и канат времен Комсомольска-на-Амуре в наше время свидетельствуют только о беспомощности хозяйственников. "Современная романтика, если вам угодно, – говорит он, прищурив глаза, – выглядит иначе". Показателем социального прогресса является разница в образе мыслей, в объеме информации, в эмоциях. "Вы помните, что сказал Врангель?" Тябин уже рассказал о Де-Лонге и Вилькицком ("Младший Вилькицкий оказался предателем, водил караваны Антанты в Мурманск"); об островах Куба и Америка – оба они расположены в дельте Лены; процитировал указ Петра I о борьбе с модниками – и теперь вот: "Вы помните, что сказал Врангель?"
"Слышал от многих старожилов горькие жалобы, что настоящее поколение крайне уклонилось от прежних, скромных и простых, нравов, страсть к картежной игре, нарядам, мотовству чрезвычайно в нем усилилась и разорила уже не одно семейство вконец. По кратковременном пребывании моем в Якутии я не в состоянии сказать ничего решительного насчет основательности таких жалоб; не следует ли однако ж приписать их отчасти также стариковщине, которая здесь, как и везде, почитая свой век блаженным, осуждает настоящий?"
СУДЬБЫ, СВЯЗАННЫЕ В ТУГОЙ УЗЕЛ
В один из апрельских вечеров 1820 года двадцатитрехлетний барон Фердинанд фон Врангель* стоял с бокалом вина в руке в зале дома профессора Энгельгардта, где только что прозвучал прощальный тост бывшего ректора университета. Закончился он конфузом: в ответ на предложение Паррота* молоденький лейтенант громко рассмеялся. Никогда не простит он себе этот лишний бокал, {140} не забудет растерянного выражения на лице знаменитого Паррота, нахмуренных бровей Струве, неловкого молчания, которое дамы попытались заполнить усердным щебетанием, будто ничего особенного не произошло. Он вовсе не хотел обидеть этого ученого чудака, этого розовощекого мечтателя, который годился ему в отцы и который с отцовской требовательностью заботился об его образовании. "Но эта его выдумка превзошла все границы", – думал Врангель, морща нос и придвигая разгоряченное лицо к открытому окну. Сквозняк раздувал желтые кисейные занавески, заставляя трепетать пламя свечей. Невидящим взором Врангель следил за фонарщиком, который вынырнул из темноты и, сопровождаемый каким-то запоздавшим мастеровым, проковылял через Большую рыночную площадь в свою конуру – дверь, громко взвизгнув, закрылась за ними, оставив на брусчатке площади узкую полоску света. "Конечно же Сиверс прав, называя Паррота шутом", – подумал Врангель, покачиваясь на носках и полной грудью вдыхая прохладный воздух, в котором ему чудился призыв лугов Эмайыги, манящих вдаль, в волнующую его воображение страну Великих рек, куда он отравится завтра рано поутру. Что за безумная идея – лететь к Северному полюсу на воздушном шаре! Да к тому же еще эти странные слова: аэронавигационные приборы?! "Университет снабдит вас аэронавигационными приборами", – сказал Паррот, как будто он обладал властью не только над университетом, но и над капризами изменчивой природы. Как можно быть таким слепым, таким самоуверенным, таким... убедительным? Врангель забыл о своем недавнем решении и залпом опорожнил бокал. "Какой несчастливый вечер, подумал он, – никогда не прощу Парроту этого унижения". Украдкой он бросил взгляд через плечо. Ну конечно, теперь эти пудреные умники обсуждают свои пропеллеры и рули высоты! "Я превращу это в анекдот, – с мрачным удовлетворением подумал он, – в анекдот, который сделает Паррота посмешищем всего флота". Но, поразмыслив немного над этой мелкой местью, он почувствовал себя еще более несчастным, потому что успел привязаться к кроткому старому господину, в обществе которого ему удавалось превозмочь косноязычие и чувствовать себя свободным, забыв о своем до смешного маленьком росте.
Кто-то тронул Врангеля за локоть.
– Mais qu'est се que vous faites ici, a lecart de tous {141} les autres?1 – спросил беспечный Майдель, по слухам, махнувший рукой на карьеру, чтобы в этой "ученой республике" посвятить себя живописи.
– Monsieur, je pense a mes devoirs 2, – напыщенно ответил Врангель, покраснев до корней волос. Вспоминая эту фразу, он будет краснеть и через десятилетия, когда идея Паррота о путешествии на воздушном шаре станет для изысканного общества дежурным анекдотом, который издевательский смешок Врангеля подперчивал и в штаб-квартире главного правителя русских владений на побережье Северной Америки, и в бесконечных коридорах департамента корабельных лесов на берегу Невы, и, наконец, в гулком кабинете морского министра. С годами смех становился все более неуверенным, пока через полвека не заглох совсем там же, где возник, – в Тарту. Пройдет еще двадцать шесть лет, и в отчете Отто Свердрупа появятся следующие строки: "Среди многих прочих новостей мы узнали, что шведский воздухоплаватель, старший инженер Андре прибыл на Датский 3 остров, чтобы попытаться на воздушном шаре совершить оттуда полет на Северный полюс". В полярной ночи Белого острова 4 Соломон Андре и двое его спутников умирают медленной и мучительной смертью, но вот чудо! Можно подумать, будто у Истории пробудилась совесть, и она решила вспомнить какую-то давно родившуюся и несправедливо забытую идею, – какую именно, она и сама, наверно, толком не знала, но так или иначе, все в том же городе Тарту, на Рижской горке, она выбирает дом, над дверью которого висит позолоченный крендель пекаря, и связывает там узами Гименея бывшего студента философского факультета Теодора Кренкеля и домашнюю учительницу Марию Кёстнер. Рожденного в этом браке мальчика Эрнста Кренкеля после долгого воздушного полета она приведет 21 мая 1937 года, за двадцать пять минут до полудня, на лед Северного полюса. "Действительно, это была месть Арктике за "Челюскина" и многие другие жертвы неукротимой стихии, за "Жаннетту", "Ганзу", "Америку", "Святую Анну", "Геркулеса" и отдавших жизнь за науку Де-Лонга, Седова, Мальмгрена, великого Амундсена и всех тех, которые нашли могилу среди ледяных пу-{142}стынь", – сказал спутник Кренкеля, профессор Отто Шмидт. Нет, это не был воздушный шар; Кренкель прилетел на Северный полюс на самолете "СССР-Н-170", который вел Михаил Водопьянов. Истории не удалось направить развитие техники по пути, рекомендованному Парротом. Как известно, история – женщина, или по крайней мере женского рода, – это знали уже древние греки – и не слишком разбирается в технике. Но надо отдать ей должное: за несколько лет до этого знаменитого перелета она и в области развития идеи Паррота сделала все, что могла: 25 апреля 1931 года она дала возможность Гуго Экнеру, сменившему Нансена на посту председателя Международного общества по изучению Арктики с воздуха – "Аэроарктики", провести воздушный корабль "Граф Цеппелин", длиной почти в четверть километра и с бортовыми знаками "D-LZ 127", через Таллин и Ленинград на Землю Франца-Иосифа. Находящийся на его борту Кренкель передал свежую почту Папанину, Нобеле и Элсворту, после чего воздушный корабль– его не стоит называть дирижаблем, потому что это французское слово означает всего лишь "управляемый", – направился к Северной Земле, в атмосфере которой, согласно анализам профессора Вейкмана, пыли оказалось в 170 раз меньше, чем над Ленинградом. Предшественникам Майнагашева дружественный воздушный корабль сбрасывает над Диксоном письма, свежие фрукты и сладости. А потом – какой подарок истории! – над Финским заливом разразился шторм, и воздушный корабль оказался около Тарту, пролетел, как сообщает газета "Пяэвалехт", "над церковью св. Петра, Большим рынком и железнодорожной станцией", над домом, где сто одиннадцать лет назад была сформулирована идея воздушных полетов на Северный полюс, над другим домом, где эту идею высмеяли, и над третьим, над дверью которого висит позолоченный крендель.
И еще о Врангеле. Есть люди, которые не вызывают симпатии, но которых нельзя не уважать. К ним относится Врангель. Ему была не свойственна мягкость Толля и тем более чужда простая участливость закаленного Миддендорфа. Врангель был нетерпим, крут, замкнут, насторожен, но не смешон. Родившийся в обедневшей семье и одиннадцати лет оставшийся сиротой, он ненавидел нищету, которую помнил до конца своих дней. Он оставался бароном в любой ситуации, будь то в Сибири {143} или на мызе Руйла, и прежде всего в Руйле, откуда вел переписку с авандузеским помещиком Фридрихом Литке по поводу модернизации помещичьего хозяйства. И. А. Гончарову он так никогда и не простил его "Обломова". Очень немногие бароны умели скользить по придворному паркету так искусно, как Врангель, ставший морским министром царского правительства, и, кроме воздушного шара, ничто не могло бы заставить его так от души смеяться, как известие о том, что в столетнюю годовщину его смерти в родном городе на его портрете поверх всех медалей и орденов, пожалованных царским правительством, наклеят красную ленту. Врангель в этом не нуждается так же, как не нуждаемся мы в рахитичных антиисторических "героях". Его надо принимать во всей сложности человеческих противоречий. В этом низкорослом человечке пылала фанатичная воля, заставлявшая его быть выше своей судьбы. Он не обладал блестящей фантазией, но если это может считаться недостатком для ученого и моряка, он компенсировал этот недостаток целеустремленностью и железным чувством долга. Суховатые записи в его дневнике достоверны, как резюме прокурора, из которых выхолощены страсти и сомнения и сохранена только логика фактов, указывающая своим острием новые пути человеческого познания – и новые берега.
Кинолента консервирует и уплотняет время. Теперь оглянемся на юг и попытаемся размотать время обратно. Люди, целые поколения, пятясь, исчезают за дверью, труба всасывает дым, деревья и леса мигают, как испорченный светофор, то летне-зеленые, то осенне-желтые, свинцовая пуля со свистом вылетает из медвежьего бока и, выстрелив, исчезает в заряжаемом с дула ружье, из которого прицеливается бородатый казак, а со страниц дневника Врангеля, сидящего на пеньке, сыплются обратно на кончик гусиного пера следующие строки, написанные осенью 1820 года:
"О воспитании детей заботятся здесь мало: ребенка с малолетства отдают обыкновенно какой-нибудь якутке... Таким первоначальным воспитанием здешнего юношества объясняется с первого взгляда странным кажущееся явление, что даже в несколько высшем кругу общества якутский язык играет почти столь же главную роль, как французский в обеих наших столицах. Это обстоятельства крайне поразило меня на одном блестящем праздничном обеде..." {144}
Врангель на пути в низовья Колымы.
В эти же края направляется еще один человек – он отстал от Врангеля в Барнауле, Барн-ауле – Хорошем пастбище, как тогда называли этот город. Несущийся оттуда гомерический хохот принадлежит генерал-губернатору Западной Сибири Михаилу Сперанскому: нашего старого знакомца, рыжеволосого и бородатого Кокрена, который так гордится своей серой полотняной рубахой, подпоясанной широким шелковым поясом, он принял за попа-расстригу. Здесь Кокрен впервые услышал об экспедиции Врангеля, обогнавшей его где-то на длинном Сибирском тракте. Назавтра он уже спешит за ней в своих семимильных сапогах – ранец за спиной, полы нараспашку. "Правда, местные жители приходили в изумление и от всего сердца сочувствовали моему, на их взгляд, столь беспомощному и безнадежному положению; однако они не принимали во внимание, что природа бессильна перед человеком, дух и тело которого находятся в постоянном движении. Большая часть невзгод в жизни человека, согласно моему глубокому убеждению, происходит из-за отсутствия правильного воспитания и столь необходимых в путешествиях упорства, духа самоотречения и твердого решения не отступать от поставленных перед собой целей, никогда не колебаться, пока в теле еще тлеет искра жизни или, как говорят моряки, пока на гирлянде 1 осталось хоть одно пушечное ядро". Кокрена пугали сибирскими морозами. "Я утешался тем, что в худшем случае до дня Страшного суда я буду пребывать в виде законсервированной мумии, ибо к северу от Якутска почва, начиная с глубины двух с половиной футов, никогда не оттаивает". В этой шутливой, не вызывающей особого доверия форме до читателей Западной Европы доходит одно из первых сообщений о вечной мерзлоте, систематическое исследование которой начал только Миддендорф с помощью Фурмана, став тем самым основоположником новой области науки геокриологии. В Иркутске Кокрен встретил воспитанника Тартуского университета Маттиаса Геденштрома, исследователя Новосибирских островов, "о путешествиях которого общественности ничего не известно", хотя, как отметил неточно тот же Кокрен, Геденштром якобы проник на север дальше кого-либо другого. Мы могли бы и не упоминать об этой не столь уж значи-{145} тельной встрече, если бы не брошенная тем же Маттиасом Геденштромом 16 апреля 1810 года фраза, предопределившая судьбу Врангеля и Толля и смерть последнего. Стоя на каменистой восточной косе острова Новая Сибирь, Геденштром увидел "на северо-востоке сизую полосу, точно такую же, какую иногда можно увидеть над далекими землями". Эти скорее роковые, чем исторические, слова содержали первое указание на Землю Санникова, мифический материк, который мог оказаться соединительным звеном между Старым и Новым Светом – мостом из Азии в Америку, то внушающим страх, то подогревающим самые фантастические мечты. По мнению знатоков, Земля Санникова должна была соединяться с северным побережьем Чукотки, а Берингов пролив, таким образом, превращался в устье залива. Следует добавить, что поиски этой мифической земли стояли отдельным пунктом еще в программе экспедиции "Челюскина" в 1933 году, а после гибели корабля – в программе исследований "Садко" в 1937 году.
...И еще один человек спешит догнать Врангеля. Вот он-то уж действительно опоздал. Только что, а шел 1820 год, защитил он в Тарту диссертацию и, словно догоняя время, то и дело подбадривает лошадей и подгоняет ямщика словом из двух слогов, которое, по утверждению землепроходцев, прекрасно действует на всех широтах. Это врач экспедиции Эрих Аугуст Кибер. Родился он в 1794 году в пасторате Эрла, номер его матрикула 846. Неужели это только случайность?
Однако вместо Кибера в тряской почтовой кибитке, разбрызгивающей дорожную грязь, мог бы сидеть с докторским саквояжем на коленях и другой человек. Когда прошлой осенью молодой Бэр* шел через эбавереский лес в поместье Кильтси, ему даже в голову не приходило, что предстоящее знакомство с Крузенштерном на долгие годы определит его жизненный путь, а через него – судьбу Миддендорфа, Толля, Бунге и десятков других ученых, а также судьбу целого ряда географических открытий. Бэр с первой же встречи привязался к этому седому человеку, ушедшему от политики в науку, почетному доктору Тартуского университета, который в тиши полей и грибных лесов работал над большим атласом Тихого океана. Здесь составлялись планы экспедиций, созревали проекты исследований, возникали новые идеи. {146}
"Повстречаться в глуши нашей милой Эстонии с человеком, который полностью живет только наукой, – это было так необычно и отрадно, что показалось даже романтичным", – вспоминал Бэр позднее. Крузенштерну тоже понравился его молодой сосед, о познаниях которого в области зоологии рассказывали легенды уже тогда, когда он только поступал в университет, понравились его серьезность и необыкновенная широта знаний, и он предложил юноше принять участие в экспедиции Врангеля в качестве врача и естествоиспытателя. Бэр пришел в восторг, но в январе следующего года отказался от предложения. Многолетнее отсутствие означало бы слишком большой перерыв в исследовательской работе. Наверно, сыграла роль и недавняя женитьба. Но интерес к далеким полярным странам, пробужденный в его душе в тот тихий осенний вечер, не угасал никогда. После смерти Крузенштерна инициатива в деле организации полярных экспедиций перешла к нему. Больше того – во второе полярное путешествие Бэр взял с собой двадцатипятилетнего Миддендорфа, которому после боевого крещения на Кольском полуострове доверил Сибирскую экспедицию. Вот почему самый северный остров, которого достиг Миддендорф, носит имя Бэра. А побережье, на котором зимовал Толль, – имя Миддендорфа. И имя Толля носит гора, где...
Эта эстафета передается из рук в руки и из поколения в поколение. Кто положил начало, кто дал толчок движению против величавого потока времени, соединив таким образом прошлое с будущим и предоставив нам возможность сегодня, в эту минуту, жить во всех минувших днях до нас? Может быть, это связанное в узел время? Результат законов, которые действительны и по отношению к траве и камню? Или они есть примета, свойственная только человеку?
Кнут щелкает, кибитка подпрыгивает на ухабах, Кибер чертыхается. Вот они, все как на ладони: всего на несколько тысяч километров впереди Кибера Кокрен устраивается в снегу на ночлег. А там, где сейчас Врангель, уже наступил день. Казак освежевал медведя, можно двигаться в путь, вот только хозяин еще не кончил записывать беседу с восьмидесятидвухлетним бойким и наблюдательным якутом. Место сбора – на Колыме.
Но где же Толль? {147}
ПРАЗДНИК НАД МОГИЛАМИ
– Сегодня ставим точку, завтра передаем самолет, а послезавтра мы уже в Москве, едем в отпуск. Последний раз в Пярну, помню, моторка никак не заводилась, подмигнул я зятю...
Один из этих элегантных мужчин, лет сорока, подстриженный под ежик, в темных очках и синей рубашке, кончил шинковать капусту и теперь ходит взад-вперед с бутылкой уксуса в руках.
– Зачем тут, над плитой, нож мясника?
– Чтоб расправиться со вторым пилотом. Представляете: сижу я с дамой в столовой, беседуем с ней вежливо, тары-бары, то да сё, вдруг подкатывает к нам Жора: извините, мол, товарищ командир, совсем забыл, сколько лет вашему внуку? Видали вы когда-нибудь такого мерзавца? Эх, Жора, Жора!
Жора смотрит на командира, в глазах его грустный упрек несправедливо высеченного щенка. Роли здесь четко распределены, за каждым утвердилось собственное амплуа. Все кажутся ровесниками, как это часто бывает с людьми, которые вместе работают, вместе веселятся, которых сблизили долгие мгновения опасности.
– Послушай, у нас что-то грохочет! – восклицает вдруг Юра, и амплуа тут же отбрасываются.
Взгляд командира прикован к бесшумно трепещущим стрелкам приборов, кабину наполняет тишина, диалог продолжается при помощи взглядов, руки ощупывают ряды выключателей, пока командир громко не произносит, – теперь он снова Юра:
– Да это же вентилятор, черт бы его побрал, расшатался!
Штурман просовывает голову в дверь:
– До полюса тысяча шестьсот километров.
И кладет перед Юрой клочок бумаги, при виде которой у того отваливается челюсть.
– Ты что... спятил?
– Это нужно нашему писателю, – не моргнув глазом, заявляет тот и исчезает раньше, чем я успеваю запустить в него сапогом.
Под нами пролив Заря – пролив "Заря"! – слева остров Белковского, справа – остров Котельный, по курсу 90° мы сейчас пересекаем траверс мыса Вальтера.
"Пятница, 7/20 сент. 1901 года... Вот уже в пятый раз {148} я встречаю день основания студенческого общества "Эстония" на далеком Севере. Это заставляет меня оглянуться назад и взвесить, насколько верен остался я идеалам, скрытым в девизе общества – "Virtus"1... Сегодняшний день был отмечен марципановым тортом фирмы "Студе"2, который кем-то из любезных пожертвователей предназначался к первому празднику 1900 года. К обеду я водрузил его на стол. Во время вечернего чая, часов в десять, я попросил доктора сервировать кое-какие "деликатесы" и поставить на стол "Штокманнсхоф". Матисен вернулся домой лишь к последней бутылке...
Понедельник, 5/18 ноября 1901 года... В последнее время я стараюсь отдохнуть от той внутренней "борьбы", мне приятно лежать на медвежьей шкуре и предаваться мечтам, мечтам о тех, кто так далеко,– и в то же время как много близких, неотложных дел! Вот и наступила зима, которая, как я и предполагал, оставляет много времени для работы, но большого желания работать у меня нет! Неизбежное ли это следствие второй полярной ночи? Довольно, я должен взять себя в руки, чтобы справиться с задачами, которые ждут решения, дабы добавить кое-что и от себя, прояснить хотя бы несколько букв и знаков в огромной книге законов Природы – столь трудно читаемой, или, по меньшей мере, собрать материал для более точного изучения ее закономерностей. А пока я обязан не забывать о своем долге и заботиться о благополучии нашей маленькой общины, которая частью сознательно, а частью бессознательно служит науке. Могу быть доволен условиями, способствующими физическому здоровью членов экспедиции: о питании проявляется забота в пределах возможного, благодаря работам на открытом воздухе, движения для команды предостаточно, а когда они будут закончены, можно будет придумать для них какой-нибудь другой повод. Но в отношении поднятия культурных интересов и сохранения бодрости духа для команды надо делать больше – надо теснее сблизиться с ней. Поэтому я считаю желательным прочесть команде цикл лекций, а не разрозненные доклады, как это делалось в прошлом году. Для театральной постановки у членов экспедиции недостает настроения. Постараюсь его улучшить. Что же касается нас, "верхней семерки", то надеюсь, что {149} мы проведем эту зиму в дружеском взаимопонимании, ибо нас связывает общее для всех состояние духа, вытекающее из общих задач, стоящих перед нами, а это главное. Уверен, что жизнь многому научила каждого из нас, позднее каждый пойдет своим собственным путем".
Каждый и в самом деле пошел своим путем.
Доктор Герман Вальтер, врач и бактериолог, номер матрикула 12232, умер 21 декабря 1901 года (3 января 1902 года по новому стилю) между 10 часами 30 минутами и 11 часами во время метеорологических наблюдений и похоронен двумя днями позднее на острове Котельный.
"Доктора Вальтера похоронили в высокогорной тундре на западной косе устья нашей зимней стоянки, где летом мы установили навигационный знак. Это самое высокое место здесь, и видно оно издалека...
Все, что находилось в каком-нибудь противоречии с окружением или природой, тревожило легко ранимого доктора Вальтера, воспринималось им как дисгармония. Вкус у Вальтера был таким же строгим, как у Миддендорфа. сформировался на его примере. Думаю, что я не ошибаюсь, предполагая, что, как и Миддендорф, он пожелал бы, чтобы надгробием ему служил простой камень с краткой надписью".
Я сменяю второго пилота, принимаю от него штурвал. Кончиками пальцев ощущаю мягкую, пропотевшую кожу полуколеса штурвала и божественную покорность мотора, – кажется, будто все нервные окончания по одному связаны с обтекаемым корпусом машины. Подчиняясь легкому прикосновению ладони, самолет красивой дугой ложится на крыло, скользит вниз. Выглядываю из бокового иллюминатора. Сейчас, в эту минуту, крылья самолета – это мои собственные крылья, я чувствую их у себя между лопатками. Штурман просовывает голову в кабину и с душераздирающим вздохом напоминает о том, как он любит свою семью.
– Человек должен научиться управлять всем, с чем он соприкасается, начиная с верблюда и кончая самолетом,– произношу я, как мне кажется, очень глубокомысленно.
– Точно, моя мысль! – загорается Жора.
– Ты, Жора, раньше научись управлять женой, – уходя, сварливо бросает штурман, и Жора мастерски разыгрывает привычную сцену своего амплуа; в его голубых том-сойеровских глазах вопиющая к небу обида, за ней {150} скромно поблескивает тихое удовольствие от того, что так часто повторяемая роль опять удалась на славу.
– Жора, вы случайно не слыхали о человеке по фамилии Вальтер?
– Конечно, слышал, за кого вы меня принимаете?!
Каждый пойдет своим путем?
В последние месяцы жизни Толль читал Дарвина, Гёте, Бэра, Канта, Миддендорфа, Гексли. Его интересовало развитие видов, происхождение жизни и ее конец. Новосибирские острова – кладбище мамонтов. Один из ранних исследователей Колымы отмечал, что охотники из года в год привозят с острова Новая Сибирь несколько сот пудов мамонтовых клыков, причем их запасы сколько-нибудь заметно не уменьшаются. Какая загадочная катастрофа положила конец существованию этого вида животных? Смерть наступила для мамонтов так неожиданно, как будто настигла их врасплох во время сна. Толль, которому и раньше приходилось жарить мясо животных, сохранившихся с незапамятных времен в вечной мерзлоте, обнаружил в их желудках непереваренную пищу. Он старался разгадать загадку их таинственной смерти, а также причины вымирания малых народностей Сибири, но его рассуждения все чаще переплетаются с мыслями о собственной судьбе, о смерти университетских друзей. Он поверяет дневнику свою сокровенную мечту написать книгу о Миддендорфе, для которой уже собрал немалый материал, и книгу из истории Эстонии: "К обязанностям, вытекающим из любви к родине, относится и та, чтобы рассказать миру достоверно о своей родине после того, как ты досконально познал самого себя".
В 1901 году "Заря" достигла берегового припая неподалеку от острова Беннетта, и когда неожиданный порыв ветра разорвал плотную завесу тумана, на несколько мгновений взорам открылись высокие скалистые утесы и сверкающий вечный лед. "Как это великолепно, здесь, пожалуй, могут обитать и мускусные быки!" – проговорил доктор Вальтер, страстный охотник. Но запасы угля были на исходе, и во время зимовки у Толля созрел план: как только наступит весна, пробиться на остров Беннетта на байдарках и на санях. В качестве сопровождающих он выбрал астронома Ф. Зееберга, эвенка по прозвищу Омук (Николай Протодьяконов) и якута Чичагу (Василий Горохов). В дневник он вписал следующие строки: "Как {151} много сокровищ таит Юг! Но одно сокровище Севера влечет непреодолимо к себе, словно сильный магнит" (Гёте). Единственная дорога к тебе лежит через ту "неведомую гавань" на острове Беннетта". Через две недели Толль упаковал дневник, положил в жестяной ящик, запаял его и отдал на хранение Т. Матисену, новому руководителю экспедиции. Эта жестяная коробка, роковая на вид, неторопливо пересекла Сибирь и зимой 1903 года прибыла в Академию наук, а через некоторое время, все еще запаянная, легла на письменный стол Толля в Тарту, где ее вскрыла Эмми Толль. На первой странице дневника она прочла: "...Положено начало экспедиции, которой я так долго добивался. Начало ли? Правильное ли слово? Когда же именно было положено начало? Было ли это в 1886 году, когда я увидел Землю Санникова?.."
В субботу 23 мая (5 июня) 1902 года Толль вместе с тремя спутниками покинул зимнюю стоянку "Зари" на западном побережье острова Котельный, и с тех пор их уже никто не видел. Передвигаясь то на собачьих упряжках, то на байдарках, они достигли мыса Высокого на острове Новая Сибирь и вышли там на морской лед. Недели две спустя поднялся шторм, расколовший лед, экспедиция дрейфовала на льдине дальше на север. Толль приказал убить ездовых собак. Последние двадцать три мили он и его товарищи преодолели на байдарках. 21 июля (3 августа) они сошли на берег на мысе Эммы, где сложили из камней гурей, воткнули в него весло, а у подножия спрятали бутылку с запиской: "21 июля благополучно доплыли на байдарках. Сегодня отправляемся вдоль восточного берега на север. Кто-нибудь из нас к 7 августа постарается быть на месте. 25 июля 1902 г., остров Беннетта, мыс Эммы. Барон Толль". По договоренности примерно в это время "Заря" должна была прийти за ними. Для проведения исследовательских работ оставалось немногим более двух недель. Наверное, и 7 августа, и в многие другие дни участники экспедиции ждали на мысе Эммы, но ледовая обстановка в том году сложилась необычайно трудной, и в 140 километрах от острова Беннета "Заря" вынуждена была повернуть обратно. Это произошло 19 августа (1 сентября), но Толль и его товарищи так никогда и не узнали о том, что в этот день судьба отвернулась от них. В понедельник 26 августа (9 сентября) они положили в бутылку точный план острова Беннетта с указанием, как найти место расположения своего {152} лагеря. На карте было написано: "Для тех, кто нас ищет: приветствуем вас с прибытием". Позднее они нашли на восточном берегу острова место, более подходящее для постройки хижины из плавника, и астроном Зееберг еще раз отправился на мыс Эммы и положил в бутылку дополнительное сообщение; в нем уже чувствуется безнадежность: "23 октября 1902 г., четверг. Нам показалось более удобным выстроить дом на месте, которое указано здесь, на этом листке. Документы находятся внутри дома. Зееберг". Зееберг имел в виду отчет Толля, составленный на русском и немецком языках и адресованный президенту Академии наук, – по традиции тех времен им был великий князь Константин. Толль предполагал, что площадь острова "не превышает 200 квадратных верст"1, а высота его "не больше 1500 футов", он охарактеризовал горные породы, встреченные на острове, его скудный мир животных и птиц. "Вследствие туманов земли, откуда прилетали эти птицы 2, не было видно, так же как не было видно Земли Санникова во время прошлогодней навигации", – с сожалением пишет Толль и дальше сообщает, что в тот же день, 26 октября (8 ноября), они отправляются в обратный путь. Экспедиция провела на острове Беннетта 97 дней. Помимо всего прочего Толлю в высшей степени была свойственна обстоятельность ученого, которую люди малосведущие могли бы назвать педантизмом. Так, к своему отчету он присовокупил детальную опись инструментов, которые им пришлось оставить на острове. Отчет вместе с кругом Пистора он положил в деревянный ящик, зашил ящик в парусину, поставил его на полу хижины, обложив вокруг камнями, и только после того, как руки положили последний камень, его окружила полная тьма.