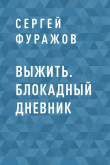Текст книги "Блокадный дневник Лены Мухиной"
Автор книги: Лена Мухина
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
12/XI*
Каждый день страшные бомбардировки, каждый день артиллерийский обстрел.
* В тексте здесь и в записях за 16 и 22-е числа ошибочно поставлено: X.
16/XI
Опять воздушная тревога, Как половина восьмого вечера, так пожалуйте, немец тут как тут.
Сегодня день прошел как-то гадко. Ака ушла искать чего-нибудь съедобного в 9 часов утра и пришла только в 5 часов. Мы с мамой уже смирились с мыслью, что Ака ничего не достала и мы не будем вообще сегодня обедать, и вдруг Ака явилась, и не с пустыми руками, а со студнем. Принесла 500 гр. мясного студня. Мы сразу сварили суп и поели горячий суп по две полных тарелки. Как мы сейчас живем, еще сносно, но если положение ухудшится, то не знаю, как мы это переживем. Раньше, еще сравнительно совсем недавно, мама могла получить у себя на работе суп без карточки, и у нас в школе уже первый раз дали суп. Но на другой же день вышло постановление о том, что суп давать тоже по карточкам.
150 грамм хлеба нам явно не хватает61. Ака утром покупает себе и мне хлеба, и я до школы почти все съедаю и целый день сижу без хлеба. Прямо не знаю, как и быть, может быть, лучше поступать так: через день в школьной столовой брать второе на 50 грамм по крупяной карточке и в тот день хлеба не брать, а в другой день питаться 300 граммами хлеба. Надо будет попробовать. А вообще, самочувствие неважное. Все время внутри что-то сосет. Скоро, 21-ого этого месяца, у меня день рождения, мне исполнится 17 лет. Как-нибудь отпраздную, хорошо, что это первый день третьей декады, так что конфеты будут обязательно. Как хочется поесть.
Когда после войны опять наступит равновесие и можно будет все купить, я куплю кило черного хлеба, кило пряников, пол-литра хлопкового масла. Раскрошу хлеб и пряники, оболью обильно маслом и хорошенько все это разотру и перемешаю, потом возьму столовую ложку и буду наслаждаться, наемся до отвала. Потом мы с мамой напекем разных пирожков, с мясом, с картошкой, с капустой, с тертой морковью. И потом мы с мамой нажарим картошки и будем кушать румяную, шипящую картошку прямо с огня. И мы будем кушать ушки со сметаной и пельмени, и макароны с томатом и с жареным луком, и горячий белый, с хрустящей корочкой батон, намазанный сливочным маслом, с колбасой или сыром, причем обязательно большой кусок колбасы, чтобы зубы так и утопали во всем этом при откусывании. Мы будем кушать с мамой рассыпчатую гречневую кашу с холодным молоком, а потом ту же кашу, поджаренную на сковородке с луком, блестящую от избытка масла. Мы, наконец, будем кушать горячие жирные блинчики с вареньем и пухлые, толстые оладьи. Боже мой, мы так будем кушать, что самим станет страшно.
Мы с Тамарой решили писать книгу о жизни в наше время советских ребят так 9-ого, 10-ого классов. О мимолетных увлечениях и о первой любви, о дружбе. Вообще написать такую книгу, которую мы хотели бы прочесть, но которой, к сожалению, не существует.
Отбой, отбой воздушной тревоги. Сейчас четверть девятого. Пора идти спать. Завтра в школу.
До следующего раза.
21 ноября 1941 года
Вот и наступил мой день рождения. Сегодня мне исполнилось 17 лет. Я лежу в кровати с повышенной температурой и пишу. Ака ушла на поиски какого-нибудь масла, крупы или макарон. Когда она придет, неизвестно. Может быть, придет с пустыми руками. Но я и то рада, сегодня утром Ака вручила мне мои 125 гр. хлеба[62] и 200 гр. конфет. Хлеб я уже почти весь съела, что такое 125 гр., это маленький ломтик, а конфеты эти мне надо растянуть на 10 дней. Сперва я рассчитала по 3 конфеты в день, но уже съела 9 штук, так что решила съесть сегодня ради моего праздника еще 4 конфеты, а с завтрашнего дня ст[р]ого соблюдать порядок и есть по 2 конфеты в день.
Положение нашего города продолжает оставаться очень напряженным. Нас бомбят с самолетов, обстреливают из орудий, но это все еще ничего, мы к этому уже так привыкли, что просто сами себе удивляемся. Но вот что наше продовольственное положение ухудшается с каждым днем, это ужасно. У нас не хватает хлеба. Надо сказать спасибо Англии, что она нам кое-что присылает. Так, какао, шоколад, настоящее кофе, кокосовое масло, сахар – это все английское, и Ака очень этим гордится. Но хлеба, хлеба, почему нам не присылают муку, ленинградцы должны есть хлеб, иначе понизится их работоспособность. Все говорят, и по радио только об этом и говорят, что скоро мы отбросим врага от Ленинграда, что теперь осталось недолго. А как враг будет отброшен, в Ленинград прихлынут живительные потоки продовольствия. Но пока надо терпеть. Да, и мы терпим, но как это тяжело. Иногда даже отчаиваешься, думаешь, нет, п[о]дохнем мы все как мухи, не видать нам светлого дня победы. Но такие мысли надо гнать прочь. Это вредные мысли. Боже мой! Как хочется, чтобы и Ака, и мама Лена, и я, и все мы благополучно это тяжелое время пережили и могли снова жить, дыша полной грудью. Как хочется, чтобы мама опять пополнела и чтобы Ака тоже чувствовала себя хорошо. Я так боюсь за маму и за Аку. Ведь настоящего голода они не переживут. А неизвестно, что нас ждет впереди. Может быть, хлеб будут давать через день или через два дня, и в столовых ничего не будет, что тогда! Но нет, до этого не должны допустить! Англия и США должны нас подкармливать. Ведь это в их интересах, чтобы немцы потерпели поражение под Ленинградом. Ведь победа под Ленинградом – это самая лучшая помощь Москве. А разгром немцев под Москвой приблизит дни, когда свершится перелом в ходе этой исторической войны, а именно начнется отступление врага. Но скорей бы, скорей бы это было. Каждый день несет надежды о прорыве вражеского кольца вокруг Ленинграда.
Пришла ко мне Тамара и… и ничего не принесла. Дело в том, что вчера я дала ей свои карточки на крупу и мясо и просила сегодня взять в нашей школьной столовой обед, а именно 2 вторых на крупу, и если еще можно, то и на мясную карточку 2 котлетки или 2 порции колбасы, что будет. Она обещала.
У нас сегодня с Акой была вся надежда только на то, что принесет Тамара. Мы решили из второго, будь это каша, или макароны, или что-либо другое, Ака сделает прекрасный густой суп, 2 кастрюльки, а котлеты мы разделим на 3-их как ради праздника, будем кушать бутерброд с котлетой. И вдруг, о ужас! Тамара приходит и ничего не приносит, ничего, ни второго, ни супа, ничего… Рассерженная, надутая, она клянется, что никогда, ничего, никому больше не будет обещать, ничего не будет делать. Из ее рассказа я понимаю только то, что она 2 переменки стояла в очереди и ей не хватило. Второе кончилось, тогда она купила одну порцию супа и пролила его. Как ей это угораздило его пролить, я до сих пор не понимаю. Но только я одно понимаю, что это все ужасно.
Скоро придет Ака, замерзшая, усталая и, наверно, с пустыми руками. Тогда гроб. Она узнает, что Тамара ничего не принесла, и я не знаю, как она это переживет. А потом придет мама, усталая, голодная, она постарается придти сегодня пораньше, она знает, что у меня сегодня день рождения, и, Боже мой, что будет, если Ака не успеет ничего состряпать. Да, мы действительно «отпразднуем» мой день рождения. Нет, я не буду ни при Аке, ни при маме защищать Тамару, но я не хочу ее и ругать. С человеком случилось несчастье, ведь это несчастье, это все равно что если бы у нас украли карточки или еще что-нибудь в этом роде. Со всяким ведь может случиться несчастье.
Конечно, обидно, обидно до слез, что как раз в мой день рождения мы будем сидеть без обеда, голодные, и все из-за моей самой лучшей подруги.
Ну что ж, теперь можно и съесть тот кусочек хлебца, который я берегла для котлеты. А потом постараться заснуть, заснуть до завтра.
Дорогая, золотая мамочка придет голодная. Я прижму ее к своему сердцу, крепко, крепко обниму и скажу ей о постигшем нас горе. И она, я думаю, не будет сердиться. Ведь она что-нибудь, наверно, там поест. Только бы она не сердилась, не омрачала моего праздника. Больше мне ничего не надо. Мы выпьем по рюмке вина, а потом будем пить чай с конфетами.
Только бы не ссориться, только бы все было тихо и мирно. Вот в чем мое горячее желание.
Уже без 1/2 7, а мамы все нет. За окном отчаянно бьют зенитки, длится 2-ая тревога. Уже и задаст нам сегодня Гитлер трепку и за вчера, и за сегодня.
Да, так, как и предполагалось, так и случилось. В 5 часов пришла Ака, уставшая, замерзшая, с пустыми руками. Она стояла за вермишелью, и ей не хватило. Тетя Саша стояла ближе, получила, а Ака нет. Тетя Саша даже не взглянула на Аку. Какая сволочь! Не могла поставить старушку перед собой. Боже, нельзя себе представить, как нам не везет. Как будто все боги и дьяволы ополчились против нас.
Ужасно хочется есть. В желудке ощущается отвратительная пустота. Как хочется хлеба, как хочется. Я, кажется, все бы сейчас отдала, чтобы наполнить свой желудок.
Когда же мы будем сыты? Когда мы перестанем мучиться? Когда же мы сможем покушать чего-нибудь плотного, сытного, целую тарелку каши или макарон, все, на одном жидком далеко не уедешь. А мы уже месяц с лишним питаемся одной жижей. Нет, так жить немыслимо. Господи, когда же конец мучениям!! И это мой праздник, мой день рождения, который бывает только раз в году. Я помню, в этот день Ака всегда пекла пирог и крендель. Мы сидели за столом, пили чай, вино, чокались. На столе всегда были конфеты, пирожное, а иногда и торт, и бутерброды с колбасой и сыром. В этот день, особенно [в] последние годы, у нас не бывало гостей, но мы втроем по-настоящему справляли этот праздник. Нет, никогда мне не забыть 21-ое ноября 1941 года. Всю жизнь буду помнить я этот день. 21-ого ноября 1942 года (если я буду еще жива) я вспомню, отрезая огромный ломоть черного хлеба и мажа его толстым слоем масла, я вспомню этот день таким, каким он был год тому назад, в 1941 году, и этот толстый ломоть хлеба с маслом будет для меня роскошней всех деликатесов, всех вкусных вещей, вместе взятых, всех пирожных, всех тортов. О Боже, с каким удовольствием я буду откусывать и жевать этот хлеб, хлеб, настоящий хлеб.
Мамочка, милая, мамочка, где ты. Ты лежишь в земле, ты умерла. Ты успокоилась навсегда[63]. Я, я, я мучаюсь, страдаю, страдаю вместе с сотнями и миллионами советских граждан, и из-за кого, из-за бредовой фантазии этого психа. Он решил покорить весь мир. Это безумный бред, и из-за него мы страдаем, у нас пусто в желудках, и полно мученья в сердцах. Господи, когда все это кончится. Ведь должно же это когда-нибудь кончиться!?!!
22/XI
Сегодня утром можно сказать, что я отпраздновала свой вчерашний день. В 7 часов Ака ушла за шоколадом, и в 9 часов она дала мне чай, мой хлеб, 125 грамм, и 50 грамм шоколада, настоящего английского шоколада. О таком шоколаде можно только мечтать. У нас никогда не было настоящего заграничного шоколада. Настоящий английский шоколад, жирный, душистый, твердый, тяжелый, красивый. Разделен на большие плитки. 50 грамм – 4 таких плитки. Значит, одна плитка 12 с 1/2 гр. А какой вкусный, горько-сладкий, ну, одним словом, настоящий шоколад, прямо из Индии.
Если в Ленинграде не будет хватать хлеба и будут вместо него давать шоколад, то мы не умрем с голоду. А шоколаду нам Англия, наверно, привезла достаточно и еще привезет. На детскую карточку выдают такие английские продукты, как настоящее саго, изюм, (нрзб.). Но это все на детскую карточку, на нее же дают манную крупу и рис.
Вот это суп, всем супам суп! Ака принесла его из школы. И ведь экая досада, как мы сразу не догадались, ведь Ака могла и вчера прекрасно пойти и взять обед и незачем было это поручать Тамаре.
Сегодня Ака там взяла 2 вторых, а именно порция рисовой каши с кусочком масла. Один кусочек масла Ака дала мне, а другой кусочек положила в рис и сварила такой чудесный суп, такой вкусный, и много, чтобы каждый получил 1 полную тарелку и еще три поварешки добавки.
Теперь мы все перестроим. Я забираю все три крупяные карточки и рассчитываю так, чтобы хватило на всю декаду, а именно на 8 дней. Хорошо, если б вышло бы по 100 гр. крупы в день, ну, в крайнем случае, будем брать по 75 гр., т.е. один суп и одно второе.
В моей скляночке вместо 3 добротных плиток шоколада, как я сперва предполагала, остался один ничтожный огрызочек, который я тоже скоро съем, потому что смешно оставлять такой кусочек. А что осталось от моих конфет? Вчера же Ака передала мне пакетик с конфетами. Я их сейчас же сосчитала. Их было 34 штуки, круглых нарядных конфеток. 4 конфеты я обменяла на 2 соевых. Сегодняшний день увидели только 5 несчастных конфеток. Куда же делись остальные? Да, я их всех съела вчера, ведь я же вчера не обедала. Да, я вчера питалась хлебом и конфетами. За вчера я съела 25 штук этих конфет, утешая себя мыслью, что сегодня мой день рождения, сегодня я поем, а уж завтра не съем ни одной. Но наступило «завтра», и те 5 бедняжек, что остались помилованы мною, тоже нашли свой конец в моем бессовестном рту. И уж прямо стыдно, ну, вчера я была голодная, ну, другое дело. Но сегодня, сегодня я имела хлеб, шоколад, суп, кажется, можно было оставить эти несчастные жертвы в покое, все равно они обречены на съедение, дать бы им пожить еще денька два. Но нет, я не вытерпела, долго крепилась, наконец съела одну, ну а это значило, что теперь я не остановлюсь, пока не уничтожу все, что есть под рукой съедобного. И я принялась есть и съела все конфеты и весь шоколад. А впереди 8 дней. И я опять буду 8 этих дней пить чай без всего и досадовать, как это мне угораздило съесть в один день 25 штук конфет.
Моя плитка, красивая плитка настоящего английского шоколада, где ты? Почему я тебя съела? Такая нарядная, только и любоваться тобой, а я тебя съела. Какая я свинья. Теперь только одна надежда, т. е., вернее, одно утешенье, если мама пожелает поделиться с нами, то я получу еще одну плитку. И я не буду ее есть, нет, Боже сохрани. Я буду ею только любоваться и съем ее только тогда, когда у мамы не останется ни крошки шоколада.
Сейчас я перечла опять весь свой дневник. Боже, как я измельчала. Думаю и пишу только о еде, а ведь существует, кроме еды, еще масса разных вещей.
Как расшалились немцы. Стреляют и стреляют из дальнобойных. Ну, ничего. Скоро их успокоят. Сейчас над самыми крышами пролетел самолет как раз в ту сторону, откуда стреляют.
Город продолжает нормально жить. Заводы выпускают свою продукцию. Магазины торгуют. Кино, театры, цирк работают[64]. Школьники учатся. Правда, жизнь перестроилась на новый лад: газ не работает, керосин не продается, люди варят обед в печках, на дровах, на щепках. Но большинство людей прикреплено к разным столовым. Теперь мало кто спускается в бомбоубежище, так как люди истощены систематическим недоеданием и истомлять себя хождением по лестнице взад и вперед просто не в силах, а жить хочется всем в равной мере. Сейчас такое время, что ничего не купишь, и поэтому ребята имеют при себе много денег. Они каждый почти день ходят в кино и театры, а на переменках и во время тревог – в бомбоубежище, занимаются картежной игрой. Все переменки и даже на некоторых уроках дуются в «очко» на деньги. А ведь это самый настоящий разврат. Я часто наблюдала за их игрой. Ведь они выигрывают зараз часто рублей 5-7, а иногда и 8. И я видела, как они теряют всякое уважение к деньгам, как небрежно бросается на парту, «в банк», «трешка» – 3 рубля. А если случайно упадет рубль, то владелец не торопится нагнуться, чтоб его поднять, а о 20-ти копейках и говорить не стоит. Зато с какой жадностью многие ребята прячут выигранные деньги, а другие, наоборот, с напускной небрежностью.
Вчера я просмотрела свои открытки. Какие раньше выпускались красивые открытки с разными видами, а теперь выпускают такие неаккуратные открытки, без всякого старанья, без всякой заботы. Пересмотрела я и все открытки с письмами для меня на обратной стороне, которые присылала мне мама из Пятигорска три года тому назад.
И я вспомнила, что когда-то мы с мамой мечтали, да и не так уж давно, еще прошлой зимой, поехать на пароходе по Волге. Узнавали, высматривали*, сколько все будет стоить. Я помню, мы с мамой твердо решили поехать куда-нибудь летом путешествовать. И это от нас не уйдет. Мы с мамой сядем еще в мягкий вагон с голубыми занавесочками, с лампочкой под абажуром, и вот наступит тот счастливый момент, когда наш поезд покинет стеклянный купол вокзала и вырвется на свободу, и мы помчимся вдаль, далеко, далеко. Мы будем сидеть у столика, есть что-нибудь вкусное и знать, что впереди нас ждут развлечения, вкусные вещи, незнакомые места, природа с ее голубым небом, с ее зеленью и цветами. Что впереди нас ждут удовольствия, одни лучше другого. И мы скажем, смотря, как уплывает вдаль назад Ленинград. Тот город, где мы столько пережили, столько перестрадали, где мы сидели голодные в холодной комнате и прислушивались к грохоту зениток и гулу вражеских самолетов. И мы отмахнемся от этих воспоминаний как от тяжелого кошмарного сновиденья и переведем взгляд вперед, туда, вдаль, куда мчит нас краснозвездный экспресс. Вот по этой земле ходили немцы, тогда земля эта была покрыта снегом, испещрена воронками от снарядов, траншеями, окопами, оплетена колючей проволокой, холодный, ледяной ветер свистел в ушах. Этот путь, по которому мы сейчас несемся, был разобран. Это партизаны разобрали его. А вот под этим откосом валялись разбитые в щепы вагоны и чернели там и сям по откосу полузанесенные снегом трупы вражеских солдат. И мы с мамой невольно будем вглядываться в густую траву откоса, но мы там ничего уже не увидим, что напомнило бы о пережитой войне. Уже ушли, хотя в недалекое, но все же прошлое, те исторические дни, когда совершился перелом и немцы перестали продвигаться вперед, когда немцы попятились и начали откатываться, когда немцы побежали, когда мы вошли в Берлин, когда прогремел последний орудийный залп, последний разрыв снаряда, последний винтовочный выстрел. Уже уплыли назад и стушевались, покрывшись дымкой, далекий серый Ленинград, те дни, когда мы встречали с победой наших доблестных воинов, истинных героев, покрывших себя славой, какую не сотрут и века. Все это ушло назад, отодвинулось на задний план, дало место новому. И это новое тоже уже прошло. Мы уже похоронили и почтили вечной памятью славных наших бойцов, погибших в бою. Уже залечил Ленинград свои раны, мы вставили новые стекла и отстроили разрушенные здания. Да, все это уже прошло. И тот день, когда впервые, шипя, зажегся газ в конфорке на кухне и когда появилось первое эскимо.
* Слово читается предположительно.
Мы с мамой смотрим в окно, и, Боже, как мы счастливы. И снова, и снова воспоминания роем носятся в голове. Вспоминать и наслаждаться тем, что ты можешь об этом только вспоминать, что это уже прошло, что больше не вернется. Вспоминать, как отзвучал горн последнего отбоя, как запылал огнями, нет, не огнем пожаров, а радостными и светлыми огнями электричества праздничный Ленинград, засверкали вновь стекла витрин, сбросившие с себя бремя досок и песка, зазвенели трамваи и загудели автомобили, ослепительно вспыхнув фарами, и засветились тысячами окон счастливые дома. И рекламы, и вывески, все сверкало и переливалось в этот первый праздничный день…
23 ноября
Вчера я прочла моей маме мой рассказ-фантазию, и ей он очень понравился. Дальше его писать мне не хочется. Я теперь буду делать так, после школы оставаться в пустом и тихом классе и выучивать все уроки, которые были только что заданы. Ведь интервалы между предметами в расписании, ну, самое большее два-три [дня]. И я думаю, что если я выучу сегодня ну, предположим, географию, только что заданный урок в обстановке тишины и спокойствия, то я за три дня не смогу совершенно его забыть, а если и забуду, то на повторение уйдет очень мало. Зато, если я буду точно выполнять свой план, то я смогу много читать, дома я буду читать. Мне надо как можно скорей прочесть Дик[к]енса «Большие надежды» и начать читать что-нибудь другое. Я хочу завести полочку большевика, покупать разные брошюры. Да, потом мне надо будет купить русскую грамматику и повторить все правила правописания, чтобы не обесценивать свои сочинения по литературе безграмотностью. Ну, хватит болтать понапрасну. «Больше дела, меньше слов!» Сейчас буду учить литературу, потом другие уроки. К этому времени Ака разогреет суп, поем, потом встану и спишу алгебру.
27/XI-41 г.
Сегодня я пришла из школы половина второго. И это еще хорошо, a 25/XI мы пришли из школы в 5 часов вечера, вчера – в 4 часа. Дело в том, что все эти дни получалось так: на 5-ом уроке, когда до звонка оставалось 5-3 минуты, раздаются прерывистые звонки, мы поспешно одеваемся, вешалка наша стоит тут же, в классе, и спускаемся вниз, перебегаем двор и спускаемся в школьное бомбоубежище. Бомбоубежище у нас хорошее, занимает 5 отдельных отделений, разделенных капитальной стеной. В каждой отдельной комнате помещаются два класса. Здесь светло, тепло, воздух чистый (работает вентиляция). Здесь стоят лавки, скамейки, тут же находится классная доска с мелом. Мы размещаемся по скамейкам, преподаватель занимает место у доски, и урок продолжается. Сегодня в середине урока литературы вошла директор и объявила о начавшемся артиллерийском обстреле. Литература продолжалась в бомбоубежище, потом была история, и снова должна была быть литература согласно расписанию. Но пришла директор и объявила, что воздушная тревога кончилась, бегите скорей домой. Мы не заставили себя долго ждать, так как не очень-то охота сидеть в подвале до 4,5 часов голодной, и мы побежали домой. Только мы вышли за ворота… тревога. Так что мы только-только успели проскочить. Сейчас я пишу эти строки в самый разгар тревоги.
Ака греет суп, сейчас мы будем обедать. Сегодня мы с мамой решили не брать хлеб, чтоб 30-ого, в выходной день, не сидеть без хлеба. У нас еще есть немного льняных семян. Это, оказывается, очень вкусная вещь, жареные льняные семечки. Вчера мы все трое были сыты и сегодня голодными не будем. А что будет потом – неизвестно. Между прочим, по карточкам вместо мяса дают шоколад или конфеты, а вместо масла раньше давали сыр, а теперь повидло.
Нам же в школе каждый день продолжают выдавать по одной шоколадной конфете за 30 коп. Раньше нам надо было спускаться в буфет, в связи с чем создавались очереди и некоторые опаздывали на урок, теперь же дело обстоит иначе. В середине второго урока в класс входит директор в сопровождении буфетчицы в белом халате, с большим узлом и несколькими тарелками в руках. Подсчитывается число присутствующих, буфетчица отсчитывает на тарелку соответствующее число конфет, затем кто-нибудь из учащихся с этой тарелкой обходит весь класс, дает по конфете и собирает деньги, которые директор тут же уносит. После всего этого прерванный урок продолжается. Но, конечно, внимания никакого нет, больше половины класса жует конфеты. И никто из нас больше не спускается в буфет пить чай, т. е., вернее, кипяток.
Сегодня в бомбоубежище я сидела рядом с Геней Кобышевым. Это как раз тот мальчик, который меня заинтересовал с первого же раза. Он кажется скромным, тихим мальчиком. Никогда он [не] высказывает своего мнения. Сам никогда первый не заговаривает.
Когда была переменка перед историей, он, в противоположность того, что все кругом разговаривали, он читал «Мертвые души». Я его спросила: «Тебе нравятся “М[ертвые] д[уши]”?» Он ответил без слов, тем неопределенным жестом, который всегда понятен. Потом я его спросила: «Какой предмет ты больше всего любишь?» Он опять ответил тем же неопределенным жестом, смущенно улыбаясь. Но я на этом не успокоилась: «Ну… историю любишь?» – «Нет». – «Географию?» – «Да, география ничего. Математику люблю». – «Математику? А естествознание?» – «Нет, не люблю». Больше я не нашлась продолжать разговор. А он еще некоторое время смотрел на меня как-то задумчиво, потом снова стал читать «М[ертвые] д[уши]».
Геня низенький, довольно стройный. Светлые волосы на темени образуют забавный хохолок. Взгляд его голубых глаз какой-то теплый, мягкий, выражение лица невинное, извиняющееся. Улыбка смущенная, иногда даже какая-то заискивающая. Интересно, какой же он сам по себе.
Уже 1/4 4-ого, а тревога все продолжается. Залпы зениток то стихают, то вновь учащаются.
Сейчас начну учить уроки. Особенно литературу.
Тревога кончилась без 5 минут 6. Но в 1/2 7-ого начался артиллерийский обстрел. Мама пришла пешком. Сейчас слушали статью академика Орбели, из которой узнали, что немцы расхитили петергофские и пушкинские сокровища65. Они распилили Самсона, увезли в Германию, а также разорили Янтарную комнату в Пушкине и тоже увезли в Германию. Германскому народу придется хоть из-под земли достать нам янтарь для реставрации Янтарной комнаты.
У меня последнее время что-то такое творится в душе, что я сама ничего не понимаю. Мало желаний, предположений, вопросов, столько мыслей, и все они свились клубком, шевелятся, и никак их не распутаешь. Хоть бы ухватиться за какой-нибудь конец. Ведь вот, кажется, все ясно, и действительно начинает казаться, что все мне ясно, ну буквально все, а потом вдруг сразу все как туманом подернется и ничего не понять. И главное, поделиться не с кем. Мама? Домой придет, поест и спать ляжет. Ведь она сейчас так устает. Тамара? Но как с ней поделиться и что она поймет из того, что я ей скажу, да и о чем делиться. Ведь во мне одна пустота, сущая пустота. Я ничего не понимаю, вернее, я все понимаю, только не знаю, что понимать.
Я никак не могу забыть Вовку, он мне каждый день снится. Неужели я его действительно любила, я никак себе не могу дать отчета. И почему я не могу познакомиться ни с одним мальчишкой из нашего класса. Вирой Галю уже все мальчишки называют Галькой, на большой ноге, а меня сторонятся, а некоторые называют на вы. В чем тут дело? Почему я все хочу с кем-нибудь завести разговор, то не знаю, на какую тему. Черт знает что такое. Я прямо не человек, а одно недоразумение. Никому не нравится химик, ну буквально все смеются почему-то над ним. А мне он нравится, я, черт знает почему, вижу в нем советского преподавателя, и я бы хотела, сама не знаю хорошенько, что именно, но я бы хотела, чтоб он стал нашим руководителем, и начал бы нас перевоспитывать, и добрался бы до наших душ, и мы бы стали советскими школьниками, коммунистами в душе. И чтобы он изжил из нас всю обывательщину, чтобы мы пошли с ним слушать симфонию, чтобы мы, т. е. у нас открылись глаза на весь мир, чтобы мы увидели, что мы живем, живем единственную свою жизнь. И чтоб каждый из нас твердо решил прожить свою жизнь по-настоящему. Стать действительной сменой наших родителей, быть лучше родителей. Культурней, образованней. И самим стать такими родителями, чтоб вырастить детей своих еще лучше, чем мы сами. Вот тогда будет для человека счастливая, плодотворная, радостная жизнь. И, умирая стариками, мы бы могли радоваться за прожитую жизнь. Знать, что она прожита так, что нет обиды за нее. Ах, Боже мой, как мне хочется, чтобы начали перевоспитывать ребят.
Как бы мне хотелось жить где-нибудь в другом месте, среди других ребят и еще что-то, и еще, сама не знаю, чего мне хочется. И мне хочется, чтоб Тамарка была другой. И чтоб Вовка был другой. И чтоб все они стремились к чему-то светлому, прекрасному. Может быть, я хочу, чтобы все ребята были романтиками? Может быть. Но, по-моему, нет. Нет. Конечно, нет.
Я хочу, чтоб мы жили, как говорил Ленин. И чтоб школа была другая, и условия другие.
Ленин сказал: «Учиться, учиться и учиться!!»[66]. Это, по-моему, первое, о чем должен думать советский школьник! И советский школьник должен бороться со списыванием, с картами, с папиросами. И еще со многим.
Как бы мне найти человека, который бы интересовался естествознанием, геологией, минералогией. Ведь это камни в минералогическом музее[67]. Почему они меня так волнуют? Не знаю. Мне хочется изучить по нитке, до атома всю природу. И все интересное в ней. И написать книгу о людях. И иметь альбомы с фото с разных концов нашей страны. И гору мне хочется, горы и море. Может быть, я хочу быть простым туристом? Может быть.
Нет! Нет! Не только туристом. Я сама не знаю, кем я хочу быть. Путаница в голове! Хаос!..