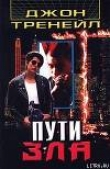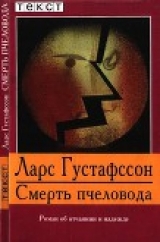
Текст книги "Смерть пчеловода"
Автор книги: Ларс Густафссон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Это домашнее животное было весьма загадочным и, особенно под утро, больше напоминало дикого зверя, но так или иначе оно было мое, и точно так же боль была моя, а больше ничья.
Но теперь я начинаю задумываться над тем, во что же ввязался, когда, к примеру, не вскрывая, сжег письмо из больничной лаборатории.
Сегодня ночью и утром я пережил нечто невообразимое, я и не предполагал, что такое возможно. Совершенно ни на что не похожее, добела раскаленное и ошеломляющее. Я стараюсь дышать очень медленно, но пока все продолжается, даже это дыхание, которое должно помочь мне хоть самым что ни на есть абстрактным образом отличить ощущение боли от паники, даже дыхание требует непомерного усилия.
Домашнего животного нет и в помине. Чудовищная, немыслимая, добела раскаленная, безликая сила вторглась в мою нервную систему, захватила ее целиком, до последней молекулы, и пытается взорвать каждый нерв, обратить его в облачко раскаленных газов, будто… будто в солнечной короне (я всю ночь думал о солнечных протуберанцах, как они пульсируют, как фонтанами вздымаются над поверхностью светила).
Теперь я понимаю, что считал это шуткой. Воспринимал так же несерьезно, как и все остальное в жизни.
Но ведь оно приходит извне! Господи Боже мой, откуда? Какие же неслыханные, неведомые силы способна породить бедная, измученная нервная система! Силы, направленные исключительно против меня. Именно против меня!
Сейчас стало лучше. Уже несколько часов вправду лучше. Но я по-прежнему обливаюсь холодным потом, и ручка дрожит в пальцах, когда я пытаюсь писать.
Надеюсь, нет, я уверен, такое никогда больше не повторится, что-то наверняка сломалось, сломалось окончательно и бесповоротно и уже никогда не причинит мне боли.
А может быть, час-другой спустя все начнется сызнова?
– В эту минуту я испытываю самую настоящую растерянность, самое настоящее смятение.
До сих пор я совершенно не понимал, что наша способность ощущать себя как упорядоченное единство, как человеческое «я» связана с возможностью иметь будущее. Вся идея «я» выстроена на том, что оно будет существовать и завтра.
По сути, эта добела раскаленная боль, конечно, не что иное, как точное мерило сил, поддерживающих единство тела. Точное мерило сил, обеспечивавших мое существование. Ведь, собственно говоря, и смерть, и жизнь равно НЕМЫСЛИМЫ.
(Желтый блокнот, III:23)
* * *
«Аста Булúн заявила, что у нее нет ответа на вопрос, имеет ли страдание какой-либо смысл, а тема доклада сформулирована ради вопроса.
Тем не менее она сказала очень много добрых, утешительных слов, полных глубокого смысла.
Она рассказала, как однажды, когда один из ее друзей от горя совершенно утратил смысл жизни, она, не зная, чем ему помочь, обронила несколько слов, которые стали ему реальной поддержкой. Эти слова были: „Наверно, все приобретает тот смысл, какой мы сами в него вкладываем“.
Аста Булин не имела в виду, что эти слова содержат некую философскую или иную истину, но что они все же выражают нечто весьма важное, а именно: даже в горестных обстоятельствах нельзя опускать руки, нужно действовать, преодолевать свое горе».
(Желтый блокнот,
вырезка из губернской газеты от 10 марта, III:26)
* * *
Топи. Болота. Дремотные стоячие воды, расползшиеся по множеству узких проток. Птицы, что взлетают все разом, тучей, стоит тебе к ним приблизиться. Легкие порывы ветра, покрывающие рябью бурую, глубокую воду. Облака.
Много летних месяцев я провел в детстве к югу от леса, неподалеку от Рамнесской деревообрабатывающей фабрики.
Странное дело, всякий раз, когда я нуждаюсь в утешении, не случайном, легком, а в глубоком, таком, которое говорит, что лучше не будет, но все равно надо утешиться, – всякий раз я вновь мысленно возвращаюсь в эти места.
Один-единственный, неизменный звук – журчанье воды, почти повсюду. От черных омутов в верховьях, у шлюза Фермансбу, и дальше вниз, до странно печальных, кишащих птицами болот у Сёдра-Надден.
Косяки рыб, недвижно стоящие на мелководье и мгновенно исчезающие, едва лишь на них падает тень.
В верховьях Кольбексона, среди озер, мы с отцом чуть не утонули, когда в конце ноября 1943 года отправились на хутора купить масла. Лодка у нас была старая, побуревшая от времени, из тех плоскодонок, какие в ходу у крестьян – но только южнее Оменнингена, дальше они не такие широкие; дно у этих плоскодонок скользкое, как стекло, потому что сплошь покрыто водорослями, один неосторожный шаг – и можно свернуть себе шею, а вдобавок они вечно текут как решето.
Та плоскодонка, которую мы взяли напрокат, текла по-страшному, куда больше, чем мы рассчитывали, и нам пришлось всю дорогу вычерпывать воду, мы по очереди как сумасшедшие, до боли в руках орудовали черпаком, пока наконец в последнюю секунду лодка не уткнулась в илистую отмель у противоположного берега. От ледяной воды руки у меня совершенно посинели.
По-моему, это вычерпывание показалось мне тогда символом всей жизни, хоть я и был совсем еще маленьким мальчишкой.
В те годы черный рынок играл в нашем существовании огромную роль. Оглядываясь назад, я не могу отделаться от впечатления, что ночами мы постоянно совершали какие-то экспедиции, чтоб купить масла без карточек или кусок лосятины.
Последние три дня боль притихла. Она как бы миновала некие опасные пороги, и теперь мы опять вышли в спокойные воды, в черные медлительные омуты на другой стороне. Вчера я немного прогулялся. Сесть за руль не рискнул, потому что чувствую изрядную слабость, но поскольку Сундблад заезжал сюда в феврале, в один из выходных дней, и знает, что я прихворнул, он всегда выполнял мои поручения насчет покупок в магазине. Интересно все-таки, что будет, когда Сундблады уедут. Думаю, я опять стану на ноги. В глубине души я чувствую, что пережил некий кризис: теперь меня мучает только слабость. Обоснованно ли, нет ли, но я внушаю себе, что все это вроде как нарыв, который должен был прорваться и прорвался, и теперь дело сразу пойдет на поправку. Надеюсь, так оно и будет.
Как ни крути, а сил у меня изрядно поубавилось. Виной тому случившееся на прошлой неделе. Что бы это ни было. Все утро я размышлял о том, не взять ли мне лестницу и не достать ли с чердака несколько рамок для ульев, ведь пора бы отшлифовать их И покрасить. По крайней мере сделаю хоть что-то полезное, от этой писанины только в уныние впадаешь. Пол-утра думал и в конце концов понял, что мне просто с этим не справиться.
Может быть, завтра.
Облака над здешними топями всегда висели низко и отражались в воде, в протоках.
Иногда летом – особенно в сороковые годы – меня не оставляло ощущение, будто я хожу под крышей. Будто очутился в какой-то хитроумной ловушке.
Тогда, в сороковые годы, на кухнях у крестьян еще встречались огромные побеленные плиты. На праздники их всегда белили заново, и со временем эти слои побелки, наверно, еще увеличивали их размеры.
Вот у такой огромной, жаркой, беленой плиты и закончилось в тот раз наше с отцом приключение. До сих пор помню запах жидкого, как бы пригорелого кофе, который мы пили в те годы.
На вершине одного из высоких холмов на западном берегу Оменнингена, где проходила тогда старая крутая щебеночная дорога из Фагерсты в Вирсбу, брат моей мамы, дядя Суне, держал деревенскую лавку.
Зеленый дом, а перед ним бензоколонка, большая красная бензоколонка – поистине замечательное сооружение со стеклянным колпаком, под которым кружился желтый бензиновый смерч. В сороковые годы, понятно, никакого бензина там не было, но вид все равно был хоть куда. Жил дядя на верхнем этаже, вместе со своей невероятно толстой женой, Рут; эта Рут никогда не выходила из дому, по-моему, она и в лавку-то спускалась с превеликим трудом и обычно восседала там, обернув круглый живот громадным мясницким фартуком, на котором кое-где виднелись пятнышки крови.
Внутри лавка была коричневая – коричневые стены, коричневый прилавок, из коричневого прилавка через проделанную стамеской дырку вытягивали коричневую бечевку. Ведь до эпохи пластиковых пакетов было еще ох как далеко. Мясной прилавок, где под стеклом в загадочном органическом бульоне плавали позеленевшие ломти печенки. Тесная подсобка за лавкой, где дядя Суне, сдвинув на лоб очки в стальной оправе, до поздней ночи считал карточки, во дворе сарай с керосином, скобяными товарами, велосипедными покрышками и разной мелочью, все строго по карточкам.
Дядя вечно курил маленькие коричневые сигарки, а поскольку усы у него были примерно того же фасона, как у Ницше или у Сталина, каждого, кто видел, как окурок, будто старинный бикфордов шнур, мало-помалу исчезает в этих усах, невольно охватывало легкое беспокойство: как бы он их не подпалил.
Пожалуй, он и впрямь кое-чем походил на Ницше. Он был индивидуалист. Не старался понравиться. Вечно сновал взад-вперед за прилавком, загнанный, с окурком в углу рта, карандашами за каждым ухом и ножницами для карточек, болтающимися на веревочке у пояса, а когда в очереди заводили всегдашний разговор о войне, обыкновенно вынимал на секунду изо рта окурок и шипел:
«Что так, что эдак – полное дерьмо!»
Что так, что эдак – полное дерьмо! – было у него чем-то вроде девиза, репликой, к которой он постоянно прибегал в более-менее драматические минуты.
У дяди Суне был грузовик, «вольво» с газогенератором, стоял он во дворе, в одном из сараев перед этим самым домом у щебеночной дороги. Иногда грузовик ездил, иногда нет. Чтобы запасти для газогенератора топливо, приходилось часами орудовать поперечной пилой и топором, превращая кругляки в маленькие, особой формы чурочки. Раскочегарить эту штуковину – тоже поистине адская работа: семь потов сойдет, пока наконец газ, как положено, потечет по разным трубкам и полостям странного высокого котла за кабиной водителя. Иной раз дрова разгорались не на шутку, и тогда спешно тормози у ближайшего озера – слава Богу, озер тут предостаточно – и лей воду на все сооружение. А в цилиндрах мотора булькала и пузырилась темно-бурая смолистая жидкость.
Но без грузовика дядя был как без рук, на нем возили муку, сахар, бидоны с молоком, ну и тайком, по ночам, всякий дефицит из Вестероса и Кольбека.
Он занимался всем понемногу, дядя Суне. И продолжалось так чуть не до конца шестидесятых, впрочем, к тому времени он, понятно, давным-давно ушел в строительную отрасль и добывал государственные ссуды под доходные дома, которые возникали по всей округе от Хальстахаммара до Вирсбу и за фантастическую плату сдавались финским рабочим; целые поселки вырастали из сырой вестманландской глины как грибы после дождя. Но это совсем другая история. В ту пору дядя Суне уже успел переехать в Вестерос, в восемнадцатикомнатную виллу с плавательным бассейном и медной крышей, и именовался подрядчиком.
А сейчас речь, стало быть, идет о сороковых годах.
Летом 1940-го Суне достал три большие бочки первоклассного бензина. Достал где-то в Норвегии, в разных немыслимых местах, и как уж он это сумел, я толком не знаю, наверно, выменял.
Мотор у грузовика дышал на ладан, так что переводить его опять на бензин не имело смысла, но у дяди был еще старый довоенный «плимут», который целых два года стоял на козлах в сарае соседа-крестьянина.
Дядя Суне, запрягши пару лошадей, приволок его домой и всю субботу и воскресенье приводил в порядок. Мотор по-кошачьи мурлыкал на дорогом немецком авиационном бензине, который каким-то чудом перебрался через норвежскую границу, где даже беженцы в ту пору проскочить не могли.
Однако было совершенно ясно, что просто так разъезжать по всей округе на бензине никак нельзя. Мигом угодишь за решетку. Соседи-то – народ чертовски завистливый.
А ведь месяцами имели кредит, почти все до единого. Не говоря уже о том, что дядя обычно смотрел сквозь пальцы на всевозможные халатности с бесценными карточками. Неблагодарные сволочи, только и знай напраслину возводят. Полное дерьмо!
И вот в авторемонтной мастерской возле Сёрстафорса дядя Суне разыскал газогенератор для легковушки – небольшой прицеп, который подсоединялся к мотору сложной системой шлангов, трубок, тросов и тяжей. Насквозь ржавый и кое-где даже прогоревший, этот аппарат имел одно неоспоримое достоинство: мог катиться на своих колесах.
Дядя Суне купил его за пять крон, как металлолом, привез на грузовике домой и всю субботу и воскресенье красил это чудовище серебряной бронзой. Результат превзошел все ожидания, лишь бы никто не вздумал сковырнуть краску.
«Плимут» ходил на бензине как часы, а газогенератор худо-бедно катился следом. Конечно, скорость из-за него несколько замедлялась, но в целом едешь прямо как до войны.
Дядя Суне разъезжал чуть не по всему Вестманланду, упиваясь вновь обретенной свободой передвижения, возил свою толстуху жену в Вестерос, в кино, и вообще решил, что жизнь понемногу налаживается. Кстати, дела в то время и правда шли превосходно.
Тогдашняя дорога от Вирсбу до Фагерсты удобством не отличалась. Теперь прямо через двор дяди Суне проходит шоссе, от зеленого дома-лавки и следа не осталось, единственная память о нем – необычайно красивый старый ясень, который каким-то чудом пощадили и гусеничные трактора, и взрывные работы, он до сих пор стоит справа у обочины, склоняясь над дорогой.
Проезжая мимо, я каждый раз вспоминаю то далекое время. Весной ясень по-прежнему зеленеет.
Могучие деревья, эти ясени.
Зимой по старой дороге возили лес, и она превращалась в сплошные ухабы. Иногда ранней весной целые участки левой обочины (я вижу этот ландшафт с севера на юг, но мои привычки связаны с другой дорогой) обрушивались в Оменнинген, и вешки дорожного управления, выкрашенные в изысканный красный цвет, предупреждали, что здесь необходимо соблюдать осторожность. Уклоны были невероятной протяженности, самый длинный – верных полторы с лишним мили, мечта велосипедиста, едущего с севера, и кошмар для едущего с юга.
На новой дороге подъемов и скатов почти нет. Она пробита взрывами и ведет сквозь громады горных хребтов, отрогов Ландсберга, меж мощными скальными стенами; древние, заросшие тростником болота вокруг Сёдра-Надден с их покрытыми рябью протоками, дикими утками и загадочными лабиринтами недвижной черной воды частью засыпаны – тысячи грузовиков свозили туда щебень после взрывных работ. Всю округу вверх дном перевернули.
Пожалуй, эти места потеряли свою душу. Хотя, может быть, она просто спряталась. По-моему, в один прекрасный день она вернется.
Как бы там ни было, тогда, весной 1942 или 1943 года, дорога была в жутком состоянии, и после переписки, затянувшейся на полгода, муниципалитеты Вирсбу и Вестанфорс наконец получили из Весте роса депешу, что губернское правление проинспектирует дорогу.
Рано утром господа из губернского правления двинулись в путь на двух изрядно нагруженных автомобилях, надо полагать газогенераторных; у перекрестка к северу от Вирсбу делегация губернского правления встретилась с представителями муниципалитета Вирсбу (я цитирую губернскую газету, «Вестманландс лене тиднинг»), также прибывшими на автомобиле.
Инспекционная поездка оказалась на редкость удачной в том смысле, что у первого автомобиля – в нем ехали управляющий губернскими дорогами и начальник канцелярии губернского правления, одновременно занимавший высокий пост в кризисной комиссии, – сломалась задняя ось, а произошло это всего-навсего километрах в трех к югу от лавки дяди Суне. Почтенные начальники вместе с двумя губернскими нотариусами долго шлепали по весенней слякоти, пока не вышли к дому дяди Суне. Когда произошла авария, они, на свою беду, были последними в колонне, и пассажиры первых двух автомобилей, похоже, вовсе не заметили, что случилось.
Стало быть, они брели по слякоти, оживленно обсуждая, как бы им добраться до Фагерсты или хотя бы вернуться в Вирсбу, и вот в разгар этих дебатов начальник канцелярии углядел на холме красную бензоколонку дяди Суне.
К тому времени пот ручьями тек по его красной физиономии, а свой шерстяной шарф он затолкал в карман, и тот свисал оттуда как хвост. Портфель, слава Богу, нес один из нотариусов.
Дядя Суне узнал обоих губернских начальников по фотографиям в местной газете и на секунду побледнел. Неужто какая-то из его недавних успешных операций оказалась слишком уж дерзкой?
Однако, разглядев, в каком они виде, он быстро успокоился и улыбнулся из-под сталинских усов самой обезоруживающей своей улыбкой.
Вскоре губернские чиновники в одних кальсонах расположились за накрытым кофейным столом наверху, в квартире дяди Суне, меж тем как на кухне тетя Рут раскаленным утюгом сушила их брюки. Разговор шел о поистине ужасной дороге, ведь народ в самом деле чуть не каждый день ломал задние оси, и о том, сколько хлопот в нынешние кризисные времена доставляет бедному торговцу отчетность по карточкам, и, конечно же, господа чиновники не могли с этим не согласиться; сидеть в кризисной комиссии тоже не сладкий мед, между нами говоря, господин Янссон, а кстати, нельзя ли еще глоточек коньяку?
Атмосфера была чертовски уютная, сиди себе хоть до вечера, и дорожный управляющий был целиком и полностью «за», дорогу надо поскорее заасфальтировать, по крайней мере до вот этого поистине замечательного магазинчика, так все и шло, тихо-мирно, пока один из господ случайно не глянул на часы.
Паника! Живо надеть брюки, огромное спасибо, и, господин Янссон, не откажите в любезности, подвезите… до Вирсбу, до Вестанфорса… а кстати, докуда ближе?
– Ага, значит, до Вестанфорса? Но нельзя ли, господин Янссон, раз уж вы та-ак любезны, подвезти нас вниз, в Вестанфорс, вернее, вверх, так оно получается. Ведь я слыхал, вы, господин Янссон, наладили свой новый газогенератор?
Дядя Суне сходил в керосиновый сарай и заправил «плимут».
Поездка оказалась не менее приятной, чем застолье. Дядя Суне пребывал в лучезарнейшем настроении, сигарка резво подрагивала в ницшевских усах, и где-то в районе Сундбюской алкогольной лечебницы он фактически сумел выторговать у кризисной комиссии большущую партию текстиля для своей лавки. Автомобиль торжественно подкатил к старой муниципальной управе в Фагерсте; увидав на заднем сиденье господ чиновников, хмурые встречающие слегка повеселели. Это были уполномоченные от трех муниципалитетов, господа из губернского совета и дорожного управления вкупе с вестанфорсским полицмейстером.
Чиновники вышли из машины и поблагодарили дядю. Вот тогда кто-то и заметил, что газогенератора нет. Нет – и все тут! То ли дядя Суне в спешке забыл его прицепить, то ли – что даже более вероятно – эта чертова таратайка отцепилась по дороге.
Дядя Суне изумился совершенно искренне и ничуть не меньше всех остальных.
– Господи, – сказал он, – где же мой газогенератор?
Автомобиль бодро пыхтел на холостом ходу, но, слава Богу, ни у кого не хватило духу обратить на это внимание.
– Мы не иначе как потеряли эту чертову штуковину, – сказал Суне.
– Господи помилуй, но как же мы в таком случае сюда добрались?! – изумился дорожный управляющий.
– А что тут удивительного? – произнес начальник канцелярии со всем апломбом и снисходительностью высокопоставленного чиновника. – Ведь дорога все время идет под гору.
– Да ведь мы-то в гору ехали, – устало обронил дорожный управляющий. – Все время в гору, черт подери.
– А, что так, что эдак – полное дерьмо, – изрек дядя Суне, в легкой задумчивости.
(Желтый блокнот, III:30)
* * *
Что так, что эдак – полное дерьмо. Посещая школу, гимназию, учительскую семинарию, ты шаг за шагом овладевал более изысканным языком. И более абстрактным. Причем даже прилагал к этому слишком много стараний. В гимназии различия между детьми из низов и детьми из буржуазных семей были заметны сразу. Дети из низов пользовались языком более жестким и более трезвым. К тому же выводу привел меня и собственный учительский опыт.
Кругозор болотной лягушки, отчего все мотивы всех поступков сплошь оказывались жестоки, эгоистичны, циничны.
Язык буржуазии – самый расплывчатый. Ведь Чтобы подняться в социальной иерархии ступенькой выше, человек принужден делать вид, будто он уже там. От этого вся система в некотором смысле теряет устойчивость. Вроде и знаешь, что означают слова, а вроде и нет.
К примеру, я вот уж несколько месяцев «кладу в штаны». На другом языке это означает, что меня мучает смертельный страх. Смертельный страх представляет ситуацию в совершенно ином свете, будто выражение «смертельный страх» исполнено более высокого смысла, нежели «класть в штаны».
Лично я этого более высокого смысла не усматриваю.
Последние месяцы предельно ясно показали мне, что общество обладает подсознанием. Вероятно, дело в том, что страх высвобождает меня из всех этих языков, которые я некогда усвоил, чтобы от него защищаться. Я начинаю видеть с грозной ясностью подросткового возраста, с испуганной его ясностью.
Подсознание общества. Подопытные кролики, которых мало-помалу до смерти замучивают в лабораториях, трубки, подведенные к шейным сосудам и к желудкам, раковые клетки, которые длинными тонкими иглами вводятся в печень живых собак. Дневные коридоры лечебниц для душевнобольных, худые, трясущиеся алкоголики у моста Стурбру в Вестеросе.
Ужасная цена, которую все время нужно платить. Но кому? И за что? Чем оплачивалось мое существование до сих пор?
…
Снег все тает и тает, повсюду уже виднеются мокрые камни и гниющая прошлогодняя листва.
Рай всегда представлялся мне сухим и жарким, в первую очередь не сырым.
В раю нет лжи.
(Голубой блокнот, III:5)
* * *
Четыре дня совершенно без боли. Вчера опять заходили Уффе и Йонни. Я прочел им свой ужастик. Им понравилось, но особых восторгов я, увы, не заметил. Они сказали, что начало хорошее, только действия должно быть гораздо больше. Мы обсудили несколько вариантов продолжения. Сумеют ли герои сами пробраться к той башне и уничтожить порождающий боль ультразвуковой орган или им нужна помощь извне?
Может, они попробуют взять башню в осаду? Кто-нибудь героически пожертвует собой и отвлечет внимание противника? Нельзя ли спастись от мучительных звуков, заткнув уши воском?
У Уффе забинтован лоб. Хоккейной шайбой ему разбили бровь.
Мальчишки принесли с собой увеличительные стекла и долго сидели у меня на крыльце, пытаясь поджечь собственные шнурки. Но весеннее солнце светит пока слабовато.
Эти двое ребят здорово помогают мне развлечься и отвлечься. Они такие ясные, открытые.
(Желтый блокнот, III:31)
* * *
Кое-что продолжается. Мне страшно говорить об этом – скажу, и все вдруг опять обернется неправдой.
Болей нет уже двенадцать дней. Нередко я чувствую легкую слабость и головокружение, но ведь, возможно, виной тому самая обыкновенная весенняя усталость. Четыре раза ездил в магазин за покупками.
Так, может, ничего особенного и не было? Камень в почке? Песок, который в конце концов вышел? Собственно говоря, симптомы вполне совпадали с болями от почечных камней.
Вообще-то эти боли из самых сильных, какие только бывают. Сильнее, чем родовые схватки, как пишут в одном из старых номеров «Сайентифик америкен».
Я решил подождать недельку и уж тогда начать надеяться.
(Желтый блокнот, III:32)
* * *
Когда сам я был маленьким или, скажем, школьником: спортзал, бодрый, чуть затхлый запах пота наверху, под потолком, гимнастические стенки, ты жаждешь свершений, но сил у тебя не хватает, ты мальчик и одновременно мужчина. И какой-то бездумный полусон на уроках, в ту пору, когда только начинаешь взрослеть, – сидишь и играешь в странные игры, перебираешь собственные пальцы, пытаешься сплести их то так, то этак, как будто сидишь и копаешься в собственных мозгах, пытаясь постичь их лабиринты.
Долгое время я думал, что этот странный полусон связан со школьной скукой, но по правде скука была ни при чем.
Теперь со мной происходит то же самое: жизненная энергия словно бы затаилась, готовится какое-то огромное изменение.
В моем случае болезнь миновала кризисный пик.
Странная, тихая печаль мальчишеских лет.
Похоже, мне вновь дано пережить этот возраст.
(Желтый блокнот, III:33)
4
Интерлюдия
– – – —
(за тридцать дней вообще ни одной записи)
6 апреля. Боли идут на убыль. Только пустота.
(Рваный блокнот, IX)
* * *
7 апреля. Целый день где-то лаяла собака, должно быть, она в этой округе недавно. Лай доносится с юга, невероятно жалобный и однообразный. Может, она на цепи?
Болей нет, но проблема в том, что вместо них меня терзает другое: я начинаю надеяться и одновременно не смею дать этой надежде волю, из простой боязни, что боль может вернуться в любую минуту.
Я много размышляю вот о чем: после того письма, которое я сжег, никаких вестей из региональной больницы не было. Если б это вправду оказался рак, то, не получив от меня ответа, они бы, по логике вещей, наверняка напомнили о себе еще раз, ведь ясно же, что они следят за своими пациентами. Значит, ничего серьезного, так, какое-то воспаление. Воспаление брюшины?
А вдруг обо мне просто забыли, по халатности?
Я теперь избегаю ходить к почтовому ящику.
(Желтый блокнот, IV:1)
* * *
8 апреля. Надеяться, пожалуй, не менее трудная штука, чем то, другое. Но нам привычнее надеяться и страшиться, чем быть среди того, на что мы надеялись и чего страшились.
Вот что я усвоил: никакого реального выхода из жизни нет.
Можно лишь оттягивать решение, всеми правдами и неправдами. Но выхода нет. Система полностью замкнута, и у выхода только смерть. А это, конечно, никакой не выход.
Я – это тело. Одно только тело. Все, что должно и может произойти, свершится внутри этого тела.
(Желтый блокнот, IV:2)
* * *
Я размышлял о рае, н-да, словно больше и думать не о чем. Еще я взялся подшлифовать входную дверь, нужно ее обновить, нынешней зимой краска пошла пузырями, облупилась и висит лохмотьями. В одном из кухонных шкафов неожиданно нашлись три банки краски, должно быть, стояли там с начала шестидесятых, с времен нашей свадьбы.
Рай ставит любопытные вопросы. Что такое бесконечно длящееся состояние счастья?
Естественно, прежде всего на ум приходит оргазм. Оргазм, великий, счастливый оргазм, бесконечность которого застает тебя врасплох. Он продолжается минута за минутой, час за часом. И так интенсивен, так ослепителен, что ты не в силах думать, только чувствуешь, происходит что-то неслыханное, начинаешь тосковать по крохотной передышке, хоть на ничтожную долю секунды, чтобы можно было подумать, но неслыханное наслаждение все длится и длится, не уступает, длится час за часом…
Рай? Все это я недавно пережил.
Райское блаженство наверняка заключается в том, что исчезает боль. Но тогда выходит, что, не испытывая боли, мы живем в раю! И не замечаем этого!
Счастливые и несчастные живут в одном мире и не видят этого!
Меня не оставляет ощущение, что последний месяц я бродил по собственной жизни, словно по какому-то фантастическому, загадочному лабиринту, и вернулся точнехонько на то же место, откуда начал этот свой путь. Но поскольку я был за пределами обычных измерений, у меня каким-то образом перепугалось правое и левое, только и всего. Правая моя рука стала теперь левой, а левая – правой.
Возвращаешься в тот же мир и видишь его счастливым.
Лохмотья краски на двери – неотъемлемая часть загадочного произведения искусства.
(Желтый блокнот, IV:3)
* * *
Мне бы следовало лучше использовать время, чем просто отсиживать его в качестве учителя вестер-вольской неполной средней школы, а потом здесь в роли добровольного пчеловода, досрочно вышедшего на пенсию.
Перечень видов искусства по степени их сложности
1. Эротика
2. Музыка
3. Лирика
4. Драматургия
5. Пиротехника
6. Философия
7. Серфинг
8. Романистика
9. Роспись на стекле
10. Теннис
11. Акварель
12. Живопись маслом
13. Риторика
14. Кулинария
15. Архитектура
16. Сквош
17. Тяжелая атлетика
18. Политика
19. Воздушная гимнастика
20. Парашютный спорт
21. Альпинизм
22. Ваяние
23. Фигурное катание на велосипеде
24. Жонглирование
25. Афористика
26. Строительство фонтанов
27. Фехтование
28. Артиллерийское искусство
Одно я никак не могу вставить в перечень – искусство выдерживать боль. А все потому, что никто до сих пор не умел превратить это в искусство. Значит, мы имеем дело с искусством уникальным, степень сложности которого столь высока, что исполнителей просто не существует.
(Голубой блокнот, IV:1)
Мир, где царствует правда
На третьей планете в тринадцатой системе Альдебарана существует цивилизация, которая занимается реальностью напрямую, без каких бы то ни было символических связующих звеньев.
Идея, что, к примеру, фигура на бумаге могла бы представлять нечто иное, нежели самое себя, совершенно чужда необычайно энергичным и сильным тысяченожкам, достигшим на этой планете наиболее высокой ступени цивилизации.
Им здорово повезло, что они сильные. Поскольку единственный известный им символ вещи – это она сама, им много чего приходится таскать с собой. Выражение «сильная аргументация» имеет на этой планете самый прямой смысл.
Если, например, хочешь сказать «нагретый солнцем камень», то сделать это можно только одним способом: вложить нагретый солнцем камень в ладонь, вернее, в лапу собеседника.
Если хочешь сказать «огромный камень на вершине горы», это опять-таки можно сообщить, только затащив огромный камень на вершину горы.
В таких обстоятельствах Создание лирического стихотворения становится пробой сил, каковая предстает во всей своей героической ясности на протяжении многих грядущих поколений.
Сонеты, созданные этой цивилизацией, в большинстве выглядят как этакий Стоунхендж – гигантские торжественные строки из камней, стародавние герои, пыхтя, и сопя, и напрягаясь изо всех сил, расставили их по местам согласно древней схеме.
Ложь в этой цивилизации, конечно же, совершенно невозможна. Сказать кому-нибудь «я тебя люблю» можно лишь одним способом – занявшись любовью. И чтобы сказать «я тебя не люблю», тоже существует один-единственный способ – избегать заниматься любовью. Если это возможно.
В мире, где символ постоянно совпадает с вещью, с предметом и где его никак нельзя заменить забавными скромными звуками или диковинной последовательностью мелких значков на бумаге, которые, строго говоря, имеют ровно такое же отношение к другим вещам, как наши ненадежные и случайные социальные условности, – в таком мире правда конечно же совпадает с осмысленностью, а ложь с бессмысленностью.
Понятно, единственная замена лжи в таком мире – туманная речь, настолько близкая к бессмыслице, что понять ее невозможно.
Обычная светская беседа на этой планете выглядит так: обитатели извлекают из кожаных мешков всякие крохотные предметы: стеклянные шарики, мелкие разноцветные камешки, красиво отполированные деревянные колышки – и оживленно ими обмениваются.