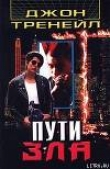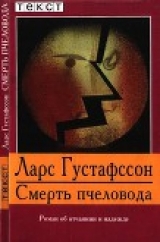
Текст книги "Смерть пчеловода"
Автор книги: Ларс Густафссон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Я увидел у нее на лице какую-то противную сыпь – не то мелкие прыщики, не то угри, словно от какой-то странной кожной болезни, – и мысли мои незамедлительно пошли в другом направлении. Тем не менее я продолжил разговор, и она отвечала, весьма легким и приятно-учтивым тоном. И сказать по правде, очень может быть, что я выбрал для знакомства один из тех досадных и неподходящих дней, когда секс под запретом; ведь в нашей округе она вообще-то считается весьма красивой.
Однако же эта встреча принесла мне известное облегчение. Избавила от начавшегося было не вполне приятного беспокойства. И скверной привычки привязываться к всевозможным объектам, привлекающим к себе беспокойное внимание.
…
И тут вполне естественно напрашивается вопрос: когда мы любим или, точнее, влюбляемся, то во что же именно мы влюбляемся?
Любим ли мы представление о человеке или самого человека?
Может быть, мы способны общаться лишь с собственными представлениями? Может быть, мы и любим все время лишь собственные наши представления?
…
Любовь и географическое расстояние. Когда человек, которого любишь, садится на поезд и уезжает прочь, порой совершенно отчетливо испытываешь что-то вроде облегчения. Уходишь от реальности, можешь вновь спокойно общаться с представлением.
На каком максимальном расстоянии можно вообще любить человека? Девушка, которую я очень любил в школьные годы, ее звали Моника, уехала в Калифорнию. Много лет мы переписывались, но мало-помалу переписка, конечно, сошла на нет.
Существовала ли Моника (для меня) в ту пору? Или я давным-давно общался с представлением?
На каком максимальном расстоянии можно вообще любить человека? На расстоянии ста миль? Двух с половиной? Моя давнишняя мечта – завести любовницу в Скультуне. Замечательное расстояние, ровно полчаса езды на машине. Летом, пожалуй, чуть поменьше, а в сильную гололедицу чуть побольше.
На каком максимальном расстоянии можно вообще любить человека?
Ответ: на расстоянии менее одного миллиметра. И анонимно.
…
Когда мы наконец решили развестись и Маргарет уже начала прикидывать, как бы ей заполучить в Вестеросе жилье, произошло нечто странное. Мы ходили по квартире, рассматривали вещи, обсуждали, какие книги возьмет она, какие я, где она купила это или то, забрать ли ей с собой старый шкаф с подъемной дверцей.
Мы оба пришли в отличное настроение, прямо-таки развеселились. Шугали и разговаривали так, как не разговаривали уже года два с лишним, оба вздохнули с облегчением и сами немало удивились, сколь реальны мы друг для друга.
Нам было уже незачем общаться через представления.
(Голубой блокнот, I:1)
* * *
…в феврале то ли 1968, то ли 1969 года меня выбрали – я так и не понял толком почему – кандидатом в члены правления Шведского объединения биологов. Годовое собрание состоялось в Коммунальном центре в Сёдермальме[2], и, когда февральским вечером, часов около шести, я вышел оттуда, уже совсем стемнело. Жил я через дорогу, в гостинице «Мальмен», и, поскольку не мог придумать себе никакого путного занятия, решил прогуляться, несмотря на десятиградусный мороз.
Я зашагал вниз по Фолькунгагатан, прохожих на улице почти не попадалось, хотя был воскресный вечер, новолуние и кое-где, даже на мостовой, лежал тонкий снежок.
Дошел я до самой гавани, а затем направился вверх по Стигбергсгатан, в сторону Систа-Стювернс-Траппа, почти забытого квартала, который совершенно не менялся по крайней мере со времен Августа Стриндберга, – странный суровый город словно бы далеко-далеко на севере Скандинавии, красные деревянные домишки на склоне горы, деревянные лестницы, пахнущие деревом дома, названия улиц, напоминающие о Балтике, об эстонцах и финнах, город в городе, куда все приходило сверху: указы, налоги, армейские предписания замерзнуть в славянских болотах, буржуазные революции и те шли сверху.
Я порядком устал, просидев целый день в Коммунальном центре, в прокуренном помещении с плохой вентиляцией, дебаты по поводу бюджета Объединения шли довольно бестолково и долго, вдобавок я все время думал о другом, о чем именно – здесь для нас значения не имеет.
И на воздух я выбрался с одной-единственной мыслью в голове: пройтись вниз по Фолькунгагатан. Шел я совершенно машинально, надвинув на уши шапку из искусственного каракуля. Квартал за кварталом, в общем-то ни о чем не думая.
Когда я очутился у Стадсгордена, я вдруг поймал себя на том, что все-таки кое о чем думал: о моем стокгольмском детстве.
Зима, примерно восьмидесятые годы прошлого века, стужа, очень много снегу. Мы живем в низеньких деревянных домиках возле Карлбергского канала, он совершенно замерз, и после школы мы, дети, катаемся по льду на коньках, старомодных, с загнутыми вверх, точно кочерга, концами лезвий. Все необычайно ярко и отчетливо. Моя младшая сестренка тщетно старается прикрепить коньки к своим грубым ботинкам на пуговицах, и я помогаю ей стянуть ремешки. Мы скользим по каналу в лучах низкого солнца, скоро вечер. Несколько больших, пахнущих смолой паромов вмерзли в лед, мы забираемся на них и смотрим, чтó там есть, хоть это и запрещено. Видим несколько пивных бутылок, брошенных на палубе кем-то из грузчиков, бутылки и вправду старомодные, зеленого стекла, с длинными горлышками.
И вот однажды под вечер в кустах возле канала я нашел замерзший женский труп, над льдом видна только одна рука, эта молодая женщина утопилась осенью в канале, и теперь ее тело накрепко вмерзло в лед. Меня не пугает, что молодая женщина вмерзла в лед, это словно бы вполне естественно, только очень грустно, и мне очень ее жаль.
Но когда я прихожу домой и рассказываю о том, что увидел, поднимается жуткая кутерьма, все бегут на улицу, из города приезжает рабочий с длинными пилами, нам, детям, смотреть не разрешают…
И вот на этом месте истории я вдруг опомнился: ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ, У МЕНЯ ЖЕ НЕ БЫЛО НИКАКОГО СТОКГОЛЬМСКОГО ДЕТСТВА. Тем более в восьмидесятые годы прошлого века!
Человек впечатлительный сразу начал бы рассуждать о переселении душ и памяти прежней жизни. Но такие замысловатые объяснения, разумеется, ни к чему.
Просто подсознание, ненадолго предоставленное самому себе, начинает фантазировать. Создает себе некое тождество, приспосабливается к обстановке, услужливо порождает новые формы, чтобы заполнить внезапную пустоту, возникающую, когда мы забываем о повседневности.
По всей видимости, подсознание ничего так не страшится, как ощущения полного отсутствия тождества.
И потому оно услужливо сочиняло мне новую биографию!
(Голубой блокнот, II:4)
* * *
Шанс столкнуться с тем, что возымеет для нас значение, дается нам не однажды, а минимум раз двадцать, пока мы наконец не воспримем подсказку всерьез.
По крайней мере со мной всегда обстояло именно так.
А мы, пока есть возможность, уклоняемся.
Впервые я увидел Маргарет, должно быть, еще в реальном училище в Вестеросе. Я посещал пятилетнее училище, она – четырехлетнее. В четырехлетием учились главным образом дети из сельской местности, потому что им, понятно, было трудно годами ездить туда-сюда на автобусах и поездах и родители старались по возможности сократить срок обучения.
Те, что ездили в вестеросское училище из Сурахаммара, Хальстахаммара, Кольбека, Рюттерне и Стрёмхольма, были, пожалуй, чуть взрослее и чуть самостоятельнее нас, городских, и держались своей компанией, несколько особняком.
Тогдашняя Маргарет запомнилась мне худенькой, тихой, маленькой светловолосой девочкой, которая наверняка постоянно мерзла, ведь зимой она носила смешную вязаную шапку, натянутую глубоко на уши. Белокурые волосы можно было увидеть только в разгар весны.
С виду она казалась очень застенчивой.
В ту пору я интересовался совсем другой девочкой из ее класса, теннисисткой, с длинными темными волосами, большими глазами, уже развитой грудью и высоковатыми скулами, какие до смешного часто встречаются у уроженок Вестманланда. Имя ее я при всем желании вспомнить не в силах. Эта девочка и Маргарет дружили, во всяком случае, их часто видели вместе, совершенно непохожие, какими нередко и бывают подружки, одна – привлекательная, другая – вовсе невзрачная.
Маргарет как будто бы пыталась иной раз поболтать со мною, по крайней мере, она уверяла меня в этом все десять лет, что мы были женаты, но, по ее словам, я в упор ее не замечал.
Оглядываясь назад, я не могу отделаться от ощущения, что она попросту казалась мне чуточку, самую малость, противной. От нее веяло какой-то неловкостью, а может быть, я сам чувствовал себя рядом с нею не в своей тарелке.
Может быть, на деле эта неловкость притягивала меня? Или я смутно угадывал, что когда-нибудь она будет значить для меня куда больше, чем в ту пору?
Единственное, что мне отчетливо запомнилось с тех времен, это моя яростная, но совершенно тайная ненависть чуть ли не ко всему миру: к учителям, школе, одноклассникам, – в общем, ко всему миру, ведь, как мне представлялось, он был настроен ко мне до невозможности враждебно, так и норовил унизить меня, поставить на место, и всегда по праву сильного.
А эта маленькая, светловолосая, какая-то беспомощная девочка казалась такой же угнетенной, как я, наверняка такой же подавленной, как я. И хорошо, черт побери, что я не считал ее особенно интересной! Мне требовались раскрепощенные люди!
Когда я приехал в Упсалу и записался в семинарию, большинство моих приятелей давно успели обосноваться в городе, а я довольно долго был в армии, проходил на флоте унтер-офицерскую подготовку, и, когда поступил в семинарию, все, кого я знал по Вестеросу, уже учились в университете.
Маргарет поступила в семинарию год спустя.
Встретились мы на танцах. Вряд ли я собирался приглашать ее, но по какой-то причине все-таки пригласил.
Вот тогда-то я и ощутил исходившее от нее удивительное чувственное тепло. Мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу.
Но лишь один раз.
Потом я пошел домой к совсем другой девушке, единственное, что я о ней помню, это рост – она была намного выше меня, и, кажется, я даже спал с нею.
Провести ночь с Маргарет, должно быть, почему-то казалось тривиальным. В те упсальские годы жизнь моя шла весьма безалаберно. В семинарии особых сложностей не было, подлинные неприятности мне доставляла только игра на органе, чертовы педали никак не желали попадать в такт, позднее, лет через десять, когда я учился водить автомобиль, инструктор жаловался, что я обращаюсь с автомобильными педалями так, словно это педали органа. Но если отвлечься от педалей, упсальская семинария была поистине чепухой, детской забавой, или как там еще говорят в таких случаях, и время я использовал главным образом на то, чтоб бегать за девушками.
Почему – не знаю, наверно, я был переполнен каким-то беспокойством, но в особенности меня интересовало обольщение.
Слово, конечно, слишком высокопарное… но речь шла именно об обольщении.
Я хотел доказать, что существую. А доказать это можно одним-единственным способом —. воздействуя на другого человека.
Чем сильнее такое воздействие, тем убедительнее подтверждается твоя собственная реальность.
В те годы мне ужасно хотелось быть на виду. А если удается кого-нибудь обольстить, значит, удается и быть на виду.
Студенческие землячества устраивали тогда в Упсале потрясающие танцевальные вечера, в особенности славились те, что бывали по средам в Вестманландском землячестве; безумная толчея, запах дешевых духов, по одну сторону зала – девушки, по другую – парни. Жарища такая, что лак на портретах увешанных орденами давних инспекторов просто чудом не растекался.
Собственно, оставалось только выбрать. Безлично, методом тыка.
Но меня интересовали в первую очередь девушки слегка застенчивые, слегка замкнутые, такие, что могли каким-то образом измениться.
Такие, что легонько трепетали, когда ты с ними танцевал. Чуточку напряженные.
Думаю, подход у меня был сугубо механический, в том смысле, что я запускал некий процесс, который преследовал одну-единственную цель – доказать что-то обо мне самом.
(«Обо мне самом», «я сам» – все эти словесные конструкции кажутся мне теперь сущей тарабарщиной. В них попросту нет смысла.
Но я не могу точно объяснить, что имею в виду.)
С деньгами у меня тогда обстояло до крайности скверно. Покупательная их способность была выше, чем теперь, но и учебные ссуды приходилось растягивать на куда более долгий срок, и, если сидеть сложа руки, ситуация складывалась препаршивая.
Сначала мы втроем – Бертиль, Леннарт и я – снимали две большие комнаты в Свартбеккене. Но миновал один семестр – и Бертиль с Леннартом стали отдаляться от меня.
Ведь они учились в университете и мало-помалу обзавелись собственными друзьями. Правда, дело было не только в этом. Отличаясь прилежанием – надо сказать, Бертиль умер всего несколько лет спустя, но это уже совсем другая история, – отличаясь прилежанием и амбициозностью, они решили, что я не в меру часто сманиваю их на гулянки, а средствами на такую разгульную жизнь никто из нас не располагал.
Помню, что в конце ноября мы ходили по ресторанчикам без пальто, чтобы сэкономить несколько крон на гардеробщике.
Вновь встречаясь со мною лет через пятнадцать, многие твердили, что я очень изменился, стал просто до невозможности спокойным.
Я никогда не мог толком уразуметь, что они имеют в виду. Сам я никакой перемены в себе не ощущал.
Но, судя по всему, в то время я слыл человеком безалаберным, как бы без царя в голове. Кажется, кое-кто даже вспоминал обо мне всякие смешные истории.
Сам я отчетливо помню всегдашнее отсутствие денег, постоянные выпрашивания взаймы то у одного, то у другого, долги, которые нужно было непременно вернуть, и долги, которые в случае чего можно было послать к черту, и все эти мерзкие виляния при встречах с теми, у кого не раз занимал деньги, но так и не отдал ни гроша.
Хуже всего было под конец, на последнем курсе. Тот год вообще выдался суетливый. Для меня по сей день загадка, как я умудрился вполне успешно сдать выпускные экзамены.
Я встречался тогда с девушкой по имени Черстин. А было это, кажется, весной 1958 года.
Я и теперь думаю, что она питала ко мне большую симпатию, едва ли не любовь, по крайней мере, что-то во мне очень ее привлекало. Но вместе с тем думаю, что я никогда не встречал другого человека, который бы так откровенно меня боялся.
Чего она боялась? Бог ее знает!
Спустя много лет я размышлял об этом, отыскивал всевозможные деликатные объяснения, перечитывал ее письма, просматривал по-девчоночьи острые и тонкие рассуждения о моей душевной жизни (себялюбец, эгоцентрик, неспособный поддерживать контакт с другим человеком, и т. д.), но в итоге пришел к совершенно неожиданному выводу: причина была, скорей всего, социальная.
Черстин выросла в Лидингё, в добропорядочном докторском семействе, не слишком прогрессивном, но, во всяком случае, вполне «почтенном», изучала историю литературы и скандинавские языки и готовилась стать магистром философии.
Совершенно ясно поэтому, что я был для нее неподходящей партией.
Я вызывал у нее интерес, но с социальной точки зрения являл собой фигуру весьма сомнительную.
По всей видимости, другие считали меня куда более опустившимся, чем полагал я сам.
Однажды воскресным утром, когда я проснулся у нее дома, мы из-за чего-то повздорили, не помню уже из-за чего, помню только, что утро было поистине лучезарное. Квартира располагалась на Эстра-Огатан, прямо против дворца, а в утренних лучах этот дворец всегда выглядел на редкость красиво. Я пошел к входной двери взять «Дагенс нюхетер», которую по воскресеньям примерно в эту пору бросали в почтовую щель, дело было весной, когда пресса начинает рекламировать купальные костюмы; я помню об этом, так как по дороге в комнату заметил, что газета пестрела такой рекламой, а потом мы опять стали ссориться, и она что-то сказала (при всем желании не могу сейчас вспомнить, что именно), но в результате я просто встал и ушел.
Ужасная история. По-моему, ею закончилась часть моей жизни.
(Оставшаяся часть закончится нынешней зимой.)
Три недели спустя, в последних числах апреля, я встретил Маргарет. Впервые с тех пор, как мы надолго потеряли друг друга из виду…
(Желтый блокнот, II:1)
* * *
Внезапная оттепель, долгая прогулка с собакой, в последние дни боль вполне под контролем, большей частью в четыре – в пять утра, но не настолько скверная, чтобы не заснуть.
Несколько дней я, должно быть, пребывал в легкой прострации, потому что окрестный ландшафт успел совершенно измениться. Влажная дымка, резкий запах земли и подгнивших берез вдоль моей дороги, а вороны, настоящие крупные вороны, которые обычно держались стаей возле железнодорожного виадука у шоссе 251, непонятно почему перебрались сюда, на опушку леса. Сидят на деревьях возле забора, и все утро я слышу их хриплые голоса. И светает теперь уже чуть раньше. Интересно, какое будет лето в этом году? Сырое и холодное, как прошлое, или, может, по-настоящему жаркое?
Я часто спрашиваю себя, доведется ли мне его увидеть. Так или иначе, лодку надо тщательно проконопатить. Минувшей осенью корма текла как решето. К тому же лодка слишком долго, до самых осенних штормов, оставалась на воде и совершенно понапрасну билась о причал. В ту пору, осенью, я чувствовал себя вполне хорошо, но совершенно не хотел ничего делать, вся моя энергия куда-то подевалась.
…Опять думал о Маргарет. Средь этого тумана, или, пожалуй что, весенней дымки, я почему-то вновь затосковал о ней. Осторожные шаги по ковру рано утром – она всегда вставала первая и варила кофе, привычка аккуратно отправлять свежую газету, прежде чем я успевал ее прочесть, в стопку старых газет в шкафу под мойкой, прямо-таки несносная манера вечером ровно в десять или в пол-одиннадцатого приниматься за работу. Вот ведь что остается в памяти.
И теперь, особенно когда начинаются боли, я очень по ней тоскую.
Но притом совершенно ясно, что все это было совершенно невозможно. Просто чудо, что мы так долго пробыли вместе.
Вся наша совместная жизнь целиком строилась на одном-единственном простеньком принципе, на одной-единственной договоренности.
Нам запрещалось видеть друг друга. Я имею в виду, видеть по-настоящему.
Весьма сложная игра – соблюдать такой уговор целых двенадцать-тринадцать лет, не сбрасывать маску, даже когда сердишься или очень несчастен; нас обоих как бы очень надолго заперли в крошечной, тесной клетушке да еще поставили условие, что мы должны все время сидеть друг к другу спиной.
Конечно же, напрашивается вопрос, чтó может скрываться за таким уговором.
Я думаю, боль. Некая первозданная боль, которую носишь в себе с самого детства и ни под каким видом не должен выставлять напоказ. Главное здесь не существование боли, а необходимость ее скрывать.
Но почему так важно ее прятать?
Временами мы работали в одной школе, временами – в разных. Лучше всего было, когда мы целыми днями видели друг друга. Если один из нас весь день отсутствовал, а потом вечером мы встречались, неизменно наступал некий критический момент. После обеда, когда заканчивался первый рассказ о дневных событиях, сразу после кофе, перед телевизионным выпуском новостей, непременно происходил вроде как отлив, вода отступала, обнажались камни.
(Голубой блокнот, II:2)
* * *
Она была небольшого роста, двигалась легко, всегда почти танцуя, и говорила приятным тихим голосом. В ней чувствовалось острое, заразительное любопытство к людям, к миру, она много читала, и разговаривать с нею было весьма занятно. Она всерьез интересовалась почти всем, что попадало в поле ее зрения, кроме, пожалуй, меня.
Последняя упсальская весна успела миновать, начиналось лето. Горожане в большинстве разъехались, а я остался, потому что получил работу – преподавал шведский студентам-иностранцам, – и даже переехал в центр, в переулок Бевернс-Гренд, совершенно случайно – уехавший на лето сокурсник сдал мне свою комнату.
Она пришла вместе с подругой, и мы устроились на веранде маленького уличного кафе рядом с собором, называлось оно, кажется, «Домтрапп-челларен». До сих пор как сейчас помню газетные заголовки в табачном киоске напротив, речь шла о каком-то новом сложном этапе борьбы за пенсии, которая в ту пору, в конце пятидесятых, носила особенно ожесточенный характер. Я помню их так отчетливо, потому что смотрел на них все время, пока мы разговаривали.
Подруга была невысокая, худенькая, угловатая девушка с узким личиком, в очках.
Можно сказать, этакая копия Маргарет. Говорила она немного, но, помнится, я сидел и мысленно все время их сравнивал, точно это было невероятно важно. Хотя толком не понимал, зачем я это делаю.
Все изначально представлялось ясным и понятным, словно было решено и подписано много лет назад. Мы сидели за столиком и разговаривали, между прочим именно об этих вот краях, сидели, и один узнавал в другом себя. Здешние края она изучила вдоль и поперек, знала наперечет все озера, развалины, старые, заброшенные железнодорожные ветки. Ведь с детства проводила летние каникулы в Северном Вестманланде.
Сидя в лучах летнего вечера, я вновь видел родные места – ее глазами.
Думаю, так все и началось.
Она всегда была, что называется, девушкой чистенькой и аккуратной и внешне выглядела безукоризненно. (Любопытства в ее взгляде с годами только прибавлялось.)
Поэтому для меня по сей день загадка, отчего я всегда испытывал легкое смущение и растерянность, когда мы с ней, гуляя по улицам, встречали кого-нибудь из знакомых. Может быть, смущался я просто оттого, что мы были вместе?
(Желтый блокнот, II:2)
* * *
Жизнь шла вполне спокойно. В самом деле несколько лет все было спокойно, прямо-таки идиллия, ни больше ни меньше. Мы колесили по Вестманланду, учительствовали то в одной школе, то в другой, наводили порядок и уют в старых казенных квартирах, развешивали по стенам ее домотканые ковры, расставляли мои шкафы и другие вещицы, в большинстве сделанные собственноручно в разных школьных мастерских.
Пожалуй, мы довольно часто переезжали с места на место, причем работали все время в провинции, – таков был наш образ жизни; так мы оба выражали свой (весьма неопределенный) протест против окружающего общества. Протест овощеводов. Протест против индустриального общества, против…
Я уже плоховато помню. Странно, теперь то время с каждым днем уходит от меня все дальше, и на первый план выступает совсем другое: песня дрозда за окном, утром, когда я просыпаюсь, а чуть поодаль вороны в ветвях деревьев, капля воды на сучке, среди дня, когда наступает оттепель. Подобные вещи видятся теперь в ином свете, то же, что осталось в прошлом, кажется мелким, незначительным.
Она всегда любила ткать, и при переездах больше всего хлопот доставлял ткацкий станок, который приходилось разбирать, а потом собирать снова. В последней нашей квартире он еле поместился, казалось, того и гляди упрется в потолок. Она и краски готовила сама, восковые краски по старинным рецептам.
В Упсале я жил весьма суматошно – девушки, гулянки, долги. Новый образ жизни на лоне природы позволял по-настоящему порвать со всем этим.
Конечно, здесь было и кое-что от романтики или, пожалуй, от анархии. Мы оба с неприязнью относились к правящим кругам, к централизму в стране, к массовому переселению людей из вековых мест обитания в безликие, словно казармы, городские предместья. Неприязнь вызывала у нас и школьная администрация, которая даже и не думала расходовать отпущенные средства на то, чтобы сделать школьные дворы хоть немного уютнее и веселее, но транжирила деньги на нелепые помпезные скульптуры. За завтраком мы без устали ругали слияние муниципальных зон, закрытие школ в малонаселенных районах и сплошную вырубку леса, ведь это однозначно свидетельствовало, что здешний край считают лишь сырьевой базой, этакой кладовкой, откуда знай только берут и берут.
Я имею в виду: все это были реальности, вещи, которые кое-что значили для нас на деле, в самом практическом и очевидном плане, хотя, возможно, не обошлось и без доли снобизма, чувства некоего превосходства: дескать, уж мы-то знаем, чтó тут происходит.
Однако было и еще одно: нас объединяла внутренняя близость. Чувство превосходства над другими весьма способствует сближению.
И мы держались вместе, заодно, без сантиментов, вполне рассудочно и все же очень по-доброму. Мы чувствовали себя как два чудака, которые нашли друг друга, и сблизились как раз в силу своей чудаковатости, и уже не были чудаками, потому что нашли друг друга.
Держась вместе, мы с Маргарет как бы говорили:
Мы начнем сначала. Мы не сдадимся.
Она была младшей дочерью невероятно деспотичного фалунского врача, который занимал в медицинских кругах весьма высокое положение. Среди ее братьев были офицеры запаса, чемпионы Швеции по военному пятиборью, поверенные по коммерческим делам и пес знает кто еще. Видел я их всего несколько раз, но, по-моему, они смотрели на меня с нескрываемым презрением. Один даже как-то спросил, неужели вправду можно прожить на жалованье учителя неполной средней школы – в ту пору именно так и говорили: учитель неполной средней школы. Мы были друг для друга совершенно непостижимы.
Отец – если не ошибаюсь, он еще жив – был жуткий тип, держал в страхе всю семью, медсестер, младших врачей и вспомогательный персонал; его высказывания по медицинским вопросам знала вся страна, большей частью речь шла о том, что зимой девочкам нужно носить шерстяные чулки, что аборты подрывают военную мощь государства и что страна грязнет в венерических болезнях и юношеском алкоголизме.
Младшая дочь каким-то образом умудрилась скрыться от его надзора. Мне кажется, большую часть своей юности она провела, помогая на кухне. Бледная, худенькая, веснушчатая, она до смерти боялась отца, а при братьях не смела слова сказать, ее прибежищем стали книги, мир за пределами двенадцатикомнатной виллы высоко над Фалуном. По-моему, началось все с современной поэзии, которую она взялась читать просто от любопытства, потому что однажды за обедом эти стихи вызвали град насмешек, она же, слушая прочитанные издевательским тоном строки Экелёфа и Линдегрена[3], вдруг поняла, что в некотором смысле речь там идет о ней:
«Я золото ищу, перед которым все золото теряет цену».
По-моему, женщиной она стала очень поздно. Ее как раз собирались засадить на какие-то курсы домоводства, когда она впервые в жизни по-настоящему вспылила, наотрез отказалась, нашла себе комнату в Упсале и записалась в университет.
Семья у них была аристократическая, причем несказанно шведская. Даже и спустя десять лет я улавливал в речи Маргарет отголоски этой огромной, презрительной неприязни ко всему, что хотя бы отдаленно напоминало индивидуальную, умственную работу, и резкой враждебности к философии. «Образованность» заключалась в умении правильно произносить французские слова. Интерес к Марксу, или Кьеркегору, или Фрейду, напротив, был чуть ли не признаком невежества. Вполне под стать разве что учителю неполной средней школы.
У нее это осталось в виде осторожной неприязни ко всему, что мало-мальски походило на «самокопания».
Помню, однажды я всерьез с ней поссорился, да так, что несколько дней вообще не желал с нею разговаривать. Случилось это в поезде, по дороге в Копенгаген. (На каникулах мы иногда предпринимали такие поездки.)
Началось все с того, что я высказал вслух некую идею, только что вычитанную в книге.
– Представь себе, – сказал я, – вдруг слово «я» и впрямь вообще не имеет смысла. Ведь в повседневном языке это слово употребляется точно так же, как какое-нибудь «здесь» или «сейчас». Все люди имеют право называть себя «я», но вместе с тем каждый раз это право имеет лишь один человек, а именно говорящий.
Никто себе не внушает, что «здесь» или «там» означают нечто особенное, означают, будто за словом что-то стоит. С какой же стати нам тогда воображать, будто у нас есть «я»?
Что-то в нас думает. Чувствует. Говорит. Вот и все. Или: что-то думает здесь, – сказал я и приставил палец ко лбу.
– Если будешь продолжать эти самокопания, ты свихнешься, – сказала она.
(Желтый блокнот, II:8)
* * *
Фантастически прекрасное утро. В глубинах сна (снилось мне, между прочим, что какой-то добрый, хотя в принципе невероятно опасный слон гонялся за мной по бесконечной равнине, – но боли я сегодня ночью не испытывал), так вот в глубинах сна я ощутил приход огромного голубого антициклона Когда в семь утра я спустился на кухню, он исполинским колоколом накрыл всю округу, и даже сейчас, во второй половине дня, на небе ни облачка.
Совершенно не мартовская погода.
Утром я все-таки проверил ульи, добавил сахарного раствора; замерзла только одна семья, впрочем, утешил я себя, эти пчелы и раньше не отличались ни усердием, ни крепостью. Я никогда не мог взять в толк, чем они занимаются. Соты построили примерно на каждой второй рамке, да и то неуверенно, чуть ли не кокетничая, будто хотели сказать, что прекрасно понимают, зачем нужны эти искусственные восковые рамки, но на всякий случай решили все же немножко построить, только чтобы показать, что как-никак владеют геометрией.
Чертовы кокетки! И очень хорошо, что они замерзли. Летом их бы наверняка обуяла горячка роения, и они бы сами себя извели. Так сказать, идея перманентной революции.
Маренго, Аустерлиц, Лейпциг… Мало что так располагает к самодержавному деспотизму, как пасека. Можно испытывать все наполеоновские переживания, не мучая коней и не видя ни одной человеческой смерти.
Вместо этого видишь смерть множества пчел.
Все могло бы продолжаться сколь угодно долго: все было хорошо и исполнено гармонии – гармонии, которая кой-чего стоила, но так или иначе была гармонией, – да-да, все могло бы продолжаться.
Если б однажды, в конце шестидесятых, не начались вдруг разные события. Причем так неожиданно, что осмыслить происшедшее я сумел лишь через несколько лет. На меня попросту обрушилось совершенно новое и совершенно нежданное переживание – любовь.
Конечно же произошла катастрофа, я с самого начала знал, что это обернется катастрофой, но вообще-то никакие катастрофы меня не пугали. Оглядываясь на свои тогдашние поступки, я не могу отделаться от впечатления, будто и в самом деле все время желал катастрофы. Вряд ли можно истолковать это иначе.
Это невероятно забавная история, с огромным количеством неправдоподобных и нелепых случайностей.
Время от времени я ездил в Стокгольм на конгрессы Объединения биологов. И поездки мои оплачивались, потому что несколько лет я состоял в правлении. Останавливался я обычно в гостинице «Мальмен» и вечерами ходил в Оперу или в концерт. Маленькое тайное удовольствие, ничего особенного.