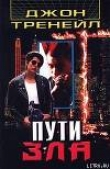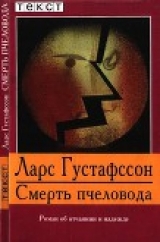
Текст книги "Смерть пчеловода"
Автор книги: Ларс Густафссон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Annotation
Роман известного шведского писателя написан от лица смертельно больного человека, который знает, что его дни сочтены. Книга исполнена проникновенности и тонкой наблюдательности в изображении борьбы и страдания, отчаяния и конечно же надежды.
Ларс Густафссон
Коротко об авторе
СМЕРТЬ ПЧЕЛОВОДА
Пролог
Перечень источников
1
2
3
4
5
6
7
notes
1
2
3
4
5
6
7
Ларс Густафссон
Коротко об авторе
Ларс Густафссон (р. 1936) – один из наиболее популярных писателей Швеции. Свой первый роман «Последние дни и кончина поэта Брумберга» он написал в 1959 году. Вскоре о творчестве Густафссона заговорили за пределами его страны, его произведения стали издаваться на многих языках. Отношения писателя с шведской действительностью были непростыми, и в начале восьмидесятых он переехал в Соединенные Штаты, где и по сей день преподает в Техасском университете (г. Остин) философию и германские языки.
Густафссон – автор многих романов и поэтических сборников; он удостоен нескольких престижных литературных премий. В шведской литературе его имя стоит особняком – не в последнюю очередь благодаря пристальному интересу писателя к романтическому созерцанию, средневековой мистике и еврейской культуре. Вместе с тем Густафссон, может быть, выразительнее, чем большинство писателей его поколения, изобразил повседневную жизнь провинциальной Швеции, например, в серии романов под общим названием «Трещины в стене». В каждом из романов – своя, отдельная история, а объединяет их общий герой по имени Ларс, который родился в тот же год и день, что и сам автор…
«Смерть пчеловода» – заключительное произведение этого цикла. Это книга о мужественном противостоянии человека жизненным обстоятельствам. Герой романа неизлечимо болен, он догадывается, что его дни сочтены. И все же раз за разом он повторяет: «Мы начнем сначала. Мы не сдадимся».
* * *
Прекрасное произведение, трогательное и печальное, строгое по стилю и находящее глубокий отзвук в душе читателя.
«Нью-Йоркер»
В романе есть лирическая насыщенность, которую мы привыкли связывать со скандинавским кино, духовная глубина и проникновенность.
«Йоркшир пост»
СМЕРТЬ ПЧЕЛОВОДА
(Роман)
Подонки! Палачи!
Державные убийцы!
Вам до сих пор непонятно?
И вы по-прежнему калите клещи на жаровне!
Ведь я же попросту осел, упрямец!
С ослиным сердцем и криком!
Я никогда не сдамся!
Теплые комнаты и холодные. 1972
Пролог
Рассказчик прощается утром в горах Чисос
Солнце еще не заглядывало в ущелье. Разбудил меня чистый звонкий голосок крапивника. Адский холод. Я вылез из спального мешка, нащупал в потемках башмаки и выпутался из москитной сетки.
Когда я вышел из палатки, самые первые, острые, как шилья, лучи брызнули из-за восточных вершин. Жмурясь, я поднял взгляд вверх, на исполинскую темную громаду Каса-Гранде.
От небывалого света, пробивавшегося из-за гребня, огромный отвесный каменный монолит казался мрачной твердыней, которая намного превышала размерами человеческие постройки, – цитадель ангелов или демонов, давным-давно покинутая всеми защитниками.
Свет поднялся чуть выше и уже мог беспрепятственно играть на противоположной, западной стене ущелья, а одинокие каменные столпы, тут и там вздымавшиеся к небу среди нагромождений песчаника, преобразились в органные трубы, причудливый, барочный механизм светового органа. Все вокруг играло красными оттенками скальной породы.
К звонкой песенке крапивника в зарослях мощных кактусов у скромной конной тропы теперь присоединился целый диковинный птичий хор – голоса горшечников, местных голубей, глумливое карканье здоровенных черных ворон. Но совершенно беззвучно парили над ущельем два огромных грифа-индейки. Совершенно недвижно висели метрах в двухстах над нами в утреннем ветерке.
Джон Вайнсток, профессор кафедры древнеисландского языка в университете Остина и заядлый бегун-марафонец, облаченный в невероятно истрепанные шорты и сетку, уже сидел возле спиртовки.
Он протянул мне жестяную кружку с горьким черным кофе.
Настоящее утро миновало. Еще час-другой, и температура в ущелье поднимется до тридцати, а то и до тридцати пяти градусов. Высокогорная мексиканская равнина мало-помалу выступала из солнечного марева за Окном, единственным проемом в цепи горных хребтов, который позволял нам ее увидеть.
Там внизу, на мексиканской стороне, наверно, уже царил зной. Равнина лежала в нескольких тысячах метров под нами. А было это октябрьским утром 1984 года. Я пил горький горячий кофе. Тонкой ниточкой ослепительно белого серебра сверкала внизу в солнечной дымке Рио-Гранде.
Забавно, думал я. Такое впечатление, что мой духовный мир теперь не очень-то и велик. Полная ясность внутри, и покой, и пустота Есть разве что птичьи голоса, и переливы красного света в трубах каменного органа, и горький вкус крепкого, чистого кофе без сахара. Но ни укоров, ни воспоминаний, ни тревоги. Я как бы подвешен в гироскопе. Пустой, чистый и прозрачный.
Может быть, удача все ж таки в конце концов мне улыбнулась. Может быть, я сумел высказать все без остатка.
– Would you like some more coffee? Хочешь еще кофе?
Теперь все утихло. Буря миновала Ветра нет. Или, может быть, я научился двигаться со скоростью ветра, потому и не замечаю его больше.
Любезные читатели, странные читатели. Мы начнем сначала. Мы не сдадимся. Начнем пятый и последний из пяти рассказов. Как хитрые старые гончие на лосиной охоте в Вестманланде – кстати, сезон лосиной охоты в Вестманланде приходится как раз на октябрь, – возьмем след там, где потеряли его, и непременно настигнем окровавленную добычу.
Начнем сначала. С ранней весны 1975 года. Наша история начинается в разгар оттепели. Место действия – Северный Вестманланд.
Бывший учитель неполной средней школы в Вестер-Воле, по имени Ларе Леннарт Вестúн – правда, чаще его звали Куницей, – был отправлен на пенсию досрочно, когда закрыли школу, местную семилетнюю школу в Эннуре, на северном берегу озера Он кое-как сводит концы с концами, в основном за счет продажи меда с пасеки, которого временами бывало по-настоящему много. После развода с женой он живет в небольшой усадьбе, на Мысу, примерно на уровне поселков Вретбю и Будбю, только, понятно, на восточной стороне озера. У него есть маленький садик, картофельное поле, собака. Иногда заезжает родня. Есть телефон, телевизор и подписка на местную губернскую газету. Достойных упоминания связей с женщинами он после развода не имел.
Куница – человек вовсе не старый. Родился он 17 мая 1936 года. Но выглядит гораздо старше своих сорока лет, изнуренный работой, лысоватый, тощий. Очки в тонкой металлической оправе еще усиливают впечатление худобы. Живет он в крайне непритязательных экономических условиях, но это его не волнует, его проблема в другом.
Ниже помещены оставленные им записи. Оставленные, потому что этой весной, в 1975 году, в разгар оттепели, он узнаёт, что до осени ему не дожить. Он смертельно болен – у него рак селезенки, обнаруженный, увы, с большим опозданием, когда опухоль уже дала метастазы.
Голос, который вы услышите далее, это его голос, а не мой, и засим я с вами прощаюсь.
Перечень источников
1. Желтый блокнот
Найден на полке над мойкой, нелинованный, формат 16 х 16, 80 страниц, из которых полностью исписаны 76. Переплет желтый, с надписью «Шведский национальный союз пчеловодства».
Содержит весьма личные и весьма безличные записи. К числу последних относятся перечни ежемесячных хозяйственных расходов, памятные записи и заметки о разных работах на пасеке. Из них мы, понятно, включили в это издание лишь несколько характерных выборок.
Начат в феврале 1970 года.
2. Голубой блокнот
Найден в книжном шкафу, на самой верхней полке. Формат А4, бумага линованная, крышка голубая, с надпечаткой «Книжный магазин Шёберга, Вестерос». 112 страниц, из которых 97 целиком заполнены с обеих сторон. Содержит вклеенные газетные вырезки, выдержки из прочитанных Вестином книг и собственные его рассказы.
Начат не ранее лета 1964 года.
3. Рваный блокнот
Так называемый телефонный блокнот. Обложка наполовину оторвана. Надпечатка: [КТО ЗВОНИЛ?]. Найден в кухне возле телефона, на столе, прямо против мойки.
Содержит местные телефоны, несколько телефонных номеров других городов и кое-какие заметки о развитии болезни.
Начат не ранее 1970 года.
1
Письмо
…дул ветер, да еще и совсем теплый. Случилось это в прошлом году, в конце августа, собака убежала, именно тогда она стала убегать, и я искал ее, а было уже часов одиннадцать вечера. Небо пряталось в тучах, темень такая, что даже кроны деревьев не различить, слышно только, как в них неустанно шумит ветер. Все тот же ровный, сильный, на удивление теплый ветер. Помнится, мне доводилось переживать нечто подобное, но не помню точно когда.
Шагая по тропинке к Сундбладам – она ведет вдоль берега озера, и я чуял запах воды и слышал плеск волн, но не видел их в потемках, – я вдруг явственно ощутил, что на ботинок мне прыгнул маленький лягушонок.
И тут я сделал то, чего не делал, наверное, с пятидесятых годов. Быстро нагнулся и, сложив руки ковшиком, провел ими сквозь влажную траву чуть дальше того места, где он должен был находиться.
Старый трюк действует безотказно. Лягушонок скакнул прямо в мои ладони, он был до того маленький, что я спокойно мог держать его в одной руке, как в клетке.
На миг он совершенно оцепенел, и я сложил из ладоней клетку побольше.
Вот так я стоял и слушал ветер, держа лягушонка в ладонях, будто в клетке, а ветер, все тот же теплый, упорный ветер, гулял среди деревьев. И воздух кисловато пах муравьями, которых в прибрежном лесу было великое множество. Я отчетливо чувствовал, как лягушонок дрожит у меня в руке.
И вдруг он написал, прямо мне в руки.
По-моему, мало кому привелось испытать такое.
Моча у лягушек холодная как лед. Я так изумился, что разжал руку и выпустил лягушонка. А сам все стоял, совершенно остолбенев, и ветер шумел надо мной в кронах деревьев, а рука замерзла от лягушачьей мочи.
Мы начнем сначала. Мы не сдадимся.
(Желтый блокнот, I:1)
* * *
Собаку я нашел у Сундбладов. Она прибежала к ним сразу после полудня, ее угостили оладьями и дали попить. Вышло до крайности неловко: когда я хотел забрать ее с собой, она воспротивилась. Упиралась всеми четырьмя лапами в кухонный половик и не желала идти.
Очень неловко. Ведь они могли подумать, будто собака боится идти домой, потому что я плохо с нею обращаюсь. А это неправда.
Тут что-то другое, но я никак не пойму, что бы это могло быть. Странное дело, собака словно чем-то испугана, причем уже в третий раз за последние недели. А ведь я обращаюсь с нею точно так же, как обращался все эти одиннадцать лет. Согласен, иногда я, наверно, излишне решителен и резковат, но чтоб пугать – нет, это исключено. Собака знает меня как облупленного, ведь она попала ко мне совсем маленьким щенком.
Есть только одно разумное объяснение: собака уже так стара, что в ее обонятельной памяти происходят какие-то чрезвычайно тонкие изменения. И потому она просто-напросто не узнаёт меня.
С одной стороны, она, по-моему, до невозможности плохо видит, но, с другой стороны, зрение для нее значит не так уж много.
Однажды зимой в начале шестидесятых я катался на лыжах – лыжня шла по холмам к озеру Мэрршён. Тогда я еще учительствовал неподалеку от Эннуры, в старой школе, которую потом перевели в Фагерсту, и покататься на лыжах мне удавалось только по субботам и воскресеньям. Стояло погожее февральское воскресенье, народу на лыжне было довольно много, и, поднявшись на вершину холма, я увидал впереди, метрах в тридцати, мужчину в голубой куртке.
Собака все время немного опережала меня и отлично знала об этом человеке на лыжне, уже давно, на протяжении нескольких километров, он был запечатлен в ее памяти как обонятельный образ, как запах.
И вот, этот мужчина, который был немного старше меня, сходит с лыжни – что-то поправить или пропустить меня, поскольку я едва не наступал ему на пятки.
А собака, черт ее подери, мчится прямиком на него, и он, не удержавшись на ногах, плюхается на лыжню!
Для собаки нет человека в голубой куртке, есть только интересный запах, за которым она следует и который становится все сильнее, она до такой степени полагается на этот запах, что поднимает голову и глядит по сторонам, только когда сшибает с ног его обладателя.
Наверняка у нее что-то с нюхом. И ничего тут не поделаешь. Хорошая была собака. Надеюсь, она еще поживет.
Все-таки я не понимаю, что на нее нашло. Она действительно как бы перестала меня узнавать. Вернее, узнаёт, но лишь с очень близкого расстояния, когда я могу заставить ее видеть меня и слышать, а не просто следовать чутью.
Есть, конечно, и другое объяснение, только оно донельзя нелепое, и поверить в него я не могу.
Я имею в виду, что я сам ни с того ни с сего начал пахнуть по-иному и изменение запаха чертовски тонкое, чует его лишь собака.
(Желтый блокнот, I:2)
* * *
Столько всего нужно было сделать на пасеке минувшей осенью – и деревянную обшивку заменить, и летки кое-где обновить, и рамки отремонтировать, и утеплить, – но необъяснимым образом руки у меня до этого так и не дошли. Сам толком не понимаю, в чем тут дело. По какой-то загадочной причине я был осенью страшно вялым, пассивным. Слава Богу, конец января будет, по всей видимости, рекордно теплым. День за днем идет дождь, и в зимней темноте я против обыкновения залеживаюсь в постели, просто ради удовольствия послушать шум дождя по крыше.
Но вдруг в феврале ударит мороз? Что, черт побери, тогда делать? Древесина ульев насквозь пропиталась водой, толь на крышах во многих местах прохудился. Пчелы попросту замерзнут. В наказание за осеннее безделье останусь без трех-четырех семей.
Для моих финансов это значения не имеет, потому что муниципальные власти наконец-то повысили мне жилищное пособие, но пчелы – живые существа, и их гибель все ж таки причиняет боль.
Забавная штука, недавно я говорил об этом по телефону с Исакссоном из Рамнеса.
Когда гибнет пчелиная семья, такое чувство, будто умерло животное. Тоскуешь по ней, как по индивидуальности, почти как по собаке или хотя бы по кошке.
А вот мертвая пчела не вызывает совершенно никаких эмоций, ее просто выбрасывают.
Удивительно, что пчелы ведут себя точно так же. У животных нечасто встречается столь полное отсутствие интереса к смерти собратьев. Если я, небрежно вставляя рамку, раздавлю нескольких пчел, остальные утаскивают их прочь, будто какие-нибудь сломанные механизмы. Но перво-наперво обязательно проверяют соты, есть там мед или нет.
Только подумать, а вдруг они сами воспринимают все это таким же образом? Что индивидуальность, разум, существует в рое, в семье.
Бывают пчелиные семьи с чрезвычайно ярко выраженной индивидуальностью. Ленивые и прилежные, агрессивные и миролюбивые. Даже легкомысленные и богемные, черт их знает, может, есть и такие, что обладают чувством юмора или, наоборот, совершенно его лишены.
Взять хотя бы горячку роения! Точь-в-точь нервный, капризный, нетерпеливый человек. Скверный любовник – никакой выдержки.
А отдельная пчела безлика, словно гайка или винтик в часовом механизме.
(Желтый блокнот, I:3)
* * *
В августе тут гостили дети, и по их настоянию мы затеяли играть в бадминтон. Мне кажется, они, дети разведенных родителей, хотя бы летом были вполне счастливы. Ведь приезжали сюда несколько лет подряд. В июне и в августе.
Так или иначе, когда мы играли в бадминтон, я испытал в точности такое же ощущение.
Но тогда я ничуть не сомневался, что это прострел, и потому скоро забыл обо всем. Решил, что растянул какую-то спинную мышцу. Игру, понятно, пришлось немедля оставить.
Но бывает ли от прострела такая боль, что во рту чувствуется вкус крови?
(Желтый блокнот, I:4)
* * *
Можно ли сказать, что шведы терпеливее других народов? Я не очень в этом разбираюсь. Путешествиями моя жизнь небогата. Два велопробега по Дании в начале пятидесятых, турнир по настольному теннису в Западной Германии, в Киле, и множество походов в Норвегию маршрутом через Орсу и Идре и дальше, через границу возле озера Фемуннен – все это мало что говорит. Я вообще склонен рассматривать мир за пределами Швеции как нечто литературное, встречающееся в книгах и журналах.
Слишком большие расстояния меня пугают. Париж существует для меня в дневниках братьев Гонкур, самый современный Лондон – в ранних романах Олдоса Хаксли.
Если б я вправду очутился в этих городах, я бы, наверно, заблудился. Счел бы их совершенно чуждыми, посторонними. Вот губернская газета как раз пишет, что в Париже теперь есть небоскребы.
В моей системе время в разных местах течет по-разному. Например, в Париже только-только улеглась цементная пыль Коммуны. А что за время здесь? Здесь – настоящее.
Итак, можно ли сказать, что шведы терпеливее других народов. Позавчерашняя очередь на рентген в Вестеросской региональной больнице. Невыносимый запах шерсти, сырой шерсти. Множество людей кругом – на стульях, на лавках, повсюду. Мальчик с жутким синяком на всю правую половину лица. Накануне вечером он на полной скорости свалился с мопеда и сильно ушибся. Какой-то старикан из Кольбека, приехавший утренним автобусом. Он очень надеялся вернуться домой с последним вечерним рейсом. «Они тут не торопятся». На этой неделе он приехал уже второй раз. У каждого в руках талончик с номером. Загадки очереди – иногда сестра вызывает одновременно двух или трех пациентов, иногда только одного. Иногда движение на целый час полностью замирает. А как все поднимают глаза всякий раз, когда появляется сестра!
Словно механические куранты, где фигуры передвигаются один раз в час, открывается дверь, кто-то выходит, кто-то входит. Двое полицейских приводят вдрызг пьяного типа с пластырями на лбу, под глазами, на подбородке. Его пропускают без очереди.
Из шести-семи десятков людей в коридоре большинство, наверно, испытывает боль, сильную и не очень. У некоторых это заметно по тому, как они сидят, встают и ходят взад-вперед.
Но разговоров об этом почти не слышно, они даже не говорят, что им больно (а это «больно» может означать что угодно – от легкого недомогания до жгучей боли). Вместо этого говорят о скверном автобусном сообщении, об электричках, о хождениях по врачам. Такое впечатление, будто некоторые из них и живут лишь затем, чтобы посещать больницу. Здесь они чувствуют себя вполне вольготно. Болезнь придает им значимости. Я имею в виду кой-кого из самых старых и самых безропотных пациентов.
Их заболевания вызывают интерес, которого, пока они были здоровы, никто и никогда к ним не проявлял.
Что-то в их терпеливости ужасно меня раздражает, делает агрессивным. Нельзя покорно мириться… С чем? С необходимостью сидеть и так долго ждать вызова на рентген, с до странности безличным, почти индустриальным обслуживанием, где никого не волнует, что они спозаранку дожидались автобуса на зимних остановках и целый день сидят у дверей рентгеновского кабинета, не евши, боясь потерять место в очереди?
И тем не менее всегда присутствует некая солидарность товарищей по несчастью, всегда кто-то обещает кликнуть, если сестра вызовет тебя именно в ту минуту, когда ты вышел в туалет покурить. Или, может быть, я имею в виду, что они должны протестовать против самой боли, не позволяя себе с нею примириться? Пролетарии боли, соединяйтесь!
(Желтый блокнот, I:5)
* * *
WAS MICH NICHT UMBRINGT, MACHT MICH STÄRKER. —
ТО, ЧТО НЕ УБИВАЕТ МЕНЯ, ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ.
(Фридрих Ницше, немецкий философ, 1844–1900)
(Желтый блокнот, I:6)
* * *
Февраль 1975 г.
Потребительская лавка – 375,40
Сахар – 42,90
Табак – 32,50
Гвозди и накладки – 16,00
Визит к врачу – 7,00
Нефть и бензин – 75,00
___________
Итого расходов – 548,80
Союз пчеловодства, бонус + 16, —
Потребительская лавка, мед + 255, —
Больничная касса +304, —
Починка насоса для Сундблада + 50, —
___________
Февральские поступления (брутто) + 625, —
Прибыль 76, —
(Желтый блокнот, I:7)
* * *
Когда наконец пришло письмо из Вестеросской региональной больницы, я не стал его вскрывать, а отложил в сторону, просмотрел газеты и журналы, взглянул на счета, сообразил, что денег не хватит и в этом месяце мне их не оплатить, потом кликнул собаку и отправился на воздух – самое время как следует прогуляться.
Был славный серенький февральский день, холодноватый, зато не слишком влажный, и окрестный пейзаж выглядел как карандашный набросок. Не знаю, чем он мне так по душе, ведь природа здесь суровая, скудная, и все же я никогда не устаю бродить по этим местам, где провел немалую часть своей жизни.
Пока был женат, я жил в Трюммельсберге, а по школам ездил на машине, школ я за эти годы сменил несколько. Так как у меня есть не только диплом учителя средней школы, но и диплом преподавателя ручного труда, в последние годы, когда школы без конца объединяли то так, то этак, я имел достаточно свободный выбор. И преподавал почти исключительно ручной труд. Классы, на мой взгляд, стали великоваты, но мне это обеспечивало хорошую нагрузку.
После развода я переехал сюда, забрался, можно сказать, в глубинку и сразу же отказался от учительства. Денег так или иначе не оставалось, все уходило на текущие расходы, и тогда я попросту бросил их зарабатывать и вместо этого завел три десятка пчелиных семей.
К моему удивлению, оказалось, такой образ жизни ничуть не хуже прежнего. Сложности возникают, только когда мне нужно куда-нибудь отлучиться, как вот сейчас, в больницу.
Когда наконец пришло письмо из региональной больницы, я просто отложил его и отправился на прогулку. Я был совершенно спокоен и по пути пристально разглядывал голые деревья. Эти голые ветви на фоне свинцово-серого неба завораживают меня. Словно письмена неведомого языка, которые пытаются что-то сообщить.
По правде сказать, вся округа с запертыми на засовы летними домиками, заснеженными садами и вытащенными на берег лодками выглядит сейчас куда красивее, чем летом. Летом здесь полным-полно людей, со многими я за эти годы успел свести знакомство, иногда меня даже приглашают поиграть в карты, выпить на веранде бокальчик вина – и это очень приятно. Я же вовсе не бирюк какой-нибудь. Но сейчас, сейчас все здесь дышит подлинной жизнью. Плохая ли, хорошая ли, одинокая или благородная – это моя подлинная жизнь. И вот теперь что-то превосходящее силой и меня, и любые суды, и правительства, и власти пытается отнять ее у меня.
Это несправедливо.
Когда я обошел весь мыс и вдобавок спугнул лосиное семейство, которое, принюхиваясь, стояло на лугу прямо за брюслинговским сараем, мысли мои до известной степени оформились.
Либо в письме написано, что ничего опасного нет. Либо же – что у меня рак и я умру. И скорее всего, именно так там и написано.
Самое разумное – вообще не вскрывать его, ведь пока оно не распечатано, остается некоторая надежда.
А надежда даст мне хоть какую-то свободу действий. Небольшую, конечно, потому что болеть от этого не перестанет, но боль будет в высшей степени собирательная, не напоминающая о чем-то конкретном, я включу ее в свою жизнь – почему бы и нет? Ведь с множеством разных других вещей мне удалось справиться.
Когда наконец пришло письмо, я отправился на прогулку и обошел с собакой весь мыс, а вернувшись, решил ни в коем случае не вскрывать это письмо.
Оно лежало в кухне, на цветастой скатерти возле тарелок с ленчем, а за окном между тем, как всегда, суетились в кормушке птицы и еще потеплело, даже с крыши капало.
Коричневый конверт с окошком, в верхнем левом углу штамп: Вестеросская региональная больница, центральная лаборатория. Я пощупал письмо. Внутри был один-единственный листок, маленький, сложенный пополам. Поднес конверт к окну – на просвет ничего не видно.
Если распечатать, думал я, каким образом оно изменит меня? Если там написано, что мне осталось жить считанные месяцы, – я что же, потеряю всякую способность действовать? Впаду в паралич? Буду вынужден лечь в больницу? Наверное. И проведу последние месяцы на койке, испытывая все более сильные боли, худея, слабея, не имея возможности быть хозяином собственного положения.
Ну а если я распечатаю его и прочту, что лабораторное исследование тканевых проб выявило наличие доброкачественной опухоли? Что у меня язва желудка или камни в желчном пузыре и необходимо оперативное вмешательство и соответствующая диета и что весьма опасно для жизни ходить с камнями в желчном пузыре и не лечиться?
Вдруг мне, наоборот, станет только хуже, если я не распечатаю это письмо? Городского телефона у меня нет, они не сумеют со мной связаться, если я никак не откликнусь, – ну, может, через некоторое время пришлют еще одно письмо, хотя тогда наверняка будет уже слишком поздно.
Когда пришло это письмо, я не стал его вскрывать – сначала долго-долго гулял с собакой.
Вернувшись домой, я принялся играть мыслью, что вскрывать его вообще незачем.
Пожалуй, я чуточку затянул эту игру, всего на миг, всего на малую долю секунды, но затянул.
Если в письме мой смертный приговор, то я его отвергаю.
Со смертью связываться нельзя. По счастью, эту премудрость я усвоил давным-давно, и она очень пригодилась мне в жизни.
Согласно Вильгельму Вундту[1], который, если верить «Скандинавскому биографическому справочнику», был в свое время очень известным психологом, существуют три типа болевых ощущений – тупые, колющие и жгучие.
Если для цветовых ощущений в языке есть целая гамма слов, то здесь для различения нюансов никаких особенных слов нет. Болевые ощущения лишены собственных названий.
Быть может, оттого, что два разных человека способны видеть один и тот же цвет, но не могут испытывать одну и ту же боль?
Моя боль тупая. И не только тупая. В иные дни бывает и жгучая, но в основном тупая.
Думаю, она действительно началась в ту самую ночь, когда сбежала собака, потому что глубоко во сне я впервые почувствовал этот странный тупой нажим в пояснице, в области почек, словно туда украдкой засунули футбольный мяч и накачивали его, медленно, толчками, совершенно не обращая внимания, шевелюсь я или нет.
Как бы там ни было, впервые я это заметил в ту ночь, когда убежала собака.
Боль начинается обыкновенно среди ночи, сперва она долго снится мне и лишь потом будит, она присутствует во сне как угроза, и я все время стараюсь от нее отвернуться, стараюсь не видеть ее, во сне я в самом прямом смысле отворачиваю от нее лицо, а она все равно приближается, заставляет меня увидеть ее и будит.
До самого Рождества таблетки помогали хорошо – я получил их в Фагерсте, еще когда они думали, что у меня камни в почках. (В самом-то начале я думал, что это прострел, потом стал грешить на простату, но, как оказалось, даже понятия не имел, в каком месте болит при воспалении простаты.)
И вот после Рождества выясняется, что таблетки от почечных камней, весьма сильное средство – слава Богу, рецепты мне постоянно возобновляют, – уже не могут подавить эту боль. И дело не в том, что она усилилась, просто таблетки, а значит, и моя нервная система почему-то с нею не справляются.
От этого я вновь стал чувствовать свое тело; с такой отчетливостью я ощущал, что у меня есть тело, только когда был мальчишкой-подростком, – оно непрерывно и упорно заявляет о себе.
Но вот ведь какая штука: тело это не в порядке. В нем все время что-то жжет.
И еще, конечно, надежда. На прошлой неделе я этак дня три был совершенно уверен, что боль потихоньку исчезает, все опять стало вполне обыкновенным, а ведь я почти успел забыть, до чего обыкновенным было мое тело, прежде чем всерьез начались эти боли в пояснице. Конечно, надеяться по-настоящему я не смел, но все-таки надеялся.
Совершая свои короткие прогулки, я заметил, что за последние месяцы боль придала окрестностям какую-то странную окраску. Тут и там деревья, возле которых боль донимала меня особенно сильно, тут и там ограда, по планкам которой я на ходу ударял рукой. А когда я возвращался домой эти три безмятежных дня, боль как бы пряталась в ограде.
Боль – это ландшафт.
Потом она, конечно же, вернулась, воскресным вечером, не сразу, медленно, мелкими рывками, как собака, вынюхивающая след.
Мне пришлось не раз побывать у врачей, прежде чем они задались вопросом, уж не рак ли это. И опять бесконечные визиты к врачам и бесконечное ожидание в приемных, в компании пролетариев от боли, прежде чем они решили, что нужно взять все возможные анализы тканей и крови и провести контрастные рентгеновские исследования. И потребовалось еще довольно много времени, чтобы все это проделать. Успел наступить ноябрь, а там и декабрь.
Потом от них долго не было ни слуху ни духу, до вчерашнего дня, то есть до последнего дня февраля.
Когда наконец пришло письмо, я не стал его сразу вскрывать. Вместо этого отправился с собакой на долгую прогулку и по дороге обдумывал ситуацию. Все вокруг выглядело как всегда – серый пейзаж, голые деревья с драматически простертыми ветвями, как бы нарисованными карандашом. Толстый, покрытый мокрым снегом лед на озере, наконец-то, в феврале.
Я долго сидел и смотрел на письмо, пощупал его, прикинул толщину и тяжесть, в конце концов на кухне стало совсем холодно, потому что камин погас, дрова прогорели. Когда я поднял взгляд, уже смеркалось. День клонился к вечеру, обыкновенный февральский день, когда к четырем уже начинает темнеть.
Я встал, не спеша вышел во двор, принес дров и опять разжег камин.
Письмо я использовал для растопки.
(Желтый блокнот, I:8)
2
Супружество
…на эту тему я еще могу рассказать весьма любопытную историю одной встречи. Есть в нашей округе некая довольно молодая дама или барышня, миловидная, с изящной фигурой. Вблизи я ее никогда не видел, как правило, нас разделяло метров пятьдесят, и она всегда казалась мне красивой. На удивление свежий цвет лица, большие темные, прямо-таки черные глаза, стройная белая шея.
И во мне, как всегда, ожила нежная, очень приятная мысль: не влюбиться ли? Однако видел я ее только на органных концертах в вестер-волской церкви, и больше нигде, после развода я вообще видел не очень-то много людей, разве что на работе.
В конце концов мне все-таки захотелось выяснить, справедливо ли то представление, какое я о ней составил, и для этого подвернулся очень удобный случай. В перерыве концерта Чёпингского квартета я подошел к ней в церковном притворе и поздоровался.
Ни плана, ни особенного замысла у меня не было, я просто хотел услышать, что она скажет. Стало быть, мы обменялись несколькими совершенно нейтральными, вежливыми фразами, я уже собрался назвать себя, но посмотрел на нее по-настоящему – и предпочел промолчать.