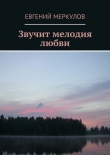Текст книги "Мелодия встреч и разлук"
Автор книги: Лариса Райт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
15
Cлавочка, милая, здравствуй!
Вот опять к нам вернулась осень. Тебе грустно? А, по-моему, чудная пора. Волшебное кружение листьев. Мне кажется, пока не наступили настоящие холода, не подули промозглые ветры, природа покачивается в каком-то безмятежном, спокойном танце. И непременно в вальсе, даже в вальсе-бостоне. Было бы чудесно, если бы когда-нибудь у кого-то родилась мелодия, и обязательно со стихами. Может, подбросить идею Высоцкому? Хотя не представляю его поющим вальс. Романсы – да, сколько угодно, но для мелодичного танца у него слишком обнажены нервы. К чему это я? Ты удивишься: всего лишь к тому, что лето закончилось. Ушло безвозвратно? Нет! Оставило прекрасные воспоминания. Не проходит и дня, чтобы я не представила себя снова в твоем гостеприимном доме. Каждый раз, приезжая к тебе, я вновь и вновь ловлю себя на мысли, что наконец-то понимаю причину твоего поступка (не одобряю и не собираюсь уподобляться), но понимаю и принимаю. Город не дает тебе вздохнуть, а мне вот не дышится без бешеного ритма, хотя, конечно, соглашусь с тобой: в отдельном доме существовать гораздо комфортнее, чем в окружении многочисленных соседей. Но я не случайно говорю «существовать», жизни для меня в деревне все равно что нет. Так что не настаивай, – следующий визит за вами. Приезжайте! Пишу это, и самой смешно. Куда вы приедете? На мои девять метров? В общем, о том, чтобы принять вас у себя, остается только мечтать. Посему следующим летом, видно, снова мой черед паковать чемоданы. А пока до него еще далеко, будем вспоминать прекрасные мгновения минувшего августа.
Как же поразил меня твой мальчишка. Удивляет он меня каждый раз, но в этом году особенно. Необычайно серьезен и рассудителен для своих лет. Совсем не похож на деревенского сорванца. Вероятно, тебе следует задуматься об издании педагогического пособия для матерей-одиночек. Извини. Я знаю, ты не любишь, когда я напоминаю о твоей незавидной участи, но, подумай, скольким женщинам ты могла бы помочь. Я не верю, что дети такими рождаются, они такими становятся, и руководство по воспитанию как нельзя лучше поспособствует подобному становлению. Подумай об этом! Потому что племянник мой – явление незаурядное и талантливое. Если кто и заслуживает такой награды, так это ты, дорогая. Мальчишка твой – настоящий клад, людей читает, как открытые книги. И за примерами далеко ходить не надо.
Искала я у него как-то в шкафу рубашку белую (ту, что еще год назад привозила), нет нигде. Я и спросила, куда задевал? А сынок твой отвечает, что подарил, мол, Михе Савельеву. Я спрашиваю: «Как подарил? Она же ношеная. Мать мне карточки присылала новогодние, ты на них в этой рубашке». А он уперся: «Подарил, и все тут». Ну, ты меня знаешь, я тоже из упрямых, прижала его, признался: рубашечку эту Миха утащил без спроса, а попросту говоря, украл из школьной раздевалки. «Откуда, – спрашиваю, – знаешь, что это он?» «Видел», – отвечает. «А раз видел, что же не остановил, в милицию не сообщил?» – «Ох, тетя, я-то у вас с матерью один-одинешенек, а Миха – он у родителей седьмой. У него новенькой рубашки сроду не было и не будет еще очень долго. Он только донашивает все и донашивает, а так, наверное, обновки хочется». – «Что же теперь всем малоимущим воровать разрешить?» – «Да он больше не будет». – «Откуда же ты знаешь?» – «А я с ним поговорил. Ему стыдно. Он и рубашку хотел вернуть. Но я не взял. Подарил. Говорил же вам, а вы не верили».
А вот еще случай. Шли мы с ним к магазину пролеском. Перед нами девушка лет пятнадцати (не помню, как ее зовут: симпатичная такая, через три дома от вас живет). Вдруг на нее из кустов ватага ребятишек налетела и давай обзывать по-всякому. Не люблю я брани, поэтому слов и не запоминала, знаю лишь, что в глупости ее обвиняли. Так наш малец, даром что на несколько лет ее младше, на защиту бросился: глаза засверкали, слюна забрызгала. «Вы, – говорит, – лодыри. Только и знаете, что по кустам сидеть, языками трепать да хорошего человека обижать. Вам бы отца запойного, мать парализованную, огород да полный хлев скотины, а я и посмотрю, как вы таблицу умножения выучите». Хулиганы-то вмиг присмирели, а девушка лишь глазами сверкнула и дальше пошла, даже спасибо не сказала. Я и спросила, не обидно ли без благодарности остаться. «Хочешь, – отвечает, – чтобы человек тебя возненавидел, сделай ему доброе дело. Так что благодарности за хороший, да еще и непрошеный поступок ждать не следует». Это ты его научила? Конечно, ты. Кто же еще?
Были и еще моменты интересные, но, на мой взгляд, и этих двух с лихвой должно хватить, чтобы признать твоего ребенка гением. Гениальности, конечно, должно быть вольготно в деревне: простор для размышлений, только вот университетов в Тульской области маловато. И об этом ты тоже подумай.
Что-то я сегодня необычайно многословна. Наверное, это от того, что предпочитаю разговаривать с тобой, а не со своими учебниками. К ним не знаю, с какой стороны подступиться, о чем читать, как раскрывать тему. Сложно писать о пороках без наглядного материала. Кругом одни положительные личности. Кстати, их в нашей квартире прибавилось. Обязательно напишу тебе об этом человеке в следующий раз. Персона действительно неординарная. Почти такая же, как мой племянник. Здесь я улыбаюсь и подмигиваю тебе.
Ну, вот и все.
Целую вас крепко. Я.
16
Первый и последний обморок в жизни Зинаиды длился всего несколько секунд, но еще целые минуты, казавшиеся вечностью, она не шевелилась, не открывала глаз, боялась, что дрогнут ресницы, собьется дыхание и ее притворство будет разгадано. Но вечная игра невозможна, развязка неминуема, результат непредсказуем. Неизвестность подступила к Зине вплотную, подхватила на руки, коротко спросила: «Куда?» и, сопровождаемая причитаниями Фроси, перенесла в комнату, бережно опустив на матрас. «Сцена из „Спящей красавицы“, – мелькает мысль в голове у девушки, – только в роли героини актриса второго состава».
– Позаботьтесь о ней! Пригласите врача! – Голос густой, властный, голос, который она никогда не слышала, но представляла миллион раз, голос чужой, самый лучший голос на свете. – Где комната Кравцовой?
– Я… Ой… Так ведь… – дворничиха растеряна. Никогда еще ей не приходилось подбирать слова. Если бы Фрося владела литературной речью, она назвала бы свое положение щекотливым. – Понимаете, – начинает она, тут же запинается и замолкает снова.
Зина и с закрытыми глазами видит ее опущенную седую голову, вздувшиеся вены на руках, нервно теребящих край замызганного фартука, бегающие глаза.
– Что такое? – ирония и недовольство, беспокойство отсутствует. – Она вышла? Улетела в отпуск? Переехала?
– Она… э… – Зине кажется, что Фрося сейчас упадет на матрас рядом с ней. Девушка резко садится:
– Она умерла.
– С ума сошла! – ахает дворничиха. – Разве ж так можно с человеком?
– Я… Я не понимаю… – Фельдман разом потерял уверенность и властность, взгляд перестал быть надменным, плечи ссутулились. – Как? Когда? – хрипло спрашивает он, и Зинке кажется, что вместе с вопросами из него выливаются последние капли дыхания.
– Год назад. А до этого несколько лет пролежала парализованной – несчастный случай, – девушка говорит механически, бесчувственно.
– Не понимаю… – повторяет мужчина.
– Что же тут непонятного? – вырывается у Зинаиды. Ей так хочется, чтобы он догадался. Он же умен, опытен, он же – «Белинский». Она забывает о том, что он прежде всего человек – человек, получивший еще один неожиданный, сокрушительный удар судьбы. Девушка спохватывается, но слишком поздно. Он исчезает, больше ничего не спросив.
Следующие несколько недель стерлись из Зининой памяти, хотя должны были бы запомниться: она перепутала очередность артистов, составляя программу для конферансье, и умудрилась переврать фамилию дирижера, она в первый раз накричала на Маню и совершенно не спорила с матерью, она передвигалась в пространстве как сомнамбула и провалила экзамен в институте, потому что вместо «Театрального романа» бесконечно перечитывала свой любовный роман. Зина не замечала улыбок ребенка и озабоченного лица Галины, не видела странно сдерживаемого любопытства Фроси. Она не поздравила соседку-врача с выходом книги, не запомнила искусственных слез соседей на похоронах спившегося вконец Кольки и их же искренней радости от того, что образцовой рабочей семье штукатуров предоставили наконец ордер.
– Глядишь, Зиночка, и мы так когда-нибудь разъедемся, – Фрося улыбается почему-то грустно. Она привыкла к обществу, ей заранее тоскливо.
А Зине тоскливо и вчера, и сегодня, и завтра. Ей наплевать на общество, ей нет дела до социума.
– Я всегда подозревала, что ты – индивидуалистка, – скорбно поджимает губы Галина.
– Конечно, – Зинка соглашается горячо, с энтузиазмом. А как же еще, если ей необходим только один индивид?
Зина прохандрила апрель и так же вяло вплыла в май семьдесят пятого, уныло прошагав по Красной площади в колонне демонстрантов. «Утро красило нежным светом» все вокруг, и лишь душа девушки, плетущейся под плакатом «Мир. Труд. Май», по-прежнему серела в безысходности.
От Васильевского спуска до дома рукой подать. Зинка идет по Москворецкому мосту, не глядя по сторонам. Не радуют ее ни громогласные крики «Ура!», ни белоснежные ракеты, стремительно проносящиеся по реке от Пролетарки вдаль к Лужникам, ни лопнувшие почки на редких в центре деревьях и кустах сирени во дворе. Зина будто заледенела и не оттаивает ни под теплыми лучами весеннего солнца, ни от ласковых прикосновений свежего ветра. Никто не знает, как вывести ее из оцепенения. Разве что человек благородной внешности в потертой одежде и поношенных ботинках. Он сидит на лавочке у подъезда, погруженный в свои мысли. Рядом с ним на скамейке чем-то плотно набитый пакет. Зина в нерешительности останавливается, не доходя до парадной, медлит, прислонившись к дереву, не замечая капель смолы, тут же испачкавшей новую светлую юбку. «Я выгляжу нелепо», – думает она, пытаясь понять, как избавиться от праздничного плаката, что все еще держит в руке. Деревянный остов картонной картины стучит по стволу, мужчина замечает ее, смотрит неотрывно, не делая никаких знаков, не пытаясь заговорить или приблизиться. Как обычно, в решающие минуты Зине в голову лезут нелепые мысли. Вот и сейчас она почему-то предается не размышлениям о том, как себя вести и что говорить, а воспоминаниям о немом кино, представляет себя Вирджинией Черилл, которая сейчас подойдет к пристально разглядывающему ее мужчине, коснется его руки и спросит чуть удивленно:
– Вы? – Дотронуться до него Зина не решается, да и интонации героини «Огней большого города» ей не слишком удаются. Но это не имеет значения. Перед ней вовсе не Чарли Чаплин, не актер и не влюбленный бродяга – на лавочке сидит лишь потерянный, обманутый человек, и если кто и должен чувствовать себя прозревшей цветочницей, так это он.
– Это вы… – зачарованно повторяет девушка.
– А это? – Мужчина кивает на пакет. Зина вытягивает шею, заглядывает внутрь: мешок доверху набит знакомыми конвертами. – Это вы?
– Я, – соглашается, не отводя взгляда.
– Зачем? – Простой вопрос, требующий такого же простого ответа, который Зинка до сих пор не нашла.
– Я… Я не знаю… Просто…
– Совсем не просто!
– Да, верно. Я лишь хотела, чтобы…
– Чтобы что? – Он вскакивает, наступает на Зину. Глаза сужены, рот перекошен в какой-то горькой, ядовитой злобе.
– Чтобы вам было легче, чтобы вы захотели вернуться! – Девушка кричит и чувствует, как вместе с голосом надрывается сердце.
– Я вернулся. – Глаза словно гаснут, злобу сменяет грустная усмешка. – И что?
Зинка порывисто обнимает его, утыкается в шею, шепчет куда-то в пахнущую «Беломором» ключицу:
– С возвращением!
На втором этаже распахивается окно. Маша с любопытством наблюдает, как Зина прижимается к незнакомому дяде. Девочка хихикает, зовет весело:
– Мама!
– Машка, слезь сейчас же! Слезь, кому говорю?!
Смеющееся личико с белокурыми локонами исчезает, скорчив недовольную рожицу.
– Ваша дочка? – Фельдман равнодушно кивает на окно, отстраняясь от Зинки.
Девушка молча смотрит на него несколько секунд, на мгновение прикрывает глаза, потом, будто отбросив сомнения, широко распахивает их и выпаливает, как стреляет:
– Ваша!
И в ту же секунду мужчина, чуть не сбив ее с ног, забыв и о письмах, и о вранье, и о самой Зинаиде, вбегает в подъезд, едва не сорвав дверь с петель, и, мгновенно взлетев по пролетам, стучит в квартиру руками и ногами, звонит во все звонки, словно боится опоздать, упустить, не успеть. Зина спешит за ним. Он стоит на коленях посреди коридора, прижимая к себе белокурую головку, покрывая лихорадочными поцелуями испуганное детское личико и беспрерывно повторяет:
– Тамара! Тамара!
Рядом с ним склонилась Галина. Она безуспешно пытается оторвать от мужчины ребенка, возмущенно тормошит Фельдмана за плечи, говорит, словно внушает:
– Она – Маша, Маша.
И только сама Маша не делает и не говорит ничего: не старается ни вырваться, ни уклониться от объятий и поцелуев. Она даже головой не вертит и лишь, поймав обеспокоенный взгляд застывшей в дверях Зинаиды, слегка приподнимает брови и косит глазами на странного дядю, молчаливо спрашивая: «Кто это?»
17
– Папа! – Алина вскидывает руку, стараясь унять охватившее ее чувство жалости. Отец заметно постарел за те несколько лет, что они не встречались. Девушка стояла у табло и ждала, что в двери войдет высокий, уверенный в себе моложавый мужчина благородной наружности, но вместо него к ней через зал вылета «Шереметьево-2», медленно передвигая ноги, катит чемодан пожилой, уставший человек. – Папа… – повторяет Алина с несвойственной ей проникновенностью.
– Значит, летим? – бросает он вместо приветствия, и девушка тут же берет себя в руки, прогоняя так некстати нахлынувшие эмоции.
– Летим, – соглашается она и, взяв его чемодан (протестов, конечно же, не последовало), направляется к стойке регистрации.
Везти, хромая, багаж в двух руках тяжело и неудобно, но ей всегда предписывалось справляться самой с постигающими ее неприятностями. Если, конечно, хромоту можно отнести к таковым. Как бы там ни было, Алина справляется. Справлялась всегда, справляется и сейчас и с то и дело переворачивающимися с колес баулами, и с вопросами пограничников, и с невыносимым брюзжанием отца, проклинающим Duty Free, икру, Chanel и Америку.
– Тебе ли не любить свободу и демократию? – только и спрашивает она, реагируя на очередную гневную тираду.
– Я люблю и то и другое, но гораздо меньше, чем нашу невесту. Она и так последнее время не балует нас посещениями, а теперь и вовсе приезжать перестанет.
– Не перестанет. Во всяком случае, гастроли и контракты никто не отменял. Даже если бы она и осталась жить в Москве, все равно проводила бы здесь от силы месяц в году. Так что не переживай. Ничего не изменится.
– Изменится, – как обычно, упрям и непреклонен.
– Послушай, папа, почему бы тебе не остаться там, если без нее так плохо? Она ведь хотела забрать тебя еще в прошлом году.
– У меня работа, ты ведь знаешь!
– Думаешь, читатели не смогут обойтись без твоих разгромных статей в адрес очередного гения, потрясшего страну литературным шедевром?
– О чем ты? Читателям нет никакого дела до моего мнения. Они без него проживут.
– И?..
– Не выживу я.
– …
– Ты же помнишь, я писал всегда.
– Помню.
– Никогда не переставал.
Отчего же? Переставал. Для того, чтобы послушать музыку. Для того, чтобы восхититься игрой, талантом, внешностью. О, ты был и остаешься прирожденным критиком, критиковал и критикуешь всех и вся, только не свою обожаемую скрипачку.
Алина не отвечает. Больше они не разговаривают. Когда самолет отрывается от земли, девушка закрывает глаза, прячась во сне от тягостных воспоминаний.
18
Воспоминания не отпускали Михаила Абрамовича Фельдмана ни на секунду. Так же, как в годы ссылки, они приходили к нему по ночам в образе здоровой, живой, манящей за собой Тамары, а по утрам снова накрывали его, едва пробудившегося, взволнованного. Окатывали теплой волной детского смеха, прикосновением мягких пушистых кудрей к наждачным щекам, мелким бисером счастливой болтовни и сахарной пудрой наивных вопросов, которые начинались с неизменного, такого сладкого, все еще непривычного и желанного: «Папочка, а скажи…»
Теперь никто не стал бы укорять Зинаиду за время, потраченное на переписку с практически незнакомым человеком. Машин отец с первой встречи запоминался людям смелостью речей, неординарностью суждений и необычайной эрудицией. Даже Фрося, не признающая излишней обходительности и витиеватости в обращении, Фрося, считающая всех, прочитавших с десяток книг, «заумными и странноватыми», была покорена живым взглядом, быстротой реакции и тонкой, не всегда понятной ей иронией. Михаил Абрамович Фельдман, признанный властью диссидентом и сомнительной личностью, не достойной высокого звания советского человека, был безоговорочно принят всеми оставшимися в квартире жителями. Фрося не смела сказать плохого слова, потому как этот обиженный жизнью человек мало ел и плохо спал, а промаявшись бессонницей до пяти утра, снимал с крючка в коридоре ключи от дворницкой и шел убирать улицу.
– Мне все равно не уснуть было, а у вас давление. Так что давайте-ка, голубушка, вместо ЖЭКа в поликлинику отправляйтесь.
И Фрося возразить не решалась. Расшаркивалась, чуть не в реверансе приседала, бормотала нечто, ей вовсе не свойственное, сродни:
– Да что вы! Право не стоило беспокоиться. Большое спасибо.
Вышедшая на пенсию почтальон Валентина оценила Фельдмана как большого знатока редких марок. Ее коллекция, собранная за годы работы, была не слишком большой, но не лишенной изюминки в виде нескольких действительно редких экземпляров. На отдельных страницах кляссера среди множества беспорядочных серий флоры и фауны, которые можно было приобрести в каждом киоске «Союзпечать», бережно хранились: почтовая марка РСФСР 1923 года из серии «Филателия – трудящимся»; почтовая марка СССР 1924 года из серии «Помощь пострадавшему от наводнения Ленинграду» номиналом четырнадцать плюс тридцать копеек, сделанная из тонкой (папиросной) бумаги; пробная почтовая марка СССР 1934 года из серии «Памяти погибших стратонавтов» Васенко А.Б. стоимостью десять копеек, выполненная без перфорации, в измененном цвете, и почтовые марки РСФСР 1922 года «Юго-Восток – голодающим», выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону) – пробные марки, отпечатанные на этикетках от папирос «Сенаторские». Михаил Абрамович утверждал, что когда-то «крепко дружил с известным филателистом», а посему брал на себя не только смелость угадать реальную стоимость коллекции, но и предрекал последующий рост цены, называл Валентину «богатеньким Буратино» и в шутку просил упомянуть его в завещании. Валя смеялась, отмахивалась, но была польщена: кому-то было понятно ее увлечение, кто-то в нем разбирался. Конечно, разговоры о грядущем богатстве были пустыми, но приятными. Валентина бы удивилась, если бы узнала, что через тридцать лет ее внучатая племянница выручит за коллекцию три тысячи долларов, купит на эти деньги один рыжий полушубок из стриженой норки с собольим капюшоном и одну тонкую грязно-желтую свечу, чтобы поставить ее в ближайшей церкви за упокой своей щедрой родственницы, скончавшейся лет за двадцать до этого прекрасного дня.
Знал толк вернувшийся из ссылки литературный критик не только в повестях и рассказах, но и в музыкальных произведениях. Он помнил подробности биографии Баха и Моцарта, не путал Шуберта с шубами, слушал симфонии Шостаковича и играл на фортепьяно «Времена года», развлекая мам и бабушек, ожидающих детишек в вестибюле музыкальной школы. Такие способности не могли не растопить сердце суровой Галины, которую поначалу явление Фельдмана совсем не обрадовало, а скорее насторожило.
– Подаст в суд на отмену твоего опекунства.
– Сменит ребенку фамилию.
– Увезет девочку на другой конец города, а то и света.
Однако не случилось ни первого, ни второго, ни третьего. Опасения не подтвердились, неприязнь сменилась приветливостью. Появились слухи о возможной реабилитации диссидентов, культивировался лозунг «Сын за отца не отвечает», и Галина, не таясь, откровенничала с соседками о том, что не возражала бы против официального появления такого зятя. Фрося прижимала руки к груди, расцветала, обещала помочь со свадебными хлопотами. Радостно кивала, соглашаясь со всем, и почтальон Валентина. Только врач Антонина хмурилась, качала головой, будто хотела сказать: «Не знаю, не знаю», но не говорила, не считала возможным влезать в чужую жизнь. Зина вот влезла, а что хорошего? Самого Михаила Абрамовича Антонина Степановна уважала, как привыкла уважать любого образованного, неглупого и порядочного человека, ценила его знания, пользовалась советами и с удовольствием беседовала о прочитанных книгах, не страшась обсуждать с ним Пастернака, Бродского и Солженицына. Был он, по ее мнению, человеком глубочайшего ума, человеком воспитанным и не озлобленным ни жизнью, ни системой, человеком, обладающим огромным количеством неоспоримых достоинств и одним-единственным недостатком, который никоим образом не мог позволить Галине мечтать о свадьбе с ним своей дочери. Михаил Абрамович Фельдман оказался абсолютным, законченным однолюбом. И свою трагическую, нереализованную любовь к Тамаре он сумел преобразовать в безудержное, всепоглощающее, слепое чувство к маленькой Маше. Он жил ею, дышал ею, заботился о ней, и не было в его жизни места больше ни для кого и ни для чего, кроме литературных эссе, которые заняли прочные позиции в его душе задолго до появления в ней женщины и ребенка. Он любил свою дочь и не стал лишать ее людей, которыми она дорожила. Он любил свою дочь и остался жить там, где жила она. Он любил свою дочь и спал с женщиной, которую она называла матерью. Спал редко, подгоняемый обычным зовом плоти и лежащим рядом молодым телом. Спал, каждый раз ругая себя за несдержанность, мучаясь от вида робкой надежды, вспыхивающей в глазах Зинаиды во время близости и тут же гаснущей, когда он слезал с нее и, ни слова не говоря, будто единственное, что он мог произнести в этот момент, были путаные извинения, уходил из комнаты в кухню курить, плакать и высматривать на небе звезду по имени Тамара.
Со стороны выглядели они вполне счастливой семьей: талантливый ребенок, помешанная на этом ребенке бабушка, интеллигентные родители. Он, благодаря старым связям и преданным друзьям, нашедший сдельную работу сразу в нескольких изданиях, по-прежнему пишущий разгромные критические статьи в адрес современных авторов, принимаемый с восторгом читающей публикой. Она, распрямившаяся и похорошевшая, получившая высшее образование, место концертмейстера и уважение коллектива, принимающая радушно его многочисленных приятелей, слушающая с ними «голос Америки» и первые записи питерского рок-подполья. Каждый ощущал себя состоявшейся личностью. Он обрел свободу и вместо жалости тайную и открытую зависть друзей: молодая жена, мировая теща, практически гениальная дочь. Она получила осязаемое воплощение своей любви. Оба они теперь имели то, о чем не смели и мечтать, и оба были мучительно, непоправимо, бесповоротно несчастливы. Он чувствовал себя палачом, то смягчающим наказание, то вновь его назначающим. Она – голодной собакой, у которой постоянно отбирают только что брошенную кость. Они оба отчаянно, безрезультатно старались: он – полюбить ее, она – разлюбить его. Каждый ощущал себя одинокой планетой, потерянной во вселенной, каждый существовал в своем мире: он, балагуря и шутя, приобнимая ее за плечи, рассказывая в этот момент друзьям свежий анекдот или обсуждая новую острую карикатуру Ефимова, и она, склоняя голову ему на плечо и подпевая молодым музыкантам из пока мало кому известной группы «Машина времени». В действительности же единым целым ощущали они себя только тогда, когда превращались в родителей. Здесь один разделял чувства другого, обретал понимание, находил безоговорочную поддержку своим мыслям.
– Какая посадка головы! Ты посмотри, как грациозно она прижимает скрипку к плечу! – захлебывался от восторга Фельдман, глядя на дочь.
– Ты еще не то скажешь, Миша, когда она взмахнет смычком, – вторила Зина.
– Жду – не дождусь, когда ей позволят перейти от гамм к настоящим произведениям. Представляешь, как она будет играть Чайковского!
– Да. Или вальсы Штрауса. Она сможет выразить их так, что серьезные слушатели, которые ходят в консерваторию, не смогут усидеть на месте.
– Да.
– Да.
И они улыбались друг другу так трогательно и нежно, будто и не было в их отношениях ничего мрачного.
Но такие дни неизбежно заканчивались: расходились друзья, Маша убирала скрипку в футляр, уходила спать в комнату с бабушкой. Зина лежала на своей половине матраса, боясь пошевелиться, не решаясь дотронуться до дышащего рядом человека. Она всей кожей ощущала границу, невидимую черту, натянутую на простыне ровной линией, зайдя за которую она снова будет прятать голову под подушку, чтобы не слышать доносящихся из кухни звуков, чтобы не стараться убедить себя в том, что льющаяся из крана вода – это всего лишь средство утолить жажду, а не способ скрыть красноту заплаканных глаз.
В такие моменты Зина всегда пытается уснуть, но ничего не получается. Она чувствует себя отвратительно: забрала чужое счастье, а своего не нашла. Обычно она мучается несколько часов и забывается лишь под утро некрепким, беспокойным сном, чтобы встать с отекшими пальцами, мешками под глазами и кривой, неестественной улыбкой, призванной убедить окружающих в абсолютном счастье ее обладательницы. Но последний месяц Зина не спит до рассвета: вертится с боку на бок, вздыхает, постанывает, чтобы с первыми лучами солнца резко вскочить и пробежать по коридору до туалета, где ее будут выворачивать приступами безудержной рвоты последствия иногда нарушаемой границы на общем матрасе.