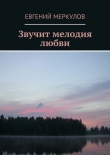Текст книги "Мелодия встреч и разлук"
Автор книги: Лариса Райт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
11
Славочка!
Много воды утекло с моего последнего письма. На работе загрузили практикой, так что снова пропадаю там с утра до вечера. Что касается моих научных изысканий, то дело потихоньку движется, хотя в настоящее время все еще ограничивается исключительно теоретическими исследованиями. Чрезвычайно сложно найти материал для подробного исследования. Нередко людей бывает проще убедить принять участие в каком-то эксперименте физического характера, связанного с испытанием медицинских препаратов или новых методов лечения, чем уверить в необходимости раскрыть свою душу для полного выздоровления. Еще сложнее найти того, кто сам способен признаться в том, что он – раб, заложник одной всепоглощающей страсти, что руководит им, как путеводная звезда. Хотя, признаюсь тебе честно, поисками такими я не занимаюсь. Можешь обвинить меня в бездействии и напрасном ожидании у моря погоды, но будешь права лишь в одном: я действительно жду. Жду, что и на моей улице случится праздник и нечто свыше пошлет мне встречу с героем или героиней, которая позволит мне наконец собрать материал для практической части диссертации.
Не могу описать тебе, милая, как несказанно расстраивает меня тот факт, что тема моя заявлена и сменить ее не представляется возможным. Если бы я могла это сделать, то, скорее всего, воспользовалась бы ситуацией и обратила свое внимание на исследование человеческой добродетели: где она зарождается и насколько далеко простираются ее границы. Ты, конечно, скажешь, что нет предела широким качествам души. Я могла бы с тобой согласиться. Благо пример этому рядом (я опять говорю о Зине). Но все же я склонна думать, что все мы подвержены внешним обстоятельствам и нельзя делать выводы о безграничности доброты, когда носитель ее не прожил и трети своей жизни. Кто знает, что ждет ее впереди, кто посмеет утверждать, что доброта и любовь к одним не затмит в ее сердце другие разумные чувства?
Предмет же ее любви – наша Манечка – действительно прекрасная девочка, заслуживающая всяческой похвалы и умиления. Никогда в жизни не встречала ребенка столь одаренного музыкально и по-настоящему заинтересованного в овладении искусством игры на инструменте. Она, конечно, еще мала, и бездумное пиликанье смычком по струнам нельзя пока назвать чем-то хоть сколько-нибудь напоминающим настоящее извлечение волшебных звуков, но и за ним уже вполне угадывается талант и большое будущее при его гармоничном развитии. Кстати, из-за этой постоянной «чарующей» музыки я и вынуждена снова постоянно скрываться на работе. Когда Зина разбила скрипку (помнишь, я тебе писала об этом несколько лет назад), многие (только не я) вздохнули с облегчением, радуясь исчезновению из квартиры ежедневных гамм и вариаций. В каком отчаянии пребывают они теперь! Какие слова произносят в адрес малышки, когда та берет в руки инструмент! И как буквально хором просят Зину сыграть саму, чтобы скрипка выводила услаждающие слух мелодии, а не пилила воем и визгом натянутые, обнаженные нервы. Вся эта кутерьма заставляет меня улыбаться и только. Думаю, малышка подрастет, пойдет в музыкальную школу, и в квартире снова восстановится былой нейтралитет.
Время позднее, моя дорогая, пора мне завершать нашу беседу. Я живо представляю, как ты так же в сумерках будешь отвечать мне. Племянник мой, конечно, уже будет спать. Представить не могу, что он уже школьник. Знаю, ты качаешь головой и говоришь, что я должна чаще приезжать. Обещаю, милая: летом обязательно. Поцелуй его, скажи, что скоро каникулы и что тетка, которую он, наверное, уже плохо помнит, пойдет с ним на рыбалку. А не перевелись ли карпы в вашем дивном пруду?
Обнимаю тебя. Я.
12
Влад выгуливал собаку и не в первый раз думал о том, что пора бы уже наконец перебраться куда-то из центра города хотя бы ради Финча. Мохнатый ризеншнауцер будто услышал мысли хозяина, вынул морду из кучи сухих листьев и, тоскливо посмотрев на Влада, потрусил дальше по тротуару.
– Не разгуляться тебе, друг? Понимаю.
Гальперин знал, что когда-то давно, еще в допетровскую эпоху, этот старый район считался одним из самых зеленых в Москве. Скверы и сады были не только за кремлевской стеной, что возвышалась на противоположной стороне набережной, но и с этой стороны реки, где он два раза в день прогуливался со своим псом. Когда-то тут было огромное количество фруктовых деревьев и сто сорок четыре фонтана, объединенных названием Царицын Луг. Впрочем, это было давно. Государев сад выгорел еще в пожаре 1701 года, уцелела лишь Софийская церковь. Когда-нибудь в ней определенно возобновятся службы. Надо успеть переехать, иначе колокола будут будить его каждый день. Да, церковь – единственный старожил в округе, помнивший времена деревянной Москвы, единственный свидетель начала каменного строения и пришествия мануфактур, прекращения наводнений и постепенного превращения района из светского в купеческий.
Теперь от фабрик и складов практически ничего не осталось. Стоят особняки Харитоненко и Демидовых, выстраивается очередь в старинное здание, отданное властями английскому посольству, течет река, но былое величие, былая ценность зареченской территории все еще до конца не восстановилась. У Влада были знакомые в Москомархитектуре, которые утверждали, что все дома обязательно со временем будут отреставрированы, правда, они не рассказывали о том, что большинство из них перестанет быть жилыми: их продадут богатым компаниям, которые и возьмут на себя обязательства по благообразию вверенных им фасадов и внутренних перекрытий. Влад даже слышал, что существует проект о переносе английского посольства на Смоленскую набережную, но эта информация лишь неуловимо витала в воздухе и напоминала обычные пустые слухи. Как бы там ни было, но центр Москвы наверняка постараются привести в порядок: в конце концов, какая-нибудь из заезжих звезд вполне может изъявить желание прокатиться, а то и пройтись не к Васильевскому спуску через Москворецкий мост, а в другую сторону от Балчуга.
Гальперин свистнул собаке и повернул в обратном направлении.
В общем, через несколько лет, а может быть, десятилетий Замоскворечье при определенных усилиях приобретет статный внешний вид, но о прежнем существовании огромного сада забудут, скорее всего, навсегда. Вряд ли кому-то захочется избавляться от приумножающей капиталы недвижимости, чтобы засадить территорию фруктовыми деревьями. «…Как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят новую жизнь…» – неожиданно вспоминается Владу. Нет, оставаться здесь с Финчем настоящее преступление. Гулять негде. Ближайший сквер на Болотной площади, но там не очень жалуют собак, да и идти туда не слишком близко. Вечерами, как сейчас, еще можно прогуляться, а по утрам у Гальперина никогда нет времени. Конечно, можно попросить бывшую жену забрать собаку насовсем. Катерина, естественно, поломается, придумает тысячу и одно неудобство, которое ей придется переносить, приютив Финча, резюмирует свой обличающий монолог, обозвав Влада безответственным, но, в конце концов, согласится хотя бы для того, чтобы доставить радость сыну. Катерина-то согласится, а вот Финч вряд ли обрадуется. Он предан Гальперину, а Гальперин предан ему. Еще как предан. Вот и вчера из аэропорта, несмотря на усталость, помчался забирать собаку.
– Папка! – бросился к нему тринадцатилетний Димка, прижался, повис на шее.
Влад вручил ему пакет с подарками, торопливо купленными в последний момент. Хорошо хоть совсем не забыл о ребенке.
– Есть будешь? – прокричала из кухни бывшая жена. Интересно, теперь, когда он не хлюпик-аспирант, не подающий надежды молодой ученый, а солидный профессор, доктор психологии, теперь она не жалеет, что пять лет назад поторопилась и превратилась в бывшую? Впрочем, какая разница. Главное, об этом не жалеет сам Гальперин. Да и она, наверное, не испытывает разочарования. Живет же со своим режиссером. Как ушла к нему пять лет назад, так и живет. Он, правда, из нее не кинозвезду сделал, а домработницу, ну это, собственно говоря, их дело. Влада это не касается. А Димка? Ну что Димка? Взрослый уже пацан.
– Так будешь есть?
– Нет, я…
– За Финчем приехал? – Катерина выплыла в коридор, глянула презрительно, с укором.
– Да, в общем…
– Понятно! – Димка швырнул пакет с подарками на пол и исчез в своей комнате, хлопнув дверью.
Катерина, как ни странно, ничего не сказала, лишь головой качнула и тоже удалилась. Влад надел поводок на сошедшего с ума от радости Финча и вышел из квартиры подавленный и задумчивый. Надо все же уделять сыну побольше внимания, сходить, что ли, с ним на матч в выходные. Нет, не получится, в субботу он обещал коллеге проконсультировать нескольких пациентов, а в воскресенье Финча надо вести на плановый осмотр к ветеринару. И что же это получается? Неужели Катерина права: ему собака дороже сына? Бред какой-то.
Пес между тем не торопится, жадно и вдумчиво обнюхивает бамперы припаркованных автомобилей, делает свои пометки, обнаружив нечто, неведомое хозяину, облаивает оставленную дворником на тротуаре полную листьев тачку. Влад тоже не спешит. Он еще не оправился до конца от перелета. После Африки он неделю пробыл на симпозиуме в Нью-Йорке, поэтому сегодняшний доклад об определении лучшего возраста для профориентации и последующие прения он проспал и теперь, судя по всему, ему вновь предстояла долгая бессонная ночь. Долгая ночь в раздумьях о допущенной ошибке и собственной глупости. Может, стоит все это бросить? Может, он зря все затеял? В конце концов, его ведь никто не просил. Чего же он хотел? Инициатива, как известно, наказуема. Зачем надо было изображать из себя журналиста, зачем дразнить ее этими вопросами? Да, его подозрения подтвердились. Но что из этого? Разве он помог ей? Напротив, только обнажил ее чувства, снова заставил переживать. И как действовать дальше? Во-первых, он в Москве – она в Камеруне, но даже если он снова поедет туда и попытается рассказать ей обо всем откровенно, она просто не станет слушать, и будет совершенно права.
Влад вернулся домой, приготовил яичницу, съел ее с Финчем напополам, прошел в кабинет и снова несколько раз прослушал пленку. Что-то нашептывало ему, что лучше прекратить эту работу, не лезть туда, куда его не звали, не вмешиваться в то, во что его не просили вмешиваться, не стараться помочь тому, кто не молил о содействии.
– Не молил, – сокрушенно соглашается Гальперин со своими мыслями. – Не молил, но нуждался.
Влад, как и большинство людей, мог приврать самому себе, торжественно пообещать нечто невыполнимое, свято веря в то, что он все сделает и договоренность с самим собой ни за что не нарушит. Вот и теперь внутренний голос настойчиво предлагал ему заключить пакт о прекращении бестолковой и безрезультатной деятельности, неизвестно ради чего начатой и так ничем и не оконченной.
– Пока не оконченной, – спорит Влад, не сдается.
– Деловые отношения, – продолжает подстрекать его нечто из глубин души, – должны быть просты и понятны. Ты – одна сторона контракта, а где вторая? Лучше подпиши договор со мной: ты прекращаешь глупые поиски, а я освобождаю в твоей голове место для настоящей научной работы.
– Это и есть научная работа.
– Врешь!
– Вру! – неожиданно признается Влад и понимает, что договориться с самим собой на этот раз не получится. Не получится не потому, что на пленке интереснейший материал для исследования, хотя это, безусловно, так, а исключительно из-за того, что, когда он слушает запись, его мысли то и дело перескакивают со слов и интонаций к облику девушки. И думает Гальперин отнюдь не о причинах ее воинственной речи и предпосылках враждебности, а о миниатюрной фигуре: узких бедрах, острых коленках, выпирающих ключицах; о непокорных, жестких завитках темных волос, которые выбились из конского хвоста и нервно вздрагивали при каждом новом выкрикиваемом ею «Уходите!», о грустных серых глазах, метавших молнии, и об имени, что еще неделю назад отчего-то представлялось ему заурядным, а теперь звучало в голове чистым колокольным переливом, которым когда-нибудь о бязательно зазвонит колокол церкви Святой Софии.
– Пути Господни неисповедимы, – снова произносит Влад вслух, удивляясь внезапности так некстати охватившего его чувства. Он бы удивился дорогам судьбы еще больше, если бы только мог предположить, что вчера вечером та, что занимала все его мысли, смотрела из такси на окна его квартиры.
13
Семьдесят четвертый год оказался для Зины одним из самых насыщенных по количеству судьбоносных событий. Весной умерла Тамара. Умерла внезапно, тихо, ночью, во сне, как будто вдруг спохватилась и поняла, что просто устала лежать без движения и оставаться обузой для подруги, как будто захотела освободить Зину, отпустить ее, дать вздохнуть, распрямиться, пожить. Вслед за Тамарой желание помочь дочери неожиданно проявила Галина.
– Нашей девочке летом исполнится пять, – как-то сказала она. – Надо что-то делать.
– Что ты имеешь в виду? – Зина спрашивала, как всегда, мимоходом между станком, детским садом и плитой. Галина теперь готовила редко, пропадала за доставшейся им швейной машинкой, выдумывая наряды для Манечки, Зины и себя. Все же у концертмейстера должно быть хотя бы несколько платьев. Зина это увлечение матери не разделяла. Конечно, справить Маше новое пальто или брючки – дело хорошее, но зачем нужно тратить время и деньги на обновки для нее самой, если носить их, кроме как на работу, некуда, а туда жалко. Зина рассуждала и вела себя как опытная, сорокалетняя женщина и выглядела часто гораздо старше своего возраста, хотя ей едва исполнилось двадцать два. Она была измотана ежедневной дорогой в Измайлово на свою ткацкую фабрику, замучена заботами о болезненном ребенке и издергана постоянным ожиданием неминуемого возвращения диссидента, с которым по-прежнему поддерживала тайную переписку. Зина страшилась этого момента и страстно мечтала о нем. Она сама не могла точно определить, в какой момент она перестала выдумывать содержание писем, когда строки стали легко и свободно выстраиваться, когда она осознала, что пишет от себя лично, а не вместо Тамары, когда поняла, что говорит о своих чувствах, отвечая взаимностью на признания своего адресата.
Отцом девочки никто из обитателей квартиры уже не интересовался. Любопытство людей надо подогревать новыми жареными фактами. Одна и та же информация не может оставаться предметом живого обсуждения годами. Вот и на приходящие Тамаре письма внимание обращать перестали. Да, получает их Зина. Да, складывает куда-то, где-то хранит. Пусть хранит, потом Манечке отдаст. А о том, что Зина на письма отвечает, никому знать не нужно. Это личное.
Это личное занимает теперь все ее мысли, она постоянно витает в облаках, выполняя автоматически привычную работу, механически поддерживая разговор. Вот и тогда спросила мать, а ответа не слушала, продолжала про себя повторять: «Неужели совсем скоро увижу тебя снова? Не верю. Не верю. И жду-жду-жду».
– И я жду.
– Чего ты ждешь, Зина? Чего тут ждать? Надо действовать, не терять времени.
– Ты о чем, мам?
– Я все о том же, а ты, как всегда, о своем. Зиночка, послушай меня хоть раз внимательно, отвлекись от своих внутренних терзаний и посмотри в лицо реальности.
Про внутренние терзания верно подмечено, а остальное – полная ерунда. Как еще, интересно, можно назвать последние годы Зинкиной жизни, если не полнейшим проникновением в реальность? Может быть, скучнейшая работа на ткацкой фабрике, болезнь подруги, маленький ребенок, может, все это далекая от настоящей жизни романтика?
– Зинаида! Ты меня слушаешь?
– Да-да, мам, конечно.
– Так вот. Занятия музыкой – серьезное дело. Я не хочу снова обжечься, поэтому намерена объявить Манино будущее делом всей своей жизни, за которое намерена бороться начиная с завтрашнего дня.
– Мама, к чему этот пафос? Ты что, на войне? Зачем бороться? С кем? Ты, вообще, о чем?
– Я о том, что у девочки талант. С этим, я надеюсь, ты спорить не собираешься?
– Нет, конечно. Только главное в жизни здоровье. С этим, надеюсь, спорить не станешь ты.
– Я знала, что ты это скажешь. Сейчас добавишь, что ты решила отдать ее на каток, что надо избавляться от постоянных бронхитов, а потом уже думать об остальном. Правильно?
– Правильно.
– Вот! – отчего-то торжествует Галина. – А потом может оказаться поздно. Думать, моя дорогая, нужно обо всем и сразу.
– Мама, не ходи вокруг да около. Говори прямо, что ты предлагаешь.
– Я ничего не предлагаю, Зиночка, – торжественно объявляет Галина. – Я уже все решила.
Зина настораживается. Обычно пафос в голосе матери не предвещает ничего хорошего и заканчивается очередным скандалом. Галина держит театральную паузу, выработанную многолетней работой ведущей музыкальных мероприятий. Она таинственно растягивает слова и не спешит заканчивать фразы, чтобы публика успела ощутить всю неповторимость и величественность момента прежде, чем прозвучат первые аккорды. Вот и Зине следует запастись терпением, настроиться и приготовиться держать удар. Мать ждет. Она похожа на боярыню Морозову с картины Сурикова. Такая же важная, надменная, непоколебимая и несгибаемая, всем своим видом показывающая, что будет бороться за свои убеждения и не отступит ни перед чем, чего бы ей это ни стоило. Зине всегда тяжело спорить с матерью. Галина выше дочери, крупнее, красивее. Она – статная, спина у нее прямая, а шея длинная. По сравнению с Зиной-воробушком Галина – чайка. «Точно, чайка, – думает Зинка, глядя на мать, – кружит надо мной, присматривается и раздумывает, в какой момент лучше клюнуть, чтобы не упустить добычу».
– Не тяни, мам, – в голосе обреченность и заранее навалившаяся усталость.
– Хорошо, изволь. Я записала Машу в музыкальную школу.
– Куда?! Ей всего пять.
– Туда, ты слышала, Зинаида. И я прекрасно помню, сколько ей лет. А еще я отлично вижу, что у девочки в отличие от тебя присутствуют и талант, и желание взять в руки скрипку. И чем скорее это произойдет, тем лучше. Я водила ее на прослушивание, и Машу с восторгом приняли, несмотря на малый возраст. Надо пользоваться этим, пока у ребенка не пропала охота.
– Мама, ты уже обожглась один раз, но так ничего и не поняла. Невозможно вырастить гения против желания, а вот талант, подгоняемый мечтой, имеет все шансы дорасти до гениальности. Если Мане наскучит это занятие, ты ничего не сможешь с этим сделать, да я и не позволю тебе. А если музыка – ее судьба, если она будет продолжать жить и дышать мелодиями, то через несколько лет она сама попросит, чтобы ее учили играть. Ты вспомни Паганини. Как истязал его отец, какие варварские наказания применял за неправильно сыгранную ноту или неверно взятый аккорд. Да, у любого нормального человека такое насилие не вызвало бы ничего, кроме непреодолимого отвращения к инструменту, но с ним этого не случилось. Он влюбился в скрипку, как только услышал ее звучание, и все остальное перестало иметь для него какое-либо значение. Так что если Маша захочет играть, она сама об этом скажет. Разве не так?
– Все так, Зиночка, все так. – В глазах матери неожиданно загораются лукавые огоньки. – Только она уже сказала.
– Когда сказала?! Кому?!
– …
– Тебе?! Но почему?
– В смысле, почему не тебе? Потому что ты будто помешалась на своем катке и на разговорах о грядущей борьбе с бронхитами.
– Мама, но ведь у Маши действительно слабое горло, а каток – наилучшее средство для закаливания. Я устала уже отпрашиваться с работы и просить Фросю долечивать Машкины простуды. И вообще, этот спор ни о чем, мама. Если на каток я могла бы успевать водить ее до работы, то о музыкальной школе и речи быть не может. Подрастет, сама сможет ходить и тогда…
– Зина, сколько мне лет?
Зина осекается и в недоумении смотрит на мать.
– Ты о чем?
– Я о своем возрасте, милая. Мне – пятьдесят восемь, и я собираюсь на пенсию, чтобы заниматься воспитанием и образованием Мани.
– Но…
– Но и не только для этого. О твоем воспитании, конечно, думать уже поздно, а вот об образовании все еще необходимо. Ты завтра же… Слышишь? Завтра же напишешь заявление об уходе с этой своей работы. Я договорилась, тебя возьмут в Дом культуры. Не на мое место, конечно. Пока помощником администратора. Но с одним условием: ты поступаешь на вечерний. Иди, куда хочешь. Не нравится играть, выбирай теорию музыки или искусствоведческий, или культурологический. Только учись. А в свободное время займись наконец собой. Ты похожа на старуху.
– …
– Не смотри на меня так. Это правда. К тому же у меня, собственно говоря, все. Таков мой план. И он, по-моему, прекрасный.
– Прекрасный. Твоя пенсия и моя зарплата помощника администратора Дома культуры – это гораздо меньше, чем заработки концертмейстера с ткачихой пятого разряда, тебе не кажется?
– Ничего, справимся. Может, Валера поможет.
– Валера? – Зина не сдерживает иронии. После того, как жена восемь лет назад увезла брата из московской коммуналки в просторную кубанскую хату своих родителей, вести от него приходили редко, а те, что приходили, умещались на открытках с розами для матери и с зайчиками для сестры.
– Ладно. И без Валеры обойдемся. Главное, – забудь о фабрике, Зина. Пора закончить этот нелепый подростковый бунт.
И Зинка закончила, бунтовать перестала, поступила на театроведческий, освоилась в Доме культуры. И сама как-то выправилась, похорошела, распрямилась, стала носить каблуки, останавливаться перед зеркалом, красить глаза и губы.
За одной из таких остановок и застал ее Михаил Абрамович Фельдман. У Зины навсегда сохранились в памяти мельчайшие детали этого мгновения. Вот она стоит в коридоре у зеркала, не думая ни о чем, кроме как о цвете помады, который выбрать. Вот слышит два требовательных звонка, означающих, что пришли к Тамаре. Вот кричит: «Откройте, теть Фрось!», нисколько не интересуясь тем, кто может оказаться за дверью. И как это только сердечко не екнуло, не защемило? Вот водит по губам с нежно-сиреневым содержимым тюбика, видит свое отражение, Фросю, воинственно застывшую в дверях, и возвышающегося над ней мужчину. У него старая, поношенная одежда, стоптанные ботинки и благородная, даже красивая внешность: тонкое, вытянутое лицо с острыми скулами, большие, чуть навыкате глаза, низкие, густые брови, высокий лоб, чуть длинноватый нос и узкие, но четко очерченные губы. «Белинский» [5]5
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – русский литературный критик.
[Закрыть], – решает про себя Зинка, но и при этом сознание ее не озаряется и толикой догадки. Мужчина что-то говорит Фросе. Зина не слышит. Она только видит, как дворничиха отступает и в нерешительности оборачивается. И тут Зина понимает. Помада чиркает сиреневой дугой по щеке и падает на пол, а за ней падает на пол без чувств и сама Зинаида.