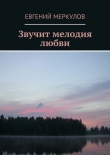Текст книги "Мелодия встреч и разлук"
Автор книги: Лариса Райт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
14
Алина наконец-то была практически счастлива. За два года, прошедших с момента ее возвращения в Москву, ей удалось добиться некоторых успехов. Конечно, на персональную фотостудию ей еще работать и работать, но все-таки ей удалось переместить рабочий кабинет из собственной квартиры. Сейчас то подвальное помещение, что снимала она вместе с еще двумя такими же непризнанными гениями, правда, мужского пола, позволяло ей изготавливать недорогие, но качественные портфолио для начинающих моделей, танцовщиц, детишек, чьи мамаши были одержимы славой, и всех-всех-всех, кто обладал желанием и некоторой суммой денег. На фотографиях всегда стояла фамилия автора, что давало надежду с оптимизмом смотреть в будущее. Если изображения очередной нимфетки придутся по душе в каком-нибудь крупном агентстве, то, возможно, корифеи модельного бизнеса заинтересуются и именем фотографа. Нет, Алина не мечтала увидеть свои работы на обложке «Vogue» или «Cosmopolitan», но, если бы они попали туда, она смогла бы позволить себе тратить чуть больше времени на то, что на самом деле приносило ей удовольствие. А пока портреты занимали все ее время. Это было невероятно скучно, но необходимо. Надо было кормить себя, попугая и Шурика.
Шурик… Он появился в студии год назад. «Жлоб!» – решила тогда Алина, мельком взглянув на длинные густые распущенные волосы, кожаные обтягивающие штаны, короткую куртку с бахромой по всей длине рукавов и дешевые перстни на обоих безымянных пальцах. Жлоб подошел к ней почти вплотную и, обдав приторно-сладким запахом парфюма, промяукал в самое ухо:
– Мне бы портфолио.
Алина отстранилась, не скрывая брезгливой гримасы, махнула головой на ширму:
– Переодевайтесь, если надо.
Посетитель, ухмыляясь, снова придвинулся и издевательски прошептал:
– Мне бы фотографа.
– Это я.
– Ты-ы-ы? – так откровенно и без тени смущения удивился хам, что девушка невольно залилась краской.
– Не нравится? До свидания, – презрительно процедила она.
– Нравится, нравится. Очень нравится. И тебе понравится, – отчего-то засмеялся он и отправился за ширму.
– Сколько снимков? – Алина устанавливает отражатели.
– Штук пять-шесть, только с разным фоном.
– Еще и фон подавай, – бухтит она, вынимает соты с фонами, пробует то один, то другой, играет со светом, поднимает голову и едва успевает схватить падающий зонт, к которому она прислонилась от неожиданности увиденного. Перед ней стоит идеальная груда мышц, наготу которой прикрывают три ярко-красные полоски. Конечно, ей доводилось снимать мужчин-моделей, но ни один из них не проявлял желания обнажаться в начале творческого процесса. Идиот. Или не модель.
– Ты мальчик по вызову, что ли? – девушке совершенно не хочется бороться за такого клиента.
– Дура. Я – стриптизер.
В его голосе столько гнева и обиды, что Алина решает проглотить оскорбление и, жестом пригласив мужчину на подиум, начинает отдавать привычные команды:
– Двигайся.
– Не застывай, пока я не скажу.
– Еще.
– Работай лицом, а не только…
– Волосы откинь.
– Убери ухмылку.
– Так, держи позу.
– Еще.
– Молодец.
– Все. Стоп. Снято.
Он одевался, Алина отбирала снимки. Посмотрела на него, вышедшего из-за ширмы: такого наглого, самодовольного, не удержалась – бросила:
– И что только заставляет мужиков идти в стриптизеры?
– Поживи в интернате, тогда узнаешь, – и все его бахвальство вмиг улетучилось.
– Ты жил в интернате?
– А тебе-то что? Ты, чай, не сирота. Ты не мечтала о том, что когда-нибудь тебя полюбят, ты не жаждала внимания, восхищения. Выросла небось на всем готовеньком за спиной родителей и только и можешь, что презирать таких, как я.
Алина не думала о том, что не все такие, как он, становятся стриптизерами. Она вообще ни о чем не думала. Она лишь слышала его слова, которые гулким эхом отзывались в ее сердце. Она ловила фразы, которые он говорил о себе, и знала, что это все о ней. Алина не любила ходить по студии перед клиентами, но тогда она встала со своего стула и молча продефилировала до подиума и обратно, чуть припадая на одну ногу. Остановилась перед ним, взглянула в глаза и прошептала надрывно:
– Если б ты только знал…
Шурик переехал к ней через два дня. Работу в клубе оставил. «Ты ведь не против, малыш?» Искал себя, но не нашел ни в фитнес-клубе, ни в школе танцев, ни в обычной школе в роли учителя физкультуры. Обрел покой на диване, озадачив Алину просьбой «добиться наконец известности», чтобы пристроить его ни много ни мало в «Тодес» [6]6
Известный балет под руководством Аллы Духовой.
[Закрыть], поскольку остальные «конторы оказались мелковаты для масштаба его одаренности». «Хорошо, что на Большой театр не замахнулся», – подумала тогда Алина, но спорить не стала. Они были одним целым. Разные, но похожие: обиженные жизнью, проклинающие судьбу люди.
С тех пор жизнь шла своим чередом: Алина пропадала в студии, Шурик – дома, иногда даже приподнимаясь с дивана, чтобы сходить в магазин или приготовить ужин. Случалось, Алине удавалось выкроить несколько свободных часов, и она вылезала из своего подвала и не плелась домой, прихрамывая и покачиваясь, а летела, практически не наступая на больную ногу. Летела туда, куда хотела: к небу и к траве, к солнцу и к тучам, к морозному утру и к влажному вечеру, к тротуарам, наводненным прохожими, и к пустынным переулкам, к девчушке, испуганно застывшей на светофоре, и к старушке, бездумно перебегающей гудящий проспект, – к натурным съемкам, к пейзажам, к секундам, к мгновениям.
Здесь Алина могла почувствовать себя свободной от технических особенностей процесса фотографии. По-гречески «фотография» означает «светопись», а возни с выстраиванием света ей хватало и в студии. На улицах она искала другого: ловила линии, выстраивала композиции, находила точки пересечения для усиления перспективы, впитывала и старалась воплотить на снимках эмоциональность и динамику сюжета. Алине нравилось, что на открытой местности предметы и лица теряли яркость и контрастность, удаляясь от объектива. Можно было «лениться»: не выставлять смазанный фон, не стараться приглушить краски заднего плана. То, что она хотела запечатлеть, оказывалось в необходимом фокусе и в нужном ракурсе почти всегда, когда она успевала поймать камерой ту секунду, которая и должна была, с ее точки зрения, длиться вечно. И ей это удавалось.
– Классные снимки! – оценил как-то один из коллег. – Давай я поговорю кое с кем, выставку тебе организуем.
– Давай, – загорелась тогда.
Выставка открылась в приблизительно таком же подвале, в каком размещалась их фотостудия. В первый день ее посетили два неформала и несколько местных жителей, а во второй Алина выставку закрыла, работы увезла и больше никому не показывала, решила, что размениваться не будет. Она не помнила, чтобы та, что по-прежнему не покидала все ее мысли, когда-либо играла на помойке. Конечно, та не сразу очутилась в Карнеги-холле, все постепенно, но площадки все же были не самыми плохими, а у Алины, следовательно, должны быть лучше.
Работы Алина теперь не хранила, тщательно отбирала, оставляла только самые выдающиеся. Их было немного. Было бы больше, если бы получалось выбираться из студии чаще. Не получалось, да и не хотелось. Слишком дорого обходилось ей это увлечение. Шурику можно было не говорить о том, где она была и чем занималась. Он все замечал по возбужденному взгляду, по рассеянно блуждающей полуулыбке, по любовно прижимаемому фотоаппарату. Смотрел на нее, сводил к переносице брови, качал головой, отворачивался к стенке на своем диване.
– Опять шлялась по улицам, а денежки в это время мимо плывут.
Говорил и замолкал. В первый раз замолчал на сутки, потом стал молчать дня по три, а в последний раз он не разговаривал с ней неделю. И Алина решила, что лучше пока наступить себе на горло, чем сводить общее существование к состоянию постоянной холодной войны. Почему она так решила? Она не знала. Она его любила? Нет. Никогда. Терпела? Да, наверное. Зачем? «Не знаю», – ответила бы она не раздумывая, абсолютно уверенная в том, что логичного объяснения нет и быть не может. Если бы все в этой жизни поддавалось разумным толкованиям, то жить было бы проще. Так считала Алина. Жизнь для нее никогда не была легкой, и усложнять ее, подвергая свою голову глубинному самоанализу, не хотелось. Хотя иногда, вслушиваясь по ночам в размеренное сопение Шурика, она неожиданно признавалась самой себе, что знает причины, по которым он все еще находится здесь. Точнее, причина была всего одна: присутствие мужчины возвышало Алину в собственных глазах, придавало значимости, заглушало все еще раздирающую ее ненависть. «Она старше меня на семь лет, а все еще не замужем», – мелькало неожиданно в голове. «Ну и что? – тут же вступала в спор с самой собой Алина. – Может, ей и не хочется». «Вздор! Она – обычная баба. Пусть гениальная, но обычная. Жизнь ее переполнена гениальным, а обычного в ней ни на грош. Зато во мне обыкновенного хоть отбавляй. Чем не повод признать за собой малюсенькую победу? Стоп. Что это за бред? При чем здесь она? Я ведь решила, что живу своей жизнью, и точка. Своей, а не чужой». Алина отчаянно боролась. Она гнала от себя нелепые мысли, но они возникали с пугающей периодичностью, и самым отвратительным было то, что в глубине души Алина понимала: именно они согревают ее и, в конце концов, убаюкивают бессонными ночами, именно они скрашивают существование, именно они позволяют быть практически счастливой. Точнее, позволяли. До сегодняшнего дня. До второй его половины.
Она ехала в лифте и отчаянно старалась избавиться от навязчивой мелодии, играющей в голове заезженной пластинкой уже несколько часов. «Листья желтые над городом…» Листья были и красные, и оранжевые, и бурые с коричневыми прожилками, кружились листья кленовые, березовые, липовые, кружились над столицей и в Алинином фотоаппарате: перелетали через гранитный парапет Москвы-реки, прилипали к мокрым от дождя столбам, свисали с зонтов, отражались в очках прохожих, сплетались в пушистые гирлянды на головах гуляющих в парках детей. «Унылая пора – очей очарованье» – это классик написал специально для Алины. Как будто знал, что осень на ее снимках будет самой живописной, самой красочной, самой радостной и одновременно самой унылой, самой реалистичной и самой сказочной, обыденной и необыкновенной, веселой и грустной, – самой жизненной.
Листья все еще ложились с тихим шорохом Алине под ноги, когда она открывала дверь квартиры.
– И от осени не спрятаться, не скрыться, – спела она не удержавшись, успев подумать о том, что выдала себя, точнее, свою очередную вылазку, с потрохами. – Листья жел… – и оборвала себя, услышав голоса в глубине комнаты. Посетители у них не случались. Алина подруг не имела. Нет, когда-то в детстве они были, но растерялись из-за ее бегства в Америку. Старые связи Алина восстанавливать не стремилась и новыми обзаводиться не спешила. В общем, со своими друзьями она пока еще не познакомилась, а тех знакомых Шурика, которых знала, – терпеть не могла и домой приглашать не желала. Присутствие постороннего человека в квартире тут же заставило ее насторожиться. Голос, показавшийся Алине совершенно незнакомым, явно интересовался ее работами.
– Это тоже снимала ваша жена?
С чего бы это Шурику вздумалось жениться на ней? Решил пометить территорию, почувствовал конкуренцию? Алина стоит на пороге квартиры, не решаясь шевельнуться. Думает, какую фотографию сейчас рассматривает гость: темные, едва различимые в лунном свете крыши домов или блестящую на солнце гладь подмосковного озера?
– Какие выразительные руки!
– Да, – Шурик явно польщен. Хвалят его собственность. – Знаете, у фотографов принято называть выразительным глаз.
– Конечно. Но я имею в виду модель. Эти руки, прижимающие детей. Как точно они передают невозможность выбора, отсутствие приоритета.
Надо же. Гостю понравилась камерунка.
– Смотрите. Она держит их. Защищает от толпы, от мира. Это точное воплощение материнства. Я бы послал этот снимок на конкурс.
– Знаете, Алина теперь вроде как студийный фотограф.
Нет, это уж слишком. Девушка громко хлопает дверью.
– Линчик! – Шурик стремительно выбегает в коридор. – А мы тут тебя ждем. Где так задержалась?
– Снимала осень. – Алина вскидывает голову, сверкает глазами. Мужчина не замечает ее вызова, продолжает суетиться: разматывает на ней шарф, помогает снять куртку. Кажется, еще мгновение, и он падет ниц, бросится стягивать с нее сапоги. Да что с ним, в конце концов, такое? Ситуация, однако, быстро проясняется:
– Ручки, ручки помыть с улицы, – Шурик буквально силой заталкивает Алину в ванную, включает воду, достает из кармана визитку и возбужденно шепчет: – Он интересуется твоими работами.
«Гальперин Владислав Андреевич, руководитель научно-исследовательского центра „Полиграф“», – читает девушка напечатанную информацию. Кажется где-то она уже слышала эту фамилию. Но где? Алина недоуменно пожимает плечами, закрывает кран. Шурик уже не обращает на нее внимания, распахивает дверь, кричит:
– Идем-идем!
Алина не торопится, останавливается в проеме комнаты, прислоняется к косяку, хотя могла бы пройти и дальше. Гость стоит спиной и не заметит пока ее хромоты. Мужчина – среднего роста, худощав, но не тощ и, скорее всего, довольно молод. Во всяком случае, седины на затылке не видно. Одет в голубые джинсы и темно-серый пиджак. К ровной линии волос на шее поднимается ворот черной водолазки. Алина бросает взгляд на Шурика и невольно морщится: за каких-то одиннадцать месяцев из подтянутого атлета он успел превратиться в одутловатого, неопрятного мужлана. Сальные волосы свисают на плечи спутанными патлами, трехдневная щетина покрывает лицо, запятнанная майка – торс, а темно-синие пузыри штанов – колени. Он стоит посередине комнаты и отчаянно сигнализирует своей подруге вступить в разговор, не забыв прилепить на лицо соответствующую заискивающую улыбку. Гость не замечает происходящего, он все еще увлечен фотографией.
– Я сделала этот снимок в Камеруне, – спокойно сообщает Алина.
– Я догадался, – звучит незамедлительный ответ. Мужчина оборачивается, и безмятежность девушки тут же сменяется неподдельным гневом.
– Что вам здесь нужно? – Она узнала его. Тот самый корреспондент, уговоривший ее по телефону на интервью, приехавший в Африку, перевернувший душу. В общем, такой же, как все: скрывающий за своим притворным интересом к ее деятельности настоящий интерес к совершенно другой персоне. – Разве я не ясно выразилась при нашей последней встрече? Я могу повторить еще раз, и еще, и еще. – Алина почти кричит: – Уходите!
– Линчик, полегче! – Шурик растерян, глаза его бегают в ошарашенном любопытстве.
– Действительно, Алина, – «журналист» делает движение навстречу к ней, и девушка невольно отшатывается. – Ну, не горячитесь же! Я всего лишь привез вам ответ.
– Какой ответ?
– На письмо, которое вы мне вручили пару лет назад, помните?
– Да. Кажется, да. И что же? Вы его отправили?
– Конечно.
Никакого письма Гальперин никуда не посылал, оставил себе, периодически перечитывая и размышляя над тем, как устроить себе еще одну встречу с его автором. Ничего хоть сколько-нибудь разумного в голову не приходило. Бросать институт и разыскивать по всему свету девушку с ворохом проблем означало лишь присоединить к этому вороху кучу своих сложностей. Потом Владу предложили организовать центр, работа стала занимать еще больше времени, возникшие чувства, нет, не улеглись, просто отошли на второй план. Казались каким-то романтическим, надуманным бредом, не вяжущимся с образом доктора психологии. И хотя Алинин случай Гальперин все еще считал достойным глубочайшего анализа и тщательнейшего исследования, но поползновения свои помочь ей расценивал теперь как некий самоотверженный юношеский порыв, уступивший сейчас место зрелому пониманию: осчастливить человека против желания невозможно. Девушке нужна помощь, но попросить о ней она должна сама.
Влад искал в других насупленные брови и вздернутый нос, жаждал стремительности и порыва, восхищался упрямством и гордостью, ценил колючесть и ершистость. Отдельно этого хватало во многих женщинах, а всего и сразу в избытке он не находил ни в одной. Иногда какая-то промелькнувшая в толпе тень вдруг казалась ему знакомой: те же вздрагивающие жесткие колечки темных волос в конском хвосте, те же выпирающие ключицы, те же острые, непреклонные плечи. Он оборачивался и сразу же понимал: нет, не она. Походка у проскользнувшей видением девушки оказывалась безукоризненно прямой, а следовательно, – чужой, неинтересной, унимающей возникший было в груди трепет.
Так и ходил Гальперин, оборачиваясь, по Москве, в которой жил, по Европе, где выступал на конгрессах, по Америке, куда поехал выбирать оборудование для своего центра. В Нью-Йорке, правда, один раз не обернулся, замер как вкопанный на углу Седьмой и Пятьдесят седьмой улиц, словно прирос к месту и все никак не мог отвести глаз от плаката. «Впервые в Карнеги-холл…» Посмотрел на дату, на часы, ринулся в кассу. А потом сидел в партере и не мог себя заставить слушать скрипку, хотя классическую музыку всегда любил, и уж чего-чего, а записей именно этой скрипачки в его фонотеке было предостаточно. Но он не слушал, вертелся на месте под неодобрительные взгляды соседей, озирался, нелепо вытягивал шею, привставал с кресла, все выискивал, высматривал, словно продолжал настаивать на внезапно мелькнувшей у плаката мысли: «Она должна быть здесь». Но ее не было. Не оказалось ни в зале, ни за кулисами, куда он пробрался, сославшись на знакомство с маэстро.
– На самом деле вы меня, конечно, не знаете. Я – знакомый Алины.
– Алины? – удивилась и обрадовалась. – Так вы от нее? А я так хотела, чтобы она прилетела. Но у нее же, как всегда, тысяча отговорок. Но что с ней поделать, правда? Ну, любит девочка самостоятельность, пускай, – скрипачка тараторит без пауз с той же изумительной быстротой, с какой извлекает звуки из инструмента. – Ну, рассказывайте, рассказывайте, как она там?
– Нормально, – отчаянно хочется спросить: «Там – это где?»
– Да? Ну, слава богу! А то я беспокоюсь. Домой-то отправила, а может, зря? Может, надо было здесь оставить? У нее же тут публикации были. Я все думала, наверняка она в Африке что-то наснимала. У нее же талант, правда? Вы видели ее снимки? Простите, я нелепые вопросы задаю. Конечно, видели. Так что вы меня понимаете. Понимаете мои сомнения. Ну, что она теперь сидит в своей студии? Заперла себя в четырех стенах, когда ей просто показано, прописано пространство. – Женщина снимает с зеркала фотографию, протягивает Владу. – Вот, смотрите. Это моя любимая. Я с ней не расстаюсь. Я прошлой осенью была в Москве, она меня и сняла. Я так люблю эти места. А вы часто бываете в Замоскворечье? Знаете, что это за церковь?
– Святая София, – успевает вставить Гальперин. – Говорят, ее скоро откроют для служб.
– Правда? Здорово. Давно пора. На моей памяти от церкви там всегда был один только фасад. Что ж, внешности вернули душу. Счастье. Простите, что я так много говорю ни о чем. Просто это места моего детства.
«Я знаю», – чуть было не сорвалось у Влада, но он вовремя удержался. Хотя если бы и сказал, примадонна могла и не заметить его оплошности. Как и многие творческие люди, она слегка зациклена на себе, она увлечена, она в образе и торопится сказать то, что хочет.
– В общем, это чудо, а не фотография. То есть сам снимок, конечно, а не я на нем. Дивно, правда?
Черно-белый глянец размером 18х21 слегка дрожит в ее руке, и от этого невольного движения изображение будто оживает под внимательным взглядом Влада. Обычно с Москворецкого моста фотографируют Васильевский спуск, соборы Кремля, дворцовый ансамбль. На этом снимке модель запечатлена на фоне противоположной стороны реки. Гальперин не знает, чем это объяснить: свойством памяти или мастерством фотографа, но снимок кажется ему цветным, красочным. Он различает цвета проносящихся по набережной машин, видит грязно-коричневую гладь воды, мрачную серость попавшего в кадр угла Дома на набережной и даже лучи солнца, блестящие в золотистых волосах скрипачки. Но больше всего поражает Влада не странная цветовая насыщенность при, казалось бы, полном отсутствии резких контрастов, а то настроение, которое передано в мгновенном сиянии вспышки. Смеющаяся, жизнерадостная женщина на снимке показана совершенно чужой и городу, и фотографу. «Не москвичка», – так называет фото Гальперин. Как назвала снимок сама Алина?
– Волшебная фотография, правда? – Скрипачка возвращает снимок на место. – Что скажете?
– Скажу, что Алина – мастер субъективизма. Показывает то, что чувствует. И прекрасно показывает.
– Верно, – хохочет звонким, серебристым смехом. – Боже, я так ни о чем вас и не расспросила, а надо бежать на пресс-конференцию. Впрочем, говорят ведь, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а мы непременно должны с ней скоро увидеться. Послушайте! Мне вас просто бог послал. Вы скоро будете в Москве?
Влад сдержанно кивает, настораживаясь.
– Чудесно! – Она даже хлопает в ладоши. – Вы-то мне и поможете. Я ей не говорила. В общем, это сюрприз. Хотела послать по почте, но, знаете, почта работает так, что лучше все-таки иметь запасной вариант. Вы-то и будете этим самым вариантом. Стоп, – неожиданно прерывает она себя. – Извините. Так я вас окончательно запутаю. – Она вынимает из сумки конверт, протягивает Владу. – Хорошо, что не отослала. Передайте Алине, пожалуйста. Вас это не затруднит? Нет? Ну, прекрасно. Просто так действительно будет надежнее. Подумать только, не успела утром опустить в ящик. Как будто чувствовала. А ведь даже адрес уже написала.
«Слава богу, что написала, – думает Гальперин, вертя в руках врученное послание. – Надо же. Она в Москве. Не зря я, видно, столько раз оборачивался и мучился предчувствиями, мы вполне могли столкнуться на любом перекрестке. Хотя, – он мельком смотрит на адрес, – в Солнцево, как я понимаю, это было бы более вероятно».
Теперь Гальперин стоит в этом самом Солнцево и видит перед собой именно то африканское сочетание страстей, которого ему, оказывается, так не хватало: губы сжаты, плечи вздернуты, волосы, отчего-то прямые, рассыпаны по плечам, глаза, секунду назад метавшие молнии, все еще сверкают, но теперь в этом сияющем гневе отчетливо прослеживаются искры растерянности, смешанной с заинтересованностью.
– Я его отправил и получил ответ, – продолжает зачем-то сочинять Влад о происхождении послания для Алины.
– Давайте! – Девушка резко протягивает руку, не отрываясь от дверного косяка.
– Пожалуйста, – Гальперин подходит, протягивает конверт. – Это, кстати, тоже вам.
Алина разворачивает плакат. Афиша Карнеги-холла: платье в пол, точеный подбородок прижат к скрипке, белокурые локоны собраны с высокую прическу, – серьезность и сосредоточенность, – genius at work [7]7
Гений за работой ( англ.).
[Закрыть].
– Хороша, – говорит почти искренне. Хотя почему почти? Действительно искренне. Ведь действительно хороша.
Шурик подходит в замешательстве, заглядывает через плечо:
– Кто это? – Читает афишу: – Всемирно известная скрипачка, повелительница струн… Ты ее знаешь? Я не понимаю. Ответь мне! – Не дождавшись реакции, переключается на гостя: – Вы, вообще, кто? Вы из печатного центра или откуда?
– Из печатного? – недоумевает Гальперин, не отрывая глаз от Алины. Она продолжает смотреть на плакат, до боли прикусив губу. – Почему из печатного?
– Ну… Полиграф и все такое…
– А… Полиграф – это детектор лжи. В нашем центре изучают возможность при использовании этих аппаратов помочь людям обнаружить проблемы, скрытые глубоко внутри, проблемы, в которых они не признаются даже самим себе. А полиграфу нашему доступны все потаенные закоулки памяти и необъяснимые странности души. – Гальперин объясняет и смотрит на девушку. Поймет ли она, к кому он обращается?
Но Алина не слушает, она в своих мыслях, она где-то далеко, рядом с той, что изображена на плакате. Шурик тоже теряет интерес к гостю, неспособному никоим образом продвинуть творчество его дамы. Теперь он с живым любопытством изучает афишу.
– Значит, ты с ней знакома? Однако! Не знал, что у тебя такие связи. Малыш, это же здорово!
Алина вспыхивает. Ей становится стыдно, стыдно за себя, за нелепого Шурика, стыдно перед этим то ли журналистом, то ли неизвестно кем, стыдно перед человеком, который смотрит на нее так, будто видит насквозь. Она ощущает лишь одно непреодолимое желание как можно быстрее исчезнуть, скрыться от этого испытующего взгляда проницательных синих глаз.
– Остынь! – грубо одергивает она Шурика, выпускает из пальцев плакат, тут же свернувшийся у ее ног аккуратной трубочкой, и, от волнения хромая сильнее, чем обычно, направляется в кухню. Садится на табуретку, кладет перед собой на стол конверт, смотрит в пустоту.
– Может, откроете? – теперь Гальперин подпирает дверной косяк.
– Вам-то что за дело?
– Любопытство.
– Не порок…
– Знаю, знаю. На самом деле, просто хочу знать, будет ли ответ.
– Даже если и будет, я найду другого почтальона.
– Отчего же? Возможно, я принес отнюдь не дурные вести.
– Это не имеет значения.
– И все же.
– Спасибо. И прощайте, – с нажимом говорит Алина.
– Только один вопрос.
– …
– Ваши волосы. Они были кудрявые.
– Химия. Вы наконец уйдете?
– Хорошо. Как скажете. Только позвольте отдать вам это. – Мужчина кладет перед ней на стол какую-то бумажку и уходит, не оборачиваясь. Алина успевает заметить и неестественную бледность, и желваки, внезапно заходившие на скулах, и протест, и обиду, негласно обозначенную широкой удаляющейся спиной. А еще она неожиданно понимает, что все эти проявления отчего-то не оставляют ее равнодушной.
– Бред какой-то, – резюмирует она свои впечатления и, отодвинув подальше положенную Владом на стол бумажку, распечатывает конверт.
На столе два авиабилета и две открытки. Алина не в состоянии шевельнуть и пальцем, она не сводит глаз с картинок на цветном картоне: два кольца, голуби, розы, кружева. Все понятно и без слов, что ровной серебристой вязью украшают внутри приглашения на свадьбу. Одна открытка для Алины, вторая, такая же, для ее отца. Девушка наконец читает свою:
– Dear Alina, – повторяет она несколько раз, как заклинание, будто надеется, что нижеследующий текст исчезнет прежде, чем она до него дойдет. Буквы, однако, не растворяются, складываются в слова, а те в незамысловатые фразы, понятные даже Шурику, который появляется на кухне и, ничуть не гнушаясь, забирает у Алины приглашение.
– Ух, ты! Она тебя на свадьбу зовет. Это ведь она, да? Эта тетка с плаката? Точно, она. Ну, ты даешь! Такие связи, и молчком. Ладно, мы это исправим. Значит, скрипачка и кто еще? Ух, ты! Лорд Вильгельм Арчибальд Третий. Ни фига себе!
– Лорд… – Алина смотрит на Шурика и не видит его, глаза устремлены в пустоту, сквозь пространство.
– Так, а я о чем? Лорд, понимаешь? Это ж мы теперь…
– Лорд…
– Что ты заладила? Я об этом и говорю. Повезло-то как. Ща раскрутим этого лорда, и все дела.
– Лорд…
– Да лорд-лорд! Так, что же делать? Что же нам делать?
– Нам? – Алина резко вскидывает голову, стряхивая оцепенение. – Нам ничего. А вот что делать тебе, я знаю.
– Излагай! – Он напоминает профессора, снисходительно согласившегося выслушать доводы нерадивого студента. – Ну?
Девушка усмехается, выговаривает слова отрывистыми оплеухами:
– Быстро собирай свои вещи и проваливай!
– ???
– Я сказала: «Быстро!»
– Линчик, ты что? Что с тобой? Что случилось? Я тебе больше не нужен?
Да, именно так. Он ей больше не нужен. Так просто. Так ясно. Так примитивно. Так пошло.
– Может, я что-то не так сделал? Я исправлюсь, Алиш! Я…
– Ты – хороший. Я – плохая. Тебе ясно?
– …
– А теперь проваливай.
Через час стонов, уговоров, обещаний, ползаний на коленях, ругательств и обещаний «стереть Алину с лица земли» Шурик исчезает из ее жизни так же внезапно, как появился, не оставив после своего пребывания никакого следа, кроме пронизывающего ощущения какого-то всеобъемлющего, несмываемого позора. Алина так и не встала из-за стола. Сидела, как пригвожденная, теребила приглашения, не реагировала ни на просьбы, ни на слезы, ни на угрозы. Лишь вздрогнула от хлопка двери, словно очнулась от спячки, выпустила из рук открытку, отшвырнула подальше, увидела бумагу, оставленную Гальпериным. Почти такая же вязь, как на свадебном приглашении.
Центр «Полиграф» предлагает вам принять участие в тренинге личностного роста «Я умею жить своей жизнью». Тренинг состоится…
Дальше Алина не читает, рвет бумагу на мелкие клочки, стучит кулаками по столу в бессильной ярости и лихорадочно повторяет:
– Жаль, жаль, жаль!
Ей очень жаль, что с голубями на открытке нельзя поступить так же.