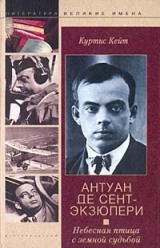
Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"
Автор книги: Куртис Кейт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
* * *
28 июня 1914 года эрцгерцог австрийский Франц-Фердинанд с супругой были убиты в Сараеве, и не прошло и полутора месяцев, как пять основных государств Европы оказались уже в состоянии войны. Это изменило жизнь континента: последствия военных действий ощутили даже в самых забытых его уголках. Прежде чем закончился август, убили дядю Антуана Роже де Сент-Экзюпери: он погиб, подняв в атаку пехотный батальон в Мессене. Двое из кузенов матери Антуана, Гай и Роже де Лестранж, чьей верховой ездой так часто восхищались жители Сен-Морис-де-Реманс, отправились на фронт верхом на своих лошадях и никогда не возвратились. Сама Мари, после окончания курсов Красного Креста в Ле-Мансе, была назначена старшей медсестрой в госпитале, устроенном на вокзале в Амберье. Едва тяжелые обязанности легли на ее плечи, пришло письмо от ее друга-скульптора, которого она сильно любила. «Я уезжаю на фронт, унося в своем сердце все, что так долго в нем покоилось». Она стояла вся в слезах, когда подошел начальник станции и сказал: «Мадам, поезд, полный раненых, вот-вот прибудет. Поступила просьба о носилках – случаи столбняка». Она больше никогда не видела своего друга-скульптора. Международная катастрофа, позже ставшая известной как Первая мировая война, началась.
Она задела Антуана, как и всех остальных. Он провел не очень счастливый предвоенный год в Ле-Мансе. Они с братом Франсуа жили у своей тети Маргарет на улице Пьера Белона, в милом доме времен Директории. Но на следующее лето все мысли о возвращении в Ле-Манс, который, впрочем, никто в семье особенно не любил, пришлось оставить. Вместо этого Мари де Сент-Экзюпери решила перевести обоих сыновей в другую школу иезуитов, расположенную ближе к дому: колледж Нотр-Дам-де-Монгре, расположенный в Вильфранш-на-Соне к северо-востоку от Лиона. Он понравился двум мальчикам не намного больше, чем колледж Сен-Круа в Ле-Мансе. После одного несчастного семестра мальчиков оттуда забрали.
Факт их пребывания там едва бы стоил упоминания, но сохранились воспоминания об этом кратком периоде в школе двух одноклассников Антуана, продолживших обучение и ставших впоследствии священниками. «Он не был первым в своем классе, не блистал и в учении, – рассказывал отец Луи Барджон Элен Элизабет Кран в 1951 году. – Он оказался хорошим малым, его все любили, но он особенно не выделялся среди остальных. Он был прежде всего мечтателем. Я помню его, обхватившим рукой подбородок, задумчиво не спускавшим глаз с вишневого дерева за окном. Мы называли его «Зацепи Луну носом». Я сохранил впечатление о нем как о скромном мальчике, который был оригинален, но не производил впечатление книжного червя. Все это перемешивалось со случайными взрывами радости, изобилием чувств. Антуан писал стихи. Я вспоминаю, прежде всего, одну его поэму о смерти лебедя, явно навеянную Ламартином. Стихи, конечно, были стихами подростка, полного романтизма и некоторой наивности. Но мы восхищались поэмой».
Албан де Шерфаньон, другой из его одноклассников в Монгре, позже вспоминал его как «очень одаренного мальчика, но, возможно, не очень последовательного в своей работе. Я вспоминаю, как… он писал эпические поэмы с большим воодушевлением, о войне и, особенно, о Вильгельме II, дополняя их карикатурами. Они были оригинальны и очень жизненны. Он имел экстраординарную способность сочинять и рисовать»…
Одна из этих поэм о кайзере сохранилась, в отличие от рисунков, которые первоначально иллюстрировали ее. В ней немецкий император изображен ликующим от созерцания Реймса в огне.
Вот маршал рядом с ним. Он грозно говорит:
«Что уцелело здесь? Ведь все вокруг горит». —
«Собор, о сир». – «А госпиталь?» – «Пылает». —
«А ваша армия, мой сударь?» – «Отступает».
Новость, что армия панически отступает, в то время как Реймский собор был сохранен, вызывает у кайзера приступ страшной ярости. «Измученному, ему предстоит ужасная ночь», и он приказывает начать бомбардировку.
И дрогнул рот. И побледнел, глядит в упор.
«Приказ: чтоб завтра был разрушен и собор!»
Эхо творчества Ламартина, как можно заметить, в данном случае уступило интонации героических битв Расина и Виктора Гюго, но нельзя сказать, что это благоприятно сказалось на результатах.
Школа, куда Антуана с братом затем перевели, называлась Вилла-Сен-Жан, во Фрибуре. Ряды преподавателей в лицеях и даже католических колледжах редели по ходу военных действий, и Мари де Сент-Экзюпери справедливо предчувствовала, что обоим ее сыновьям будет лучше под небом нейтральной Швейцарии. В отличие от Сен-Круа в Мансе и Монгре, находившихся в ведении ордена иезуитов, Вилла-Сен-Жан управляли отцы ордена марианистов, поддерживавшие тесные связи с известным колледжем Станислава в Париже. Многие из его преподавателей – начиная с отца Франсуа-Жозефа Киеффера, основателя школы, – были выходцами из Эльзаса, предпочитавшими скорее эмигрировать во Францию или Швейцарию, чем продолжать жить в пределах границ рейха кайзера Вильгельма. Эта мысль нашла отражение в книге, написанной на рубеже столетий и названной «Почему победа досталась англосаксам?». Французы все еще страдали от поражения во Франко-прусской войне, к которому добавилось унижение, испытанное в 1898 году в Фашода. Если британцы побеждали, а французы позорно проигрывали, то это объяснялось только некоторым превосходством в англосаксонской образовательной системе. Французские образовательные методики необходимо было обновить за счет контакта с другой культурой, и Фрибур, расположенный в зоне влияния двух языков (немецкого и французского), казался идеальным местом для эксперимента.
Само лечение, как часто случается, имело мало общего с первоначальным диагнозом. Сельский стиль в архитектуре построек Вилла-Сен-Жан (красные крыши цвета герани, ржавчина от гвоздей на деревянных наличниках и балконах) – дань публичным школам, таким, как Регби Мэтью Арнольда. Такие же спальни первого этажа с фарфоровыми кувшинами и ваннами в отдельных, отгороженных деревянной сосновой перегородкой клетушках (сорок клетушек на сорок постояльцев, каждая с кроватью, крепящейся к стене, и прикроватным столиком с ночным горшком в нижнем ящике). Но в остальном школа больше отражала приветливую индивидуальность своего основателя. Он был аккуратным, невысоким человеком с короткой стрижкой и, несмотря на возраст, чисто выбритым подбородком. Очки в металлической оправе, с которыми он никогда не расставался, не могли скрыть добрый свет его голубых пытливых глаз, и даже если отец Киеффер становился жестким в обращении, он оставался все таким же дружелюбно настроенным педагогом. Он верил в необходимость максимального контакта между преподавателем и учениками, независимо от того, сидел ли он за «немецкими» или «английскими» столами в столовой (по-французски, как предполагалось, говорили лишь за десертом или на игровой площадке). И сам он не стеснялся взять в руки ракетку по воскресеньям, проворно прыгая по корту в своей сутане. Его кабинет был всегда открыт для любого из учеников, если у того появились проблемы или обиды, которыми надо бы поделиться. Также не существовало высоких оград или заборов, отделявших школу и парк от окружающего мира, и любой прогульщик мог скрыться там, если бы захотел. Идея, как бы парадоксально она ни звучала, состояла не в требовании беспрекословной дисциплины, а в том, чтобы заставить полюбить школу и безболезненно ее принять. Идея нашла отражение и в школьном девизе, который Киеффер много лет назад вычитал у шевалье Байарда: «Со всей душой». Девиз позже вызывал ироническое восхищение Сент-Экзюпери в противопоставлении с «Быть Человеком» – патетическим стоическим принципом, свойственным всем школам иезуитов, где ему довелось учиться.
Расположенные на залитых солнцем высотах Пероля, школьные строения вытянулись напротив старинного города Фрибур, с его старинными бюргерскими домами, приземистой соборной башней и фортами Вильгельма Теля, стоявшими на страже мостов по другую сторону речного водопада. На севере и востоке, когда небо было ясным, виднелись заснеженные пики Бернского Оберланда, мечтательно гревшиеся под ясным голубым небом. Лес был полон аромата сосен и вязов и чередовался с футбольными полями и площадками для игры в теннис. Любой желающий мог исследовать запутанные тропинки или крутые склоны, покрытые лесом, спускающиеся к ленивым зеленым водам Сарина, напоминавшим зимой замороженный пирог, покрытый достаточно толстым льдом, по которому можно было кататься на коньках.
Но все же Сент-Экзюпери так просто не сдавался. Переполненный болезненными воспоминаниями о Ле-Мансе и Монгре, он прибыл в Вилла-Сен-Жан в непокорном состоянии духа.
На старости лет Поль Мишод, учившийся с ним в одном классе, оставил для нас яркое описание своей первой встречи с Сент-Экзюпери, которое хотя, конечно, и содержит неточности, но заслуживает того, чтобы его процитировать.
«Это случилось между 9 и 10 часами вечера в начале января 1915 года, когда я оказался на платформе станции Фрибур. Я съел несколько бутербродов в поезде и чувствовал, как кусок застрял в горле, когда я присоединился к другим школьникам, собравшимся там до меня. Воспитатель повел нас пешком до школы.
Меня сразу же повели в большой спальный корпус, освещенный тусклым светом ночника, и показали клетушку из смоляных сосновых досок, которую я должен был занять. Это была моя первая ночь как пансионера, и я немного расстраивался. Я сразу же залез в кровать и уже задремал, когда я увидел темную фигуру у кабины по соседству.
– Ты новенький?
– Да.
– Откуда приехал?
– Из Шамбери.
– А раньше жил в пансионе?
– Нет, никогда.
– Нет ничего хуже! Это помойка. Здесь два ужастика – Череп и Омар. Они воспитатели. Ты увидишь, действительно мрачные и…
Прежде чем он закончил фразу, белый занавес в одном углу спальни отдернулся, и я услышал голос воспитателя:
– Сент-Экзюпери, вы будете завтра наказаны. Оставьте вашего соседа в покое.
Темная фигура исчезла в своей кабине, но минуту-другую спустя показалась снова.
– Ты видел? – прошептал мальчик, свешиваясь вниз. – Это был Череп – настоящая мертвая голова…»
Память устраивает странные шутки, и, когда доктор Поль Мишод описывал этот случай в апреле 1966 года, Сент-Экзюпери не было в живых уже более двадцати лет, а с того времени, как они некогда вместе учились в школе, прошло полвека. На самом деле Сент-Экзюпери не мог появиться на Вилла-Сен-Жан раньше ноября 1915 года, к тому времени Мишод пробыл там почти год. Таким образом, весьма вероятно, скорее это Мишод начал вводить в курс дела вновь прибывшего относительно Черепа и Омара, нежели наоборот. Правда это или нет, но Сент-Экзюпери частенько попадало, и он получал выговора за то, что нарушал ночной покой своих соседей или их якобы покой.
Настоящее имя Черепа, этого не склонного к юмору преподавателя математики, на голове которого едва ли оставались хотя бы одиноко торчащие волосинки, было Гийо. Одного ученика отчислили за высказывание, что у учителя череп иезуита, но прозвище закрепилось. Что касается Омара, то он отзывался на восхитительное имя Клод. Он преподавал английский язык, и его фанатичная англомания проявлялась даже в том, как он с английским акцентом говорил по-французски, предпочитал держаться строго и, как он считал, имел очень британские манеры: носил рыжую бороду и замечательные бакенбарды, торчащие строго горизонтально из-за его щек, подобно антеннам ракообразного.
Эти два блюстителя дисциплины, как оказалось, не были столь грозными, хотя, возможно, сначала Сент-Экзюпери и боялся их. По крайней мере, они оказались не опаснее, чем остальные преподаватели, начиная с аббата Гиллу, преподававшего философию в старших классах. Известный больше как Зизи из-за своей манеры произносить сочетание звуков «s's» как «z's», он пунцово краснел всякий раз, когда кто-либо из мальчиков задавал ему смущавший его вопрос. Или Папаша Симон – преподаватель рисования, который вполне удовлетворялся поверхностным взглядом на творения своих питомцев и носил прическу из всклокоченных волос на манер Джорджа Бернарда Шоу. Или Фриц, приветливый малый с копной густых волос и таких же густых усищ, подстриженных как у охотников, преподававший физику и химию и помогавший мальчикам собирать радиоприемники из наборов деталей. Был еще Валь, преподаватель немецкого и естествознания, широкоплечий австриец с козлиной бородкой в стиле Генриха IV. По слухам, он вступил в орден марианистов и помог отцу Киефферу в создании школы в 1903 году после несчастной любовной истории в Вене. Его прозвали Папа. Он очень нравился ученикам, которых он выводил на длинные прогулки и развлекал там многообразными познавательными рассказами о флоре и фауне, иногда продолжавшимися и за столом в местной таверне. Был среди преподавателей и не знавший усталости Франсуа-Ксавье Фридблатт, выходец из Эльзаса, на все руки мастер. Он успевал преподавать физику, неорганическую и органическую химию, а также астрономию, организовал и проводил занятия хора в часовне, самостоятельно тренировал более спортивных ребят в плавании, катании на коньках и санках, научил их играть в футбол, баскетбол, хоккей, теннис.
Сент-Экзюпери, больше любивший прогулки по лесу, оказался безразличен к большинству этих спортивных состязаний, да и к занятиям он относился без особого энтузиазма.
Он вырос необычно высоким и широкоплечим мальчиком, но этот неожиданный рывок в росте и физическом развитии только усугублял ощущение неуклюжести, от которого он страдал еще в Ле-Мансе. Те, кто учился с ним в школе, часто пользовались случаем, чтобы посмеяться над его неспособностью заменить соскочившую цепь велосипеда или отремонтировать проколотую шину. А однажды он потерял равновесие так неловко, что при падении ручка тормоза проделала глубокий порез на его правой щеке, оставив крошечный шрам, который не рассосался до конца жизни.
Среди тех, с кем молодой Антуан быстро подружился на Вилла-Сен-Жан, был мальчик по имени Шарль Салль, приехавший тоже из Лиона. Бабушка и дедушка Салля, по любопытному совпадению, имели дом в Шатильон-ла-Палю, расположенном на той горной гряде, пересекающей долину, которой графиня де Трико могла восхищаться, сидя на веранде и распивая чаи в Сен-Морисе.
Салля даже когда-то отправляли, подобно Антуану, изучать в частном порядке латынь к тому же самому викарию в Бублоне (по соседству с Шатильоном), имевшему обыкновение баловать своих летних учеников грушами в своем саду. И все же эти двое впервые встретились, лишь когда Сент-Экзюпери пришел в столовую в Вилла-Сен-Жан и сел рядом Шарлем.
В отличие от своего нового приятеля, Салль был хорошим учеником, он упорно занимался, и его успехи регулярно отмечались в «Золотой книге», куда записывали имена лучших учеников Сен-Жан. Он не смог припомнить, чтобы хоть раз его поразили академические достижения Антуана, хотя бы во французском языке, в котором он позже так преуспел. Школьные архивы свидетельствуют о том же, по крайней мере отчасти. Ибо в первый год обучения в Вилла-Сен-Жан Антуану все же удалось стать вторым (из 25 учеников) по сочинению на французском языке и пятым – по латыни, а в выпускном году он был вторым (из 10 учеников) по физике и химии и третьим по философии. Но эти благостные успехи, единственные, на которые он оказался способен, фактически сводились к нулю его посредственными результатами по другим предметам.
В Вилла-Сен-Жан учащимся, завершившим первый класс с хорошими результатами в учебе, предоставляли желанную привилегию переезда из спальни в «La Sapinière» (буквально «сосновник» по названию материала, из которого был построен дом для двух последних классов) на второй этаж, где они могли наслаждаться индивидуальными комнатами по соседству с некоторыми преподавателями. Если результаты в учебе или поведение после переезда ухудшались, ученикам приходилось возвращаться в общую спальню. Процесс насильственного лишения привилегий был известен среди мальчиков как «выпадание из салона». Поскольку Сент-Экзюпери, как нам кажется, не совершал большого количества подобных спусков, то лишь по той простой причине, что он редко попадал в «салон». Чаще всего он находился ближе к самому концу списка своих одноклассников по успеваемости (два последних класса) по результатам классных работ: 38-й из 39 в ноябре 1915 года, 40-й из 40 в марте 1916-го, 38-й из 38 в июне того же года. Эти далекие от блеска результаты очевидны и на втором году его обучения, поскольку школьные книги упоминают его в общем списке, как 48-го из 48 в ноябре 1916 года и 37-го из 40 в мае 1917-го. Но именно в тот год – известный как год философии – он поселился наконец в отдельной комнате – такая привилегия автоматически предоставлялась ученикам последнего года обучения.
Поведение в учебных классах сильно влияло на результаты ежемесячных аттестаций. Школьные записи свидетельствуют, что Антуан отличался недостатком внимания, определявшим предельно низкую оценку 50 (поскольку отметка 70 или 75 давалась за образцовое усердие). Его упрямое нежелание говорить по-немецки за столом регулярно оценивалось как «неудовлетворительно». Его неоднократно призывали к порядку: Антуан разбрасывал хлебные крошки и дерзил по-французски. Даже 9-е место (из 20), которое он занимал в течение 1915 – 1916 годов по сочинению на французском языке, он поделил с шестью другими учениками. Да и в любом случае это не было особо выдающимся результатом.
Удивительным на фоне его дальнейшей судьбы, когда ему приходилось ориентироваться и лететь над огромными территориями земного шара, кажутся его 4 балла по географии – самая низкая отметка среди всех изучавших этот предмет.
В 1916 – 1917 годах его успеваемость определялась 11-м местом (из 20) и была средней по классу по физике и химии, средней по философии и ниже средней по религиозным наукам. Но его 7-е место по естествознанию и истории и его 6-е место по географии снова оказались самыми низкими результатами в классе.
Очевидно, что большую часть времени во Фрибуре его мысли блуждали где-то вдали. В частности, мы можем судить об этом по тексту захватывающего душу письма, отправленного им Анне-Мари Понсе во втором семестре. С ним он прислал первые строфы либретто для оперетты под названием «Зонтик», на которые, как он нежно надеялся, его старая учительница музыки сочинит мелодию. Сюжет был по-детски прост: герой, молодой человек, входит в кафе и видит изящный зонтик в гардеробе. Он предполагает, что зонтик принадлежит молодой девушке, которую представляет себе не только красивой, но и тоненькой, как тростинка, робкой, ласковой и нежной. Он садится за столик около гардероба, чтобы не пропустить ее лучистое появление, и половина Парижа, начиная с удалого полковника и кончая стайкой молодых парижских швей, проходят мимо него… Но, наконец, о, ужас ужасов! Появляется бабища с волосатой губой и в тошнотворной зеленой шляпе, хватает зонтик и выходит с ним на залитую дождем улицу.
Сюжет, должно быть, показался автору несколько легкомысленным и слабым, поэтому, когда поднимается занавес, то не мечтательный молодой человек, а хор «августейших» пьяниц заполняет плетеные стулья бульварного кафе.
А мы все жрем этот мир —
Серьезно, важно жуем.
Глаза наши цвета дыр.
Мы солнце, как пойло, пьем.
Прикинемся-ка давай
Героями: пусть нам несут
Бутылку, стакан, каравай —
Не завтра наш Страшный суд!
Возможно, что от его работы души веет некоторым атавизмом. Веселая ассоциация солнца, выходящего из подвала, возвращает нас к винным бочкам «Малескот Сент-Экзюпери» в подвалах его дедушки Сент-Экзюпери и страховой деятельности его дедушки в «Компани дю Солей». Но очевидно, Антуан читал слишком много Ростана, и эта первая неистовая строфа была все еще длинным щелчком кнута Сирано под хвостами мужей-рогоносцев.
Это младшие братья Гаскони —
Карбона, Кастель-Жалу —
Бесстыдники и драчуны,
Забияки, каких поискать…
Но возвратимся к «Зонтику»…
Официант, вызванный принять заказы от пьяниц, немного испуган, когда они все заговорили одновременно. Между тем слышится их речитатив:
Мы курим блаженно,
Созерцая прелестных дам мимохожих,
Мы жуем нашу мирную пищу,
Радость мирскую ценя,
Мы ждем без досады —
Законопослушные граждане —
Официантов, что должны обслужить нас,
Соблаговолив…
Остальное неразборчиво. «Эти страницы завершают первую часть, – информирует либреттист будущего композитора. – Мы достигли места, где как раз предполагается появление Аглаи и полковника. Напишите мне, если необходимо, чтобы я размножил текст без изменений, или я сделаю это в начале каникул. Я приеду в Вербное воскресенье». Антуан продолжает и спрашивает, понравилось ли ей вступление, сочинила ли музыку, смогла ли разобрать его почерк и «где, когда и как это будет поставлено?». Композитор, увы, не написала и такта. Но шальные эти вирши позабавили ее так сильно, что она хранила это неудавшееся либретто даже после смерти их автора.
Полдюжины поэм Сент-Экзюпери, оставшиеся нам с той поры – в значительной степени благодаря доктору Полю Мишоду, – свидетельствуют об огромном воздействии на юное воображение трагедии войны 1914 – 1918 годов. Благоприятное преимущество по сравнению со строжайшими правилами в колледже Сен-Круа в Ле-Мансе, запрещавшими чтение газет, – разрешение учащимся в Сен-Жан читать газеты. Ежедневные коммюнике с фронта даже наклеивались на доску объявлений в комнате для игр «сосновника». На вести с фронта реагировали страстно и тревожно, и едва ли хоть один месяц не приносил горестную новость о гибели в бою очередного выпускника. Настроения в школе царили решительно профранцузские. Всякий раз, когда состав интернированных проходил через Фрибур, мальчики, сгрудившись, приветствовали солдат-фронтовиков и офицеров, которые пересекли швейцарскую границу, или бежавших из какого-нибудь немецкого лагеря для военнопленных. Генералу По, когда он проезжал через город, оказали просто безумный прием. Военный героизм был темой дня, и в одной из поэм Антуана под названием «Горечь» нашло отражение чувство юношеского разочарования от необходимости пересидеть на тихой школьной скамье эпоху борьбы, а не находиться в гуще битвы.
Он суров, хоть молод еще —
О, какие его года!
Он шепнул ей: «Люблю горячо!» —
Так, как шепчут все и всегда…
Рабской жизни крикну я: «Нет!»
Против пошлости я восстаю!
Грому пушек я дал обет —
Я романсы мещан не пою!
Эти стихи, написанные еще до его шестнадцатилетия, – первое, еще не очень твердое утверждение идеала спартанца, декларации сущности человеческого бытия, в противовес Сирано, которое позже он подробно развил в своих книгах. Но этот мальчик, рожденный поэтом до мозга костей, был в то же самое время слишком чувствителен к красоте и к тем сокровищам красоты, которые спасают цивилизацию от ужасов и потрясения отвратительной резни. В поэме под названием «Разочарование» двадцатилетний французский часовой, пристально вглядываясь в ночь, стоит, подсвеченный вспышками пулемета, сменяющимися темнотой. Так и с мечтами человека:
И слушает солдат смятенный сердца стук:
Летят мечты, как птицы, – завтра канут в бездну,
Погрузятся во мрак, пустой и бесполезный…
Другая поэма, «Военная весна», где описывается битва на реке Изер, заканчивается следующими словами: «О, почему мы должны погибать в цветах?», эхом глубоких переживаний Рупера Брука: «…На полях Фландрии, где растут маки». И в еще одной поэме с названием «Золотое солнце» красный цвет кровавого заката связан с идеей о мире, который гибнет:
Ты каждый день распахиваешь времени врата,
Светило золотое! Чья рука швыряет
Тебя в зенит, слепящий диск, Акрополь озаряя,
Чтоб ощутили люди: се есть красота…
……………………………………………
О, как мир близок, бедный, к гибели своей.
Интонация этих строк отражает влияние Бодлера. «Дамский поэт» (как он сам себя называл при жизни), естественно, не фигурировал в учебных планах по литературе Вилла-Сен-Жан. Но тайные списки его поэтических произведений передавались из рук в руки, и его стихи даже открыто обсуждались на внеклассных занятиях с отцом Гоерунгом, либерально настроенным молодым священником, преподававшим французскую литературу в старших классах.
Первой книгой, действительно увлекшей молодого Антуана, стали сказки Ганса Христиана Андерсена. Позже он открыл для себя Жюля Верна. И спустя годы он признался в интервью «Харпер Базар»: «Я никогда не испытывал тяготения к чистой беллетристике и читал сравнительно немного таких произведений. Первые романы, которые привлекли меня, вышли из-под пера Бальзака, особенно понравился «Отец Горио». В пятнадцать я познакомился с творчеством Достоевского, это стало огромным открытием для меня. Я сразу почувствовал, что столкнулся с кое-чем громадным, и продолжал читать все, что он написал, одну книгу за другой, как я поступил и с Бальзаком. Мне было шестнадцать, когда я впервые открыл для себя ряд поэтов. Конечно, я был убежден, что и сам был поэтом, и в течение двух лет писал стихи, как безумный, подобно остальным юнцам. Я поклонялся Бодлеру и должен стыдливо сознаться, что я знал наизусть всю «Графиню де Лисль» и «Эредии», а также Малларме. Но даже теперь я не отказался бы от прошлого».
Спустя годы после того, как он покинул Сен-Жан, он мог все еще заставить застолье или салон хохотать до упаду, пересказывая Виктора Гюго или Малларме на скрежещущем металлом акценте фрибуржцев. Но постепенно его собственная поэтическая страсть иссякла. Однажды вечером в Сен-Морисе после того, как он прочитал несколько своих поэм подруге матери, она спокойно заметила: «Вы их хорошо декламируете. Но мне следует их прочитать самой». Антуан был повержен. Позже, когда другой друг семьи, доктор Гение, отругал его за жертвование точным значением слов в угоду рифме, он понял, что они правы, и распрощался с поэзией. Хотя природный дар оказался слишком сильным, чтобы так просто отступить. В итоге его проза, когда наконец она вырвалась наружу, пылала поэтическим свечением.
* * *
Последние месяцы пребывания Сент-Экзюпери во Фрибуре омрачены усиливавшейся болезнью брата Франсуа, страдающего ревмокардитом. Его отвезли на родину в Сен-Морис-де-Реманс, где в июле 1917 года он скончался. Чувствуя приближение конца, он позвал Антуана к своей кровати и, зардевшись юным румянцем, пояснил:
– Я бы… хотел составить завещание.
Завещание? Мальчик, которому едва исполнилось четырнадцать лет? Но он вложил столько серьезности и такой мужской гордости в свою последнюю волю, что годы спустя его старший брат не мог вспоминать об этом без слез. «Если бы он был отцом семейства, он передал бы мне на выучку своих сыновей. Если бы он стал военным летчиком, он бы оставил все книги по пилотированию мне для сохранности. Но он был ребенком. Все, чем он мог распорядиться, – пароход, велосипед и пневматическое ружье».
Франсуа был похоронен на небольшом кладбище Сен-Морис-де-Реманс, в усыпальнице, выстроенной над могилой графа Леопольда де Трико, и где всего три года спустя предстояло найти вечный покой Габриэлле де Трико.
Для смены обстановки Антуана и его сестер отослали тем августом в Карнак, на южное побережье Бретани, где сестра их отца Амиси имела виллу. Ее муж, майор Сидней Черчилль, несмотря на свою английскую фамилию и воинское звание, был по духу больше французом, чем британцем. Живое воплощение дружественного союза между государствами (которое он так приветствовал), он происходил от английского дедушки, захваченного в плен во время наполеоновских войн и закончившего войну женитьбой на француженке. Рожденный во Франции и воспитанный иезуитами в Париже, Сидней Черчилль был на три четверти французом и, несомненно, предпочел бы сделать карьеру на своей родине по материнской линии, не откажи ему военная академия Сен-Сир в приеме по причине слабого зрения. Британцы, не столь щепетильные в этом вопросе, приняли его в Сандхерст, после окончания которого он принимал участие в боевых действиях в Бирме, Южной Африке (войне с бурами) и, наконец, на Западном фронте. Его жизнь – пример активной жизни, полной приключений, о которой всегда мечтал молодой Антуан. Правда, в глубине души его собственные помыслы тянули его к морю больше, чем на сушу. Его героем в то время был капитан Немо, и, подобно создателю этого образа, Жюлю Верну, он превыше всего страстно желал путешествовать и посмотреть мир. Август выдался солнечным, и Антуан, редко занимавшийся спортом, полюбил плавать в Атлантике. Но к его крайнему неудовольствию, тетя, страшась еще одной трагедии в семье (после смерти Франсуа), не позволяла ему выходить с рыбаками на лодках под парусом.
Морская соль еще не сошла с его губ, когда он отправился в Париж осенью того же года для возобновления занятий. Грязь и вонь траншей отбила охоту к соблазнам военной профессии, и ему хотелось стать моряком. Во Фрибуре он изучал классические науки: греческий язык, латынь и философию – и достаточно преуспел в этих предметах, чтобы сдать бакалаврские экзамены. Действительно, когда Поль Крессель, приехав домой в отпуск, предоставленный ему на фронте, познакомился с Антуаном в Лионе, то был поражен молодым человеком, с одинаковой заинтересованностью обсуждавшим Канта, Бергсона и Фому Аквинского и расспрашивающим бывшего драгуна о новом военно-воздушном роде войск, куда тот только что перевелся. Эти два года в Вилла-Сен-Жан, возможно, не сделали из него ученого, но они, по крайней мере, пробудили в нем интерес к философии, с годами усиливающийся. Но сиюминутные желания Антуана оказывали на него сильное воздействие, и ни схоластика великих доминиканцев, ни глубокие думы мудрецов из Кенигсберга не могли помочь в его новом выборе, который он для себя сделал. Чтобы поступить в военно-морской колледж в Бресте, ему было необходимо изучить высшую математику – гипофлотскую (элементарный курс) и флотскую (продвинутый курс), как этот двухлетний курс именовался на школьном жаргоне. Он соответственно регистрируется как вольнослушатель лицея Сен-Луи, расположенного на бульваре Сен-Мишель, через дорогу от Сорбонны. И скоро его преподавателем в счислениях и логарифмах становится великолепный знаток своего дела по фамилии Паже, более известный своим ученикам как Кью-кью Прим.
Если судить по письмам, которые он писал матери в Амберье и своему другу Шарлю Саллю, к тому времени призванному во французскую армию, занятия строились интенсивно, приблизительно по десять часов математики в день. Новая среда обитания Антуана была далека от насыщенных воздухом просторов Вилла-Сен-Жан, и он с трудом привыкал к тесному четырехугольнику, куда их выпускали на переменах. Со свойственным ему преувеличением он описывал их Саллю, размером «десять на десять метров». В действительности на территории колледжа росло восемь платанов, хотя участок не мог превышать пятидесяти ярдов в ширину и в длину. Даже если допустить, что не все 1800 учащихся заполняли этот пятачок (другое преувеличение Сент-Экзюпери), то он все-таки не то место, где легко наслаждаться такой роскошью, как футбол или теннис. «Но, – утешал он себя, – мы можем оттачивать свое остроумие друг на друге, повторяя каждые десять секунд: «Эй, ты, болван, разве не видишь, что это мои ноги?» Мы можем также швырять водяные бомбы из окон или совершать набеги на классные комнаты кандидатов в политехническую школу (политехов) или минеров (основной контингент) и приводить в полный беспорядок все их вещи в тайной надежде обнаружить по возвращении, что они сделали то же самое с нашими вещами. На войне, в конце концов, как на войне».








