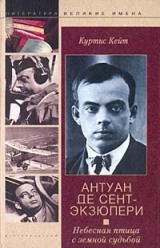
Текст книги "Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой"
Автор книги: Куртис Кейт
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Все воскресенье и большая часть следующей ночи ушли на то, чтобы взобраться на край кратера озера Лагуна-Диаманте, расположенный на высоте в двенадцать тысяч футов. После мучительного подъема по склону горы Гийоме оказался лицом к лицу с непроходимой пропастью, и ему пришлось отступить. Его ноги начали раздуваться, и он был вынужден расшнуровать свои разодранные летные ботинки. Он провел вторую ночь, прокладывая путь на другой склон горы при свете луны. Чтобы согреть свои замерзшие ноги, он выбрал убежище в ущелье, снял ботинки и разогрел пальцы ног шерстяным шарфом. Вымотанный настолько, что не было сил продолжать путь, Анри садился на свой мешок и так сидел несколько минут, слушая беспорядочное сердцебиение, затем вставал и начинал все сначала. Главное – не останавливаться, идти, периодически отдыхая… но недолго. Он недавно прочел книгу об Аляске, Луи-Фредерик Рукетт объяснял, что необходимо все время идти, как угодно, но идти, иначе холод сковывает человека незаметно и мягко. И в следующий миг он замерзает. Окончательно.
На третий день Гийоме пришлось спуститься в русло реки и пробираться через поток ледяной воды, доходящей до колен, затем продолжать путь ночью при свете фонарика, пока луна не поднялась над замороженным пиками. Двадцать четыре часа неимоверных усилий позволили ему преодолеть ровным счетом две с половиной мили! Замучившись под весом полетного комбинезона, он, в конце концов, сбросил его.
На следующий день (в среду) он поскользнулся, скатился со склона ущелья и был остановлен в своем падении только какой-то большой скалой. Вся правая сторона тела представляла собой сплошной синяк, и от удара он не смог удержать в руке ни фонарь, ни мешок. Они проскользнули вниз по склону и скрылись из виду. Вот тут-то Анри почувствовал, что игра проиграна. Зачем продолжать бороться? Он конченый человек. Без еды, без фонаря он не сумеет прожить еще одну ночь. А как покойно остаться лежать здесь, умиротворенно, безмятежно, и не нужно напрягать измученные мускулы в еще одном ужасном усилии. Даже незаметно подкрадывающийся холод, сковывающий его члены, теперь казался блаженством… И тут он подумал о своей жене Ноэль… о друзьях. Если бы они узнали, как Анри отказался от борьбы… И перед глазами, словно видение из прошлого, внезапно охватывающее сознание тонущего человека, появились строчки из его страхового договора, где говорилось, что смерть «юридически» не может быть признана, если нельзя найти тело: в этом случае его вдове придется ждать четыре года, прежде чем она сможет предъявить свои претензии. Над ним возвышался скалистый выступ. Если бы только он сумел достичь его, то оказался бы в безопасности, защищенный от лавин тающего снега, которые с приходом весны, скорее всего, опрокинут его с этой остановившей его падение скалы в пропасть.
Снова поднявшись на ноги, Гийоме решил продолжать идти… на выступ и дальше. До полного изнеможения. Он мог только хромать: сильно вывихнул одну из лодыжек, а ступни раздулись настолько, что ему с трудом удалось разрезать ботинки перочинным ножом. Но продолжал бороться, карабкаясь по камням, как медведь. Когда он переходил другой водный поток, его чуть не смыло.
Четверг. Никакой пищи. Лишь вода, которую Анри умудрился зачерпнуть из горного потока, по чьему стремительному руслу теперь прокладывал курс следования. Его угнетало ощущение огромной усталости, все большей слабости. Он заставил себя съесть зеленые былинки, пытаясь таким образом поддержать силы. Трава? Выходит, снега кончались? Или нет? Его шатало, он ничего не видел, кроме огромного пятна, застилавшего все вокруг. Где он? Но нет, там, наверху, светило солнце, освещавшее чудную зелень, а не этот невыносимый ослепительно белый цвет. Зеленая долина, с заплатками нерастаявшего льда. Гийоме натолкнулся на следы мула, и это долгожданное зрелище восстановило почти исчезающий пульс. Убежище? Хижина в горах? Ранчо? Гийоме не мог различить, все вокруг крутилось и крутилось. Какая-то женщина, индианка, поддерживающая его за подбородок и с силой пытающаяся влить горячее питье между его растрескавшихся губ. Сначала она испугалась при виде этого седого, с дикими глазами существа, спускавшегося по долине, шатаясь, навстречу ей, и, приняв его за разбойника с гор, вскочила на осла и поспешила ускакать прочь. Но что-то в слабом жесте этого существа и в странном его одеянии поразило ее маленького сына, остановившего ее. На все пограничные посты дошли новости о пропавшем в горах авиаторе, и тому, кто найдет его, обещали существенную награду. «Авиатор! Авиатор!» – кричал маленький мальчик и тянул мать за рукав. Когда она, наконец, оглянулась назад, отвратительный снежный человек споткнулся и упал. Кожаный шлем на голове объяснил – это вовсе не бандит, но, когда незнакомец открыл рот, чтобы заговорить, раздался только какой-то скрежет.
* * *
В Мендосе измученного Гийоме положили на кровать, а Сент-Экзюпери поспешил телефонировать его жене Ноэль в Буэнос-Айрес, что муж найден. Она собиралась вылететь в Мендосу, чтобы присоединиться к ним, но в последнюю минуту поездка отменилась: именно в их скромной квартирке в Серрито состоялась радостная встреча супругов. Сент-Экс пребывал в таком возвышенном настроении, что в конце обеда улегся на кушетке, и песня полилась сама собой:
Девицы Камаре, вы вовсе не девицы!
Я знаю – вам бы лишь со мной в постель свалиться
И славный уд держать, как яркую свечу, —
Да сам я этого хочу! О, как хочу!
Он очень любил эту разгульную песню бретонских рыбаков. Осмелевший от мелодичного напева Лупинг, фокстерьер Гийоме, прыгал по груди Сент-Экса, ко всеобщему удовольствию. Антуан посмотрел на него, улыбнулся, приласкав пса, а затем откинул назад голову.
Ах, господин мэр Камаре купил осла однажды…
И дальше попеременно раздавались то смех, то пение, пока Ноэль Гийоме не встала, заинтересовавшись, почему это Лупинг вдруг так затих. Пока его любезный массажер выкрикивал свои мелодичные ругательства, терьер решил подкрепиться и уже прожевал несколько дюймов рукава певца, прежде чем хозяйка не положила конец банкету. Потрясенный этим портновским бедствием, Сент-Экс прервал пение на полуслове и в гневе вышел.
Но он сердился недолго. Антуан с удовольствием пожертвовал бы всеми своими костюмами и рубашками, лишь бы вернуть друга из ледовой могилы.
«ГИЙОМЕ СПАСЕН!» – выкрикивали заголовки газет, словно объявляя о событии международной важности.
Про Мермоза не забыли, но новый французский герой появился и получил свою долю известности. Его улыбающееся лицо школьника не украсило пепельниц или зажигалок, но скоро у ночных походных костров гаучо в Чили исполняли на своих гитарах новую балладу в веселом ритме вальса:
Ты к вящей чести и славе
Гордился, что Франции сын.
Мир рукоплескал по праву
Тебе, Пилот Номер Один.
И смерть настигла однажды
Тебя; обратила в прах.
Но жизнь – это вечная жажда,
Француз, и на небесах. [8]8
Ты доказал свою великолепную храбростьИ то, что ты отважный сын Франции.И мир теперь уважительно приветствует тебя:«Гийоме, какой же ты пилот!»И, смерти противопоставив холодное плечо,Боролся и с толстым снегом, и тонким льдом,Так как, пока бьется сердце в теле его,Француз никогда не сдается.
[Закрыть]
Глава 11
Моя колдунья
Сент-Экзюпери понадобилось некоторое время, чтобы свыкнуться с новой средой своего обитания. Позже он смог написать Луро Камбасересу, что пятнадцать месяцев, проведенных им в Южной Америке, – одни из самых счастливых в его жизни, хотя вначале не испытывал ничего подобного. В Кап-Джуби от пустыни его отделяла только колючая проволока и угрюмое разноцветье мавританских палаток. Между ним и Аргентиной стоял Буэнос-Айрес, который он невзлюбил всем сердцем почти так же, как Дакар или Касабланку. Антуан поселился в меблированной квартире, в самом высоком по тем временам доме во всем городе, своего рода настоящем бетонном орлином гнезде, но это не могло удовлетворить такую ночную птицу, как он. Как гнездо, оно располагалось высоко, но недостаточно высоко: занимало восьмой этаж дома, но над ним было еще семь этажей – «и огромный каменный город вокруг», как написал Сент-Экс Рене де Соссин. «Я получил бы то же самое впечатление легкости в середине Большой Пирамиды, такое впечатление – от прекрасных прогулок. К сожалению, здесь еще есть аргентинцы». Он делал скидку на своих товарищей-пилотов, с которыми был связан узами профессионального товарищества, остальных аргентинцев считал расфуфыренными, мелочными и необузданными, в отличие от гордых, скрытных и отчужденных марокканцев. Антуан находил изъяны даже в окружавшей его природе, и в письме матери отговаривал ее от поездки в Аргентину (совет, который она проигнорировала), ссылаясь на отсутствие подходящей натуры для ее зарисовок. «Вне растянутых до предела границ города есть лишь квадратные, лишенные леса поля, с лачугой и железным водяным колесом посредине. Это – все, что можно разглядеть с борта самолета на сотни и сотни километров».
Сент-Экзюпери не изменился: он тосковал по дому, по своей стране, по своей семье, по своим друзьям. Ранимый, как всегда, страдающий так называемым комплексом Орфея (неспособность противиться желанию кинуть при расставании последний взгляд на любимую), он теперь оглядывался назад на свое прошлое с тем же самым чувством невосполнимой потери и ностальгии, которая начнет его мучить после того, как он уедет из страны, заставляя сожалеть о «его Аргентине». Существовал на земле рай, рай его прошедшей юности, так часто всплывающий в его письмах к матери, и потерянный рай «его» пустыни Сахара. Даже Париж, где Антуан так часто чувствовал себя посторонним в месяцы юношеских разочарований, теперь казался позолоченным. Позабыты были и невыносимая скука бухгалтерии фабрики по производству плитки, и отчаяние, охватывающее его после неудачных попыток пробудить провинциальный энтузиазм достоинствами грузовиков «сорер». Неожиданного письма от Рене де Соссин, полученного им в январе 1930 года, было достаточно, чтобы дать волю «вторжению тысячи восхитительных и забытых вещей. Бокалов порто, граммофона, вечерних бесед после наших походов в кино. Официант из ресторана «Липп», Сегонь и очаровательная нищета, о которой я сожалею, потому что дни для меня были окрашены в различные цвета, изменяющиеся от начала к концу месяца. Каждый месяц означал красивое приключение – и мир был великолепен, поскольку я, неспособный иметь что-нибудь, желал всего… Но теперь, когда я оплатил покупку красивого кожаного чемодана, о котором столько мечтал, и эта мягкая фетровая шляпа, и этот хронометр с тремя стрелками… Мне не о чем больше мечтать».
Как обычно, Сент-Экс преувеличивал. Его материальное положение кардинально изменилось к лучшему. Как руководитель полетов «Аэропосталь Аргентина», он получал ежемесячное жалованье в 25 тысяч франков (больше тысячи долларов), и это позволило ему, наконец, периодически отсылать определенную сумму матери, у которой он в прошлом так свободно заимствовал деньги. Но если его «конец месяца» со спартанской диетой из круассанов и кофе теперь не становился таким отчаянным, как когда-то, начало и середина каждого месяца, как всегда, оставались столь же расточительными. Мысль об экономии на черный день была для Антуана совершенно неприемлема; этот человек, как когда-то отмечал Дора, «страдал укоренившимся презрением к деньгам и одинаково отчаянной в них потребностью». Это презрение, если не прямо атавистическое или аристократическое по своему происхождению, уходит корнями в те времена, когда его семья испытывала относительную нужду в Ле-Мансе, и ему приходилось каждое утро добираться до школы пешком, а какой-нибудь его одноклассник, как Роже де Леж, состояние семьи которого (об этом только шептались) перевалило за сто миллионов золотых франков (сумма колоссальная по тем временам), мог подъехать к дверям в роскошном лимузине с чернокожим водителем. Подсознательно, несмотря на наши лучшие намерения, нас точит ужасная зависть, и, как показывает современный психоанализ, комплексы, первоначально сформированные в юные годы, пускай даже подавленные, могут скрыто влиять еще долго и во взрослой жизни. Относительная бедность, характерная для Сент-Экзюпери в течение многих лет, могла легко превратить его в жертву необходимости. Это, вероятно, объясняет снисходительную фразу в «Южном почтовом»: «Деньги – то, что каждому позволяет при покупке товаров испытывать внешнее волнение» – декларация, которая была для него вовсе не литературным позерством.
Парадоксальный, как могло бы показаться, недуг, вызванный внезапным заполнением бумажника, проявлялся почти столь же тяжелыми последствиями, как тот, который он испытывал, когда его бумажник пустел. Жажда «сжечь» их быстро и ярко действительно походила на почти метафизическую потребность. В Париже она принимала форму опрометчивых приглашений на ленч с икрой и шампанским у Прунье; в Буэнос-Айресе диета оставалась прежней, но поскольку средств хватало на существенно большее, «внешнее волнение», вызванное ежемесячным потоком наличных, окутывало тех дам, которых Антуан часто посещал. Несколькими годами раньше, в Тулузе, он как-то по возвращении домой увидел: его тогдашняя временная подруга спокойно сидит в кресле и штопает его носки. Это зрелище оказалось для него ужасающим, чересчур буржуазным, и он поспешно отправил ее паковать вещи. Бедность была тем состоянием, которое он предпочитал переносить в одиночестве, и часто сетовал своим знакомым на нежелание держать при себе Золушку, пачкающую руки в ящике для угля. Для его друзей – лучшее шампанское и отборная икра, для тех, за кем он, случалось, ухаживал, – самые роскошные букеты… и даже больше… Каким бы скромным ни было их происхождение, Сент-Экс желал видеть их одетыми, как королевы.
«В нем было много от гран-сеньора, – вспоминает его друг, также живший тогда в Буэнос-Айресе. – Я помню, как однажды ночью мы отправились в ресторан ночного клуба под названием «Эрменонвиль». Среди танцовщиц оказалась поразительно красивая девушка: высокая, белокурая и красиво одетая. Она оказалась француженкой, работающей в качестве танцовщицы, приглашающей на танец посетителей. Сент-Экс, мало интересовавшийся танцами, наблюдал за ней, и, только когда мы встали, чтобы уйти, разгадав его желание остаться и поговорить с нею, мы внезапно поняли, почему эта девушка была так красиво одета».
Эти случайные завоевания, как правило, белокурые и высокие (что вполне естественно для такого жгучего брюнета), неизменно говорили по-французски, поскольку ему было лень изучать испанский. Симпатичная французская журналистка, без памяти влюбленная в него; жена бельгийского бизнесмена, смутившая Сент-Экзюпери. Как-то вечером, подойдя к нему на балу, она объявила возбужденным голосом: «Вы разбили мое сердце! Вы мужчина моей жизни!»
К счастью, среди французской колонии в Буэнос-Айресе он нашел для себя «восхитительных» друзей, и так совпало, друзей Вильморинов. Антуана представил им один из братьев Луизы, находившийся в то время в Южной Америке. «Я конечно же найду тех, – написал Сент-Экс матери, – кто любит музыку и книги и кто примирит меня с пустыней Сахара. И с Буэнос-Айресом, этой разновидностью пустыни». Прошли месяцы, и его ожидания полностью оправдали себя – в этой пустыне, пустыне Аргентины, расцвели две розы.
* * *
Антуан наткнулся на первую самым невероятным образом. В распоряжении «Аэропосталь Аргентина» находилось пятнадцать аэродромов, чью деятельность он контролировал. Но в его задачу входила и разработка перспективных летных полос. Однажды он вместе с аргентинским механиком отправился из Буэнос-Айреса в Конкордиа, приблизительно на 180 миль на север по воздушному маршруту в Асунсьон. Он приземлился недалеко от города на ровной площадке, словно созданной специально для аварийных приземлений. Но, как иногда случается, неудача подстерегала в виде небольшой ямки по центру поля, скрытой пучками травы, и именно в нее, безошибочно, как бильярдный шар, самолет и закатился, сломав одно из колес. Они выбрались из кабины и принялись исследовать повреждение, когда к ним подъехали верхом две девушки. Последовал краткий обмен приветствиями по-испански, и затем, без предупреждения, они обратились к пилоту по-французски. Сент-Экзюпери удивился… и восхитился. Нет, они не француженки, а аргентинки, это их дедушка приехал из Эльзаса.
– И что вы делаете здесь – в самом сердце Южной Америки?
– Мы живем здесь.
Они махнули куда-то за покрытую травой прерию в сторону ближайшего холма.
– А вы? – Девушки засмеялись.
– Я – летчик. Мы искали летное поле, и вот – результат.
Они печально посмотрели на наклонившийся самолет.
– Мы сообщим папе, – сказала одна из них. – Он приедет за вами на автомобиле.
И незнакомки ускакали.
Их отца звали Фуш, и в память о своих эльзасских корнях обе его дочери, как и сын, с детства знали французский язык. Он подъехал на полуразвалившемся стареньком «форде», пробираясь сквозь колышущиеся травы, а когда машина перевалила через холм, показался необычайно причудливый особняк, со всех сторон опоясанный каменными балюстрадами и террасами, бронзовеющими на солнце, с янтарно-желтым оттенком. Этот замок воздвиг на покрытом травой холме некий ностальгически настроенный поселенец, чья голова была полна мечтами. Все здесь пришло в упадок, в лучшей традиции идальго, и город Конкордиа со временем унаследовал особняк после разорения донкихотского создателя. Недоумевая, как же поступить с этим величественным бременем, отцы города с удовольствием сдали его в аренду папаше Фушу в надежде, что он сумеет сохранить дом от полного разрушения. Новый владелец старался изо всех сил, но преуспел лишь в оттягивании процесса разрушения: не исчезли древние трещины в стенах и столь же почтенные щели между полированными половицами, резьба по дереву рушилась, косяки дверей рассыпались, стулья шатались, но все сияло, как если бы было покрыто воском. Для Сент-Экзюпери, имевшего богемную душу, эта чуткая забота и этот почтенный распад только добавили сказочного очарования. Какая успокоительная передышка после продуваемой всеми ветрами пустынной Патагонии! И этот незабываемый вид с террасы на колышущиеся поля и зеленое серебро олив ближе к искрящейся синеве вод реки Парагвай! И библиотека с ее таинственной сокровищницей французских книг!
Сент-Экзюпери прилетел снова, и вскоре его воспринимали здесь как члена семьи. Мать обожала его, как и дочери, которых он шутя называл своими принцессами. «Будьте осторожны, – предупреждал он их между карточными трюками, – а то однажды появится какой-нибудь отвратительный карлик, заберет вас в плен и женится на вас». Обе девушки кивали с серьезными улыбками, заверяя его, что будут осторожны. И они были осторожны и все еще свободны… И не замужем, околдованные фразой, имевшей силу заклинания. Сегодня кастильо Сан-Карлос, опустошенный несколько лет назад, протягивает свои лишенные крыши руки к луне. Но память об этом «оазисе», и его двух «тихих феях», и волшебной норе под столом в гостиной, где жили в гнезде гадюки, навсегда живет в «Планете людей» и в «Ветре, песке и звездах».
* * *
Если время – такой целитель человеческих ссор и печалей, то только потому, как заметил однажды философ, «что человек меняется, никто не остается больше тем же, кем был раньше».
Сент-Экзюпери не надо было даже читать Паскаля, одного из своих любимых авторов, чтобы усвоить эту истину и понять, что он не был больше тем юношей, так сильно страдавшим в Париже. Мука, которую он однажды пережил, ушла. И если она и оставила отметину в его душе, то лишь в виде шрама, который все еще можно нащупать, хотя он уже прекратил болеть, в виде скола, отбитого куска на старой мебели, с годами своим несовершенством добавляющего очарование, как чернь на серебре.
«Я надеюсь вернуться к тебе повзрослевшим мужчиной, готовым жениться», – написал он матери из Тулузы накануне своего отъезда в Дакар. Эта проблема занимала его мысли много лет после неудавшегося обручения с Луизой Вильморин, и, судя по письмам к матери (ее письма к нему пропали), эта тема составляла значительную часть их переписки. Время, этот терпеливый целитель, постепенно успокоило боль в ранах, оставленных теми отношениями, а литература доделала остальное. Рене Соссин, невольно последовавшую за Луизой, оказалось простить труднее. Антуан покинул Тулузу, твердо решив забыть Рене, в отместку за ее отказ ответить взаимностью на его чувства. И дни, затем недели проходили, а он ни разу не брал в руки ручку и не прикасался к бумаге… Но однажды, когда он был в Дакаре, пришло письмо, в котором Рене жалобно вопрошала, почему он прекратил писать. «Пришли мне скорее еще немного твоих писем, я так люблю их». Написанная вроде бы с теплотой, та фраза резанула Антуана, как удар плетью, и сковала его, и он погрузился в гнетущую тишину. Его письма пополняли чью-то коллекцию, превращались в объект для удовольствия изысканного знатока – этой мысли он не смог перенести. Ему потребовалось два года, чтобы перебороть в себе прошлое: два года Сент-Экс рвал бесчисленные письма с твердой решимостью стереть минувшее. К счастью, те годы были настолько богаты событиями, что, хотя воспоминания продолжали стучаться в его дверь, он мог теперь оглядываться назад, на все прошедшее, как на случившееся с кем-то еще, а не с тем человеком, в которого он успел с тех пор превратиться. Даже упоминание о женитьбе исчезло со страниц его писем к матери, а мысли о браке, беспокоившие его ночами в Париже и Тулузе, теперь казались этому скитальцу, этому беспокойному Синдбаду-мореходу, живописными фантазиями. Благословение могло бы настигнуть его в Париже, в его собственной стране, но не в этой далекой и чужой земле Аргентины.
Пути Провидения таинственны, как и предсказателя. Брат его матери Жак женился на русской, и как-то в их квартире в Париже ее друг, тоже русский и в придачу хиромант, предсказал, что Антуан женится на молодой вдове, с которой встретится в течение следующих восьми дней. Эти восемь дней прошли, молодая вдова не сумела материализоваться, и ошеломленный тогда Антуан с тех пор прожил уже семь или восемь лет и начал культивировать свои холостяцкие привычки.
Вероятно, тот случай так и остался бы несущественным воспоминанием, если бы в конце лета 1930 года в Буэнос-Айресе не появился Бенжамин Кремьё. Потомок старинного еврейского семейства из Авиньона, Кремьё сделал себе имя во французском литературном мире переводами Пиранделло. Его «грустный близорукий глаз и редкая ассирийская борода», если цитировать Нино Франк, долгое время привычно мелькали на рю де л'Одеон. Там вместе с другим известным переводчиком, Валери Ларбо, он завязал дружбу с Джойсом, кто, в свою очередь, представил его литератору Итало Свево (в реальной жизни – Эттор Шмит), одному из главных источников еврейских знаний, которые появятся в «Улиссе» и станут прототипом для Леопольда Блума. Кремьё, консультировавший Галлимара по современной итальянской литературе, был одним из многих иностранных участников «Нувель ревю франсез», так же, как основателем французского ПЭН-клуба, стал своего рода литературным послом, когда его направили в Южную Америку в 1930 году с курсом лекций.
В Буэнос-Айресе Кремьё разыскал Сент-Экзюпери, которого знал в Париже как члена «НРФ», и на литературном приеме, данном в его честь, он представил своего друга Тонио сеньоре Гомес Карильо, привлекательной темноволосой молодой даме. С ней он повстречался на пароходе. Ее муж, Энрике Гомес Карильо, умер несколько лет назад, оставив ей квартиру в Париже, виллу в Ницце, а также, чем и объясняется ее появление в Южной Америке, значительные владения в Аргентине. Уроженец Гватемалы, Гомес Карильо провел юность в Сан-Сальвадоре, затем переехал в Европу, где дорос до должности редактора мадридской газеты «Либераль» и стал корреспондентом. В Париже он встретил Мату Хари, и, будучи журналистом с явной тягой к приключениям, даже написал о ней книгу, доставившую ему кратковременные неприятности с французскими властями незадолго до окончания Первой мировой войны. Энрике женился на известной испанской певице Ракель Мелле. Этот второй его брак (все равно закончившийся разводом) сопровождался весьма бурным проявлением страстей. В «Неополитанском кафе» и в «Кардинале», недалеко от «Гранд-опера» (эти два заведения обычно часто посещали представители латиноамериканской колонии в Париже), он был известен как счастливый дуэлянт из-за его готовности скрестить сабли с любым критиком, осмеливающимся подвергнуть сомнению вокальные данные его жены. Когда немного позже он повстречал Консуэлу Сунсин де Сандоваль, это был уже белоголовый сорокадевятилетний мужчина. Ей тогда едва исполнилось семнадцать – весна жизни для многих испанских женщин. Сопротивляться ее блестящим темным волосам и живым темным глазам оказалось невозможно, во всяком случае пылкому авантюристу, и, ко всеобщему удивлению, вероятно и ее собственному, он женился на ней.
Консуэла Гомес Карильо, видимо, не обладала соблазнительной слабостью Маты Хари, но ее характер и экзотическое воображение можно уравнять с темпераментом Ракель Мелле. Когда ее муж в 1927 году умер, она сняла его посмертную маску, очевидно приобщаясь к таинственной загробной жизни. Помещенная на пьедестал в маленькой квартире из двух комнат около Мадлен в Париже, оставленной Консуэле мужем, маска поражала воображение посетителей, испуская зловещие трески «всякий раз, когда Консуэла флиртовала или произносила что-нибудь не к месту… Мне было девятнадцать в то время, – вспоминала Ксения Куприна (дочь русского писателя Александра Куприна), – а она была немного старше, возможно, двадцати пяти лет, хотя выглядела очень молодо. Она была типичной жительницей Южной Америки, маленькой, изящной, податливой, с красивыми руками и кистями рук. Удивляли выразительные черные глаза, сиявшие, подобно звездам, и восхитительно гладкая кожа».
На большом столе в одной из комнат в ее загроможденной парижской квартире, выдерживавшей нашествие богемных авторов, журналистов, актеров и юристов, толпой поднимавшихся наверх с сыром, колбасами и сосисками и бесцеремонно поившими себя дешевым вином, где батоны хлеба и бутылки лежали на газетах, покрывающих пол, размещался другой слепок – с руки ее умершего мужа. Как и маска, этот слепок с руки также жил своей собственной жизнью, поскольку Консуэла упорно утверждала, будто рука ночами… писала! «Я не могу подтвердить, будто я когда-либо действительно видела, как она писала, – признается Ксения Куприна, – но я видела рукопись». Она также видела двери, которые внезапно открывались среди ночи, как если бы их толкало семейное привидение! Атмосфера была буквально заряжена мистикой, а воображение ее подруги Консуэлы так бесконечно плодовито, что «наконец наступал момент, когда ты терял грань между истинным и ложным». Ее необузданная фантазия приводила к заявлениям, будто по линии семьи ее матери (Сандоваль) она происходила от герцогов Толедо – титул, принадлежащий королям Испании. Как бы нелепо и сумасбродно это ни звучало, ты был готов ей поверить. Ибо ничто не казалось слишком неправдоподобным для этого необыкновенного существа (поэтессы, ваявшей скульптуры, или скульптора, писавшего стихи?), чье воображение оказывалось столь же непредсказуемым и трогательным, как западный ветер и облака. «Я родом из земли вулканов и революций», – говорила она, и повествование, следовавшее за этим, напоминало и о революциях, и о вулканах. Снова необычные истории, они никогда не повторялись, как не повторяется восход солнца, отказываясь снова воспроизводить блеск и красоту вчерашнего рассвета. «Когда я впервые услышала ее рассказ, – вспоминает Ксения, – добрых двадцать лет назад, от кого-то, кто знавал ее в Нью-Йорке, это был необузданный экспромт, совпадавший самым непонятным образом с землетрясением в ее родном Сан-Сальвадоре. Деревня была завалена, семья уничтожена, отвратительный ковер из лавы тек вниз по склону горы, и в охваченной паникой беспорядочной толпе, пытающейся спастись, до срока рожденному ребенку судьба уготовила вернуться к жизни укусами диких пчел, прижатых к мертворожденной плоти няней-негритянкой, обладавшей сверхъестественными колдовскими силами. Конечно же я не отвечаю за достоверность переданного мной, поскольку история эта пересказывалась не однажды и, вероятно, украшалась. Но подобно потоку воды в половодье, набирающему силу в глубине ущелья, рассказ этот свидетельствовал о том, что, оглядываясь назад, мы видим захватывающий дух ливень».
Ее покойный муж Гомес Карильо, посредством все той же неустанной магии, превратился в посла во Франции. Более прозаические факты свидетельствуют, что он отправился в Аргентину, где приобрел себе гражданство, дабы стать аргентинским консулом в Париже. Плодовитый автор, настрочивший за свою жизнь больше двух десятков книг, Гомес Карильо также составлял регулярные колонки для двух газет в Буэнос-Айресе – «Ла Над» и «Ла Разон», – обе более или менее либерального толка, и, что важнее (если смотреть с точки зрения воздействия на жизнь Сент-Экзюпери), он стал активным членом радикальной партии, которая тогда обладала властью в Аргентине. Благодаря влиянию партии и патронажу со стороны ее руководства, Карильо приобрел значительные владения в этой стране. Из чего следует, что молодая вдова решила отправиться в Аргентину в этом роковом сентябре 1930 года для изучения вопроса о наследстве. Оно, как выяснилось, оспаривалось незаконной дочерью Гомеса Карильо от другой женщины.
Такой была эта маленькая, живая дама, которую Бенжамин Кремьё представил Сент-Экзюпери. Подобно многим другим французским пилотам, он считал социальную жизнь аргентинской столицы слишком зажатой, в отличие от более свободной атмосферы Парижа. Почти испанская строгость нравов поддерживала общественное разделение полов, и даже в самом фешенебельном баре города существовал salon para caballeros (для мужчин) и salon para lafamilia, куда допускались женщины, если они пришли с мужьями. Бикини, несомненно, оставалось неизвестным на Мар-де-Ла-Плата, пляже к юго-востоку от Буэнос-Айреса, мужчинам там следовало надевать своего рода юбку, совсем как клетчатые юбки у шотландцев, поверх спортивных купальных трусов. Пуританизм не сочетался со складом характера Сент-Экса, и у того, кто знал безумный и необузданный Париж двадцатых, эти табу не вызывали ничего, кроме раздражения. Проще казалось создать и расширить французскую колонию в Буэнос-Айресе, где к тому же все избавлялись от необходимости изучения нового языка.
Именно тогда Антуан с удивлением, граничащим с восхищением, познакомился с Консуэлой Гомес Карильо, болтавшей на ломаном, но необычайно колоритном французском, до предела забавлявшем его. Она была смуглой и миниатюрный, вовсе не в его вкусе, но какая-то дикая красота, сосредоточенная в ее темных глазах, и штормовой ветер ее речи завораживали его. Так он летчик? Изумительно! Как же замечательно, должно быть, смотреть с высоты на землю! Каким маленьким, каким странным все должно казаться оттуда! Но, увы, она никогда не летала на самолете.








