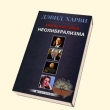Текст книги "Критическая Масса, 2006, № 2"
Автор книги: Критическая Масса Журнал
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
* * *
Петербургский рейв отличался традицией вписывания происходящего в сюжет города и особой «тематичностью». После выставки на поднятых мостах все отправились в бассейн у мечети, где кто в плавках, кто голый танцевали, плавали и ныряли. В конце вечеринки на дне был обнаружен утопленник, что не помешало продолжить танцы в том же месте на следующий день (в последующем на флайерсах опен эйров писали что-то вроде «каждый должен сам позаботиться о собственной безопасности»). Запомнился рейв на коньках на ледовом стадионе «Юбилейный», оставивший Алле на память шрам на подбородке. Хардкор происходил на броне боевой техники во дворе Музея артиллерии.
Конечно, бандосы весьма пугали, и иногда от них серьезно доставалось. Но вскоре даже девушки, которых прежде они могли запросто затащить в машину, научились с ними обходиться. Тем более что некоторые из бандитов радикально менялись: хлопнув разом 6 (!) колес, человек сначала впервые в жизни ощущал в себе зарождение неких добрых чувств, затем садился в машину и вдребезги ее разбивал, познавая бренность сущего. Тесно общаясь с рейверами, некоторые из них становились поклонниками диджеев, усваивали новые понятия и этику отношений. В крайних ситуациях такие выпускники республики Шкид вставали на нашу защиту, а кого-то и безвозмездно поддерживали материально. В городе, где шла криминальная революция, даже на Невском вечером было опасно, люди были агрессивны и непрестанно дрались. Некоторые вечеринки, как, например, в цирке, превращались в полный беспредел. В кинотеатре «Родина» я однажды попал в зал, полностью набитый братками. Они заворожено приплясывали перед сценой, с которой на фоне фильма «Джентльмены удачи» группа «2 самолета» пела: «Один московский кент, по имени Доцент, узнал об исторической находке…». Тем не менее мы позволяли себе такое, что сейчас трудно себе представить. Монро спокойно прогуливался в своем наряде в любое время суток. Однажды среди бела дня мы с Валерой Кацубой отправились на одну из «Фрикаделик», организованных Тимуром в «Тоннеле» (допускались посетители только в женской одежде), он – в теннисных тапках и платье, я – в поповских высоких сапогах, мини и колготках в сетку, бритый наголо. Мы вышли на Невский, взяли такси и поехали в клуб, искренне веселясь.
Постепенно техно-музыка покорила все вокруг, она булькала из любой машины, а «тыц-тыч, тыц-тыч» раздавалось за спиной самой заскорузлой буфетчицы. Как и все остальные модные явления, зародившиеся в Петербурге, рейв стал экспортироваться в Москву, где быстро коммерциализировался. Чтобы доставить на рейв «Мобиле» в Крылатском образцовых петербургских модников, которые должны были обучить аборигенов, как нужно выглядеть и держать себя, его организаторы заказали несколько мягких вагонов. Проводники бегали по купе, безуспешно пытаясь прекратить курение. На вокзале нас встретили автобусы, отвезшие в гостиницу с номерами «люкс», а потом обратно с рейва. На стадионе меня поразил юноша на стуле у входа, с ножницами и блоком марок, а также ряды бояр, плотно сидевших за столами со своими «жабами» в шубах. Олю Тобрелутс, случайно забредшую на их территорию, пришлось быстро уводить под белы руки.
* * *
В середине десятилетия танцевальный пафос стал стихать, художники стали покидать темные клубы, оставляя поле битвы тинэйджерам и бандосам. Но тут я на год по гранту уехал в Берлин на «полный шоколад». Сперва я честно пытался ходить на вернисажи, но от актуального искусства и черной завистливой тусовки на вернисажах начало тошнить. И, хотя я думал, что с этим покончено, опять влился в клубно-танцевальную жизнь. Еще в 1993 году Попова показала мне суть этого Берлина: «Иверк», «Трезор», «90 градусов», а главное, «Турбину» в Кройцберге, где господствовали самые радикальные формы транса. Если в Нью-Йорке клубы были местом для развлечения, то в Берлине делался акцент на серьезную идеологическую и магическую природу всего происходящего. Здесь были мощные и жесткие подвижники своего дела. Как в 1960-е, они выясняли отношения под ЛСД, сидя вкруг, взявшись за руки, когда невозможно соврать и понятен любой язык без перевода. В 1996-м я опять потащился в «Турбину», но он уже назывался «Кити-Кет», а на входе от меня потребовали снять футболку. Оказывается, там теперь хозяйничали бесстыжие свингеры, а транс-вечеринки проходили только по воскресеньям. Я был счастлив встретить людей, которых не видел несколько лет, начавших меня потчевать на свой манер. Публика была просто прелестна: европейские рейверы тщательно следят за своей душой и телом, а также за окружающими. Великаны в стиле «Том оф Финланд» в фуражках и кожаных штанах с вырезами на задах, красавицы с татуировками в индийских нарядах, ребята в костюмах аквалангистов, «оскары уайльды» в жабо, профессор в пенсне и «тройке» без штанов и т. д. Все ласковы, красивы, сильны и обычно занимаются какой-нибудь восточной практикой. На таких не наедешь. Обычно это люди за тридцать, они благополучны и могут путешествовать по миру, например за затмениями, устраивая рейвы в Чили или Новой Зеландии. Там нельзя сказать (да ничего и не слышно) «Я экзотический художник» или «Я хорошенькая девушка», «Я был» или «Я буду». Тебе ответят: «Это здорово, но кто ты такой сейчас?» Танцор как античный обнаженный герой – по его пластике и ауре все легко считывается. Старые гуру приводят в клуб молодежь, чтобы на живых примерах объяснить им различные состояния человеческой души. Сообщество охраняет себя от инородных элементов. «Это техно-клуб, а не туристическая достопримечательность», – сказала нам на фейс-контроле хозяйка «Ките-Кета», когда я привел туда друзей из Митте. И это-то доктору Хучко – бешеному танцору, фрику, каких свет не видывал, который в клинике Шарите организовал клуб для своих сумасшедших пациентов. Модный код отличался даже по районам. Для некоторых немцев рейв – это серьезная работа по самоусовершенствованию, выполняя которую они иногда не замечают, что переходят на марш. Берлин, несмотря на бесконечный его комплекс перед Лондоном, тогда уже был столицей рейва. В Германии в отношении рейва власти гораздо либеральнее, чем во Франции, а тем более в Англии, где рейв подвергся репрессиям и сотни танцоров бежали на континент. Чего стоил только Лав-парад (официально – демонстрация «за любовь», чтобы не убирать мусор), собравший в Тиргартене миллион танцующих и занимающихся любовью людей + турецкие семьи, жарившие на всех шашлыки. Еще неделю мы бродили по городу в пижамах, посещая тлеющие кое-где очаги праздника. Моей отчетной выставкой в Кунстлехаус Бетаниен стало пространство с исповедальней (в которой сидели местные гуру), работающими душевой и телефонной кабинами, парикмахером, песочницей с грибком и чилаутом, где всем желающим предлагалось печатать любовные письма. Публика вскоре начала танцевать так, что администрация поспешила прикрыть лавочку.
* * *
Надо отметить, что наши рейверы всегда пользовались успехом за границей. Георгий Гурьянов и Юлия Страусова просто покорили Берлин. Однажды меня пропустили на «Мэй дэй», стоило лишь сказать, что я из СПб. Однако обычно это не касается официальных «радикалов». Когда мне удалось затащить Кулика с Милой [Бредихиной] в наш с Георгием придворный клуб «СО-36», где красавцы геи тянули бокалы к негру, пустившему в экстазе струю со сцены, человек-собака просидел весь вечер, забившись в угол. «Я чувствовал их агрессию, они видели, что я натурал», – жаловался он потом.
В древнем Китае государство монополизировало использование флейты и барабана (опять же высокие – низкие). Некоторые правительства пытались сделать то же с рейвом. В результате часть танцоров отправилась в странствия, став кочевниками, передвигающимися по Европе в домах-грузовиках. Они втайне организовывают секретные опен эйры, которые полиция громит с помощью вертолетов. Государство стремится сделать эти племена оседлыми буржуа. В ответ следует ожесточение этих «зиппи» (название экологических рейверов). Однажды мы с Мишелем Гайо, экс-рейвером, учеником Нанси, автором книги о философии техно, консультантом минкульта по альтернативным вечеринкам, и его девушкой Саншаной приехали в чистое поле, где за холмами светился Шартрский собор. Мы попали на транс-вечеринку «незнакомого племени». Я, одетый в сюртук с жабо, сошел за придурка-иностранца, а Мишеля, одетого в кожаные штаны и модный пиджак, ребята в широких штанах и куртках с капюшонами час держали под ножом, приняв за флика. Часть народа ломанулась в места, освоенные еще хиппи, – Похару под Анапурной в Непале и Гоа, где немало времени славно провел Серега Заяц. Теперь там одна попса.
Если главным лозунгом западных рейверов был «опен йор майнд!», то наши люди понимали, что только этого от них и ждут, а потому придерживались вульгарного, но проверенного «фильтруй базар, секи поляну». Петербургские рейверы ответили на коммерциализацию опять же тайными опен эйрами, ранние и лучшие из которых проходили на Финском заливе. Первый «речники» устроили на дамбе. Следующий проходил в руинах Знаменки и не мог быть разогнан, так как все силы правопорядка были стянуты в город, куда приехал Ельцин. Особо тогда веселился и делился своей радостью с окружающими десант, приехавший из Москвы на автобусе. Помню, что привезенными из Берлина флуоресцентными красками я тогда раскрасил не один десяток человек. Молодежь воровала акриловые краски и мазала ими себе головы. Бедняги, потом им пришлось побриться. Другое дело – И. Д. Чечот, танцевавший в элегантном костюме: расписывать его лысый череп – благодарное дело. Последний эпохальный рейв произошел на Чумном форту, посреди Финского залива.
* * *
Наконец, необходимо упомянуть о роли радио, которое в 1990-е было самым прогрессивным из медиа. Еще в ночь первого путча радио «Балтика» начало исполнять электронную музыку, что символизировало наступление новой эпохи. Во времена «Туннеля» слушали экспериментальное радио «Катюша», возникшее на базе старой глушилки. В 1997 году мне довелось вести программу на радио «Рекорд», первым начавшем транслировать чисто танцевальную музыку. В полуразрушенном доме у подножья телебашни по вечерам мы были свободны делать, говорить и играть что хотели в прямом эфире. Молодые поклонники техно-музыки приезжали к этой руине, чтобы просто быть рядом. На этом же радио вели передачи и другие ветераны – Леша Хаас, Африка, Попова и др. Последней яркой вспышкой в этой сфере стал амбициозный проект «Порт». Клуб с этим названием быстро сменил формат, но радио, возглавляемое Иветтой Померанцевой, продолжало оставаться всеобщим «светом в окошке» до лета 1998 года.
Теперь и опен эйры освоили коммерсанты, поставившие их на деловую ногу. А иногда так хочется потанцевать, ведь я не искусствовед, не художник, а вольный танцор. Вспоминается сентимент (такой маленький мент): уже слепой Тимур на вечеринке «Любимые песни дедушки русского рейва» в клубе «Мама», исполняющий «Белые розы».
Время Тимура. Екатерина Андреева о Тимуре Петровиче Новикове
В одном из номеров журнала «ОМ» середины 1990-х было интервью Тимура Новикова под заголовком «Как я придумал рейв». А в собственных лекциях Тимур рассказывал о том, как его друг Виктор Цой послал мантру «Мы ждем перемен» – и произошла в стране «перестройка». Тимур придумал так много всего, что Владик Мамышев-Монро в рукописном литературном фрагменте 1989 года, хранящемся в архиве Беллы Матвеевой, недаром назвал его своим отцом и матерью, и многие могли бы разделить с Монро это чувство. Тимуру была свойственна невиданная легкость, такая пушкинская, за которую А. С. упрекал Синявский. Поэтому Тимур сильнейшим образом отличался от всего советского, да и вообще российского: толстовско-достоевских границ для него не существовало. Это было заметно даже внешне: самим своим обликом и повадкой Тимур доказывал, что нету никаких реальных преград ничему. И мы благодаря ему узнали и то, как это замечательно, и то, как это бывает ужасно. Но во второй половине 1980-х это было, конечно же, замечательно.
* * *
Появление Тимура всегда было сценично, легко и эффектно. Например, в 1986 году на монтаже весенней групповой выставки ТЭИИ во Дворце молодежи, которая так и не открылась из-за цензурного давления, мы с друзьями обыкновенно проводим время: посиживаем на подоконнике с «митьками», выпивая наш запас, их запас и запасы их многочисленных поклонников, обсуждая, что бы и куда бы взять да и повесить. И тут в длинный зал со сплошным остеклением прямо на велосипеде въезжает Новиков в алом свитере, с панковской геометрической стрижкой, похожей на шлемы рыцарей в фильме Эйзенштейна «Александр Невский», мгновенно спрыгивает с седла, приветливо здоровается и за три минуты укрепляет на стене внушительное произведение «Портрет „Новых художников“ и группы „Кино“». Так быстро, потому что произведение было нарисовано на шторе для ванны и привезено в маленьком пакетике, привязанном к багажнику. После чего, приветливо попрощавшись, уезжает. А через несколько минут возникает еще один велосипедист – Евгений Юфит, в трениках и спортсменках. Он мрачно распаковывает картину, свернутую в рулончик. Оценив, что экспозиция «Новых художников» на стене мастерски закончена Тимуром, Юфа приматывает свой холст, похожий на маньеристический гротеск в исполнении художника-каннибала, прямо к ближайшей колонне.
В 1987 году начали происходить невероятные по меркам советской жизни события, связанные с тем, что комсомольские работники лихорадочно искали способы контроля над молодежью, которая уже становилась бесконтрольной. Неожиданно Леся Туркина получила приглашение от городского комитета комсомола поучаствовать в «слете» неформальных молодежных организаций и создать какую-нибудь свою при этом комитете. Мы с Лесей – она в беличьей шубе, которая делала ее сексуальной, как буржуазная героиня романа «Как закалялась сталь», а я в лисе-огнёвке, также напоминавшей о золотых годах нэпа, – отправились в домик при башне Водоканала на Шпалерной. Там слонялись самые разные молодые люди возбужденной толпой. Всю обратную дорогу в троллейбусе мы раздумывали, что за организацию создать, и решили предложить в этом поучаствовать друзьям Хлобыстиным (статью Андрея Хлобыстина см. на с. 49. – Ред.) и Ивану Дмитриевичу Чечоту. Назвали наше общество по аналогии с уже известным неофициальным писательско-поэтическим Клубом-81 «Клуб искусствоведов», а так как события развивались стремительно, регистрировали этот клуб или приписывали его уже не к комсомольцам, а к более благообразному Фонду культуры. В клуб вошли исследователи русского авангарда Ирина Арская, Николай Школьный и Константин Лизунов, которые весьма плодотворно занимались тогда Татлиным, Гуро и Филоновым, – удивительная тогдашняя свобода нашей кафедры истории искусства позволила им в 1983 году защитить дипломы об этих полузапрещенных художниках. Весной 1988 года Клуб искусствоведов устроил грандиозную конференцию об искусстве ХХ века, в которой приняли участие не только сотрудники Эрмитажа или преподаватели с аспирантами университета, но и такие известные интеллектуалы, создатели все еще «полуофициальной» художественной жизни, как Аркадий Драгомощенко и Тимур Новиков. Дело происходило в актовом зале исторического и философского факультетов, набитом под завязку. Люди сидели в проходах амфитеатра, и во время докладов никто не выходил из аудитории, она только все больше и больше заполнялась народом, поскольку начали мы с раннего утра, а просыпаются у нас обычно часам к двенадцати. «Новые художники» были несомненным хитом, так как им на конференции посвятили целых два доклада Андрей Хлобыстин и Михаил Трофименков. Трофименков сначала рассказал об Адорно и его лозунге «Аrt is all over», то есть «Искусство кончилось», или, что то же самое, «искусство повсюду», а потом выступал в конце с расшифровкой этого лозунга применительно к «Новым», уже не в актовом зале, а в 74-й аудитории истфака, и непоместившиеся слушатели горой осаждали вход, наваливаясь друг на друга и переспрашивая, о чем там говорится. Речь Тимура для аудитории амфитеатра была короткой, веселой (он едва сдерживал конвульсивные приступы хохота, взбодрившись, по обыкновению, перед выходом на сцену) и на редкость общедоступной, хотя полный ее смысл раскрывался не сразу. Новиков излагал, что «перестройка – это перекомпозиция», иллюстрируя свои слова разноцветными Мэрилин Монро Энди Уорхола. Более глубокое понимание текущих событий, чем на первый взгляд, надо полагать, всегда отличало Тимура.
Этой же весной Леся получила приглашение на второй фестиваль «Арт-контакт» в Ригу – на семинар «Авангард и социализм». Его прислал организатор акции комсомольский лидер Артур Серебряков, который через десять лет стал преуспевающим антикваром под именем Артур Авотиньш. Леся поехать не смогла, и в начале июня в Риге высадились мы с Хлобыстиными, Трофименков, Ольга Хрусталева и поэты Кривулин, Кононов, Драгомощенко, Щербина и Кучерявкин. Там Хлобыстин и Трофименков повторили все о «Новых», а я читала свою статью о соцреализме, которую осенью должны были опубликовать в молодежном номере журнала «Искусство». После первой части конференции мы отправились в ближайшую «стоячку» (происходило все в ДК рядом с железнодорожным вокзалом) и там продолжили обсуждать мой спор с Трофименковым: он доказывал, что советская власть задушила авангард, а я настаивала на том, что общество 1920-х годов само хотело советизации, и это распространялось даже на таких героев, как Малевич или Филонов. Тут к нашей беседе решительно присоединился только что вошедший в кафе человек с дорожной сумкой, оказавшийся Андреем Ерофеевым. Вместе мы пошли смотреть выставку «Новых», которая была открыта на первом этаже единственного рижского небоскреба – билдинга компании Rigas Modes. Лучше всего я запомнила произведения Тимура из «Горизонтов»: «Трактор», «Олень» в серую полоску и «Одинокий домик в степи зимой». Часть из них была отлично видна прохожим через сплошное остекление холла Rigas Modes. В этих тряпочных композициях с трафаретными рисунками были ослепительная наглость и радость жизни. «Трактор», хотя и очевидно спекулятивно связанный с темой советского, как и вся перестроечная культура, сильно отличался по настроению от грубой соц-артовской веселости. Эти картины смотрелись неполитически, по-домашнему (в них была преобразована столетняя традиция авангарда писать в духе примитива и детских рисунков на чем угодно бытовом – от обоев и клеенок до ковриков). И одновременно они выглядели невесомо, нездешне идеально. Их идеальность проистекала от мягкой дружественности взгляда художника, который видит землю откуда-то с легких шелково-штапельных небес, и она держалась на абсолютном совершенстве замысла и исполнения. Новый универсальный мир картин был открыт Тимуром, где все и любые изображения восхищали точностью выбора, бесконечной фантазией и открытостью к зрителю любой культуры и возраста. Если говорить в целом о понятии «картина» в советском искусстве, то деидеологизация области изображения, пустота на месте, которое вот уже 70 лет продавливала идеология, производила эффект просветленного взлета.
Это было внове: такое освобождающее ощущение от искусства. Особенно же по сравнению с выставкой Филонова 1988 года, великие картины которого напоминали ницшеанскую авангардную революцию на заводе народных промыслов; или со знаменитой экспозицией Ларионова в корпусе Росси, хотя и веселой, энергичной, но требовавшей болезненной перестройки обычного человеческого взгляда; или с демонстрацией альбомов Кабакова, которую в середине 1980-х провела в ЛГУ по методу самого мастера Наталья Бриллинг: все долго сидят в темноте и с мучительным ощущением неловкости наблюдают череду почти пустых слайдов, кое-где с мухами или надписями.
Позднее мне приходилось неоднократно слышать сравнения работ самого Тимура и «Новых художников» с произведениями «Мухоморов» и таких героев «перестройки», как «Чемпионы мира» или Гоша Острецов. По всей видимости, Тимур внимательно изучал опыт «Мухоморов», когда задумывал свою группу «Новые художники», и часто ездил в Москву на рубеже 1970—1980-х годов. В практике «Мухоморов» и «Новых» есть определенное сходство, например, в интересе к экспрессионизму, в пародийном использовании бюрократических приемов «бумагооборота» («Мухоморы» пользовались печатью, соединившей силуэты гриба-галлюциногена и масонского мастерка). Тем не менее никто, кроме Тимура и «Новых художников», не преуспел в 1980-е в том, чтобы сформулировать общезначимую идею времени, как Тимур это сделал в «Горизонтах» и дизайне для «АССЫ». Идеи «Новых», отработанные за пять лет деятельности группы (1982—1987), были на знаменах, под которыми мегаполисы Москва и Ленинград разворачивались в своем историческом освободительном движении. При этом нельзя сказать, что Тимур был политизированным человеком и стремился к власти в социальной организации культуры. Он предпочитал, как сам говорил, всегда свободную от внешних связей позицию «заядлого альтернативщика». Свобода была для Тимура внутренней категорией, мыслимым прообразом жизни. Свою миссию он видел в освобождении и расширении или исправлении возможностей «всеческих» искусств, поскольку искусство он понимал как источник образов, моделей, формирующующих реальность. Стратегия Тимура состояла не только в том, чтобы показать пустоту и коррумпированность советской политики, как это делали в 1970—1980-е годы соц-артисты. Тимур всегда представлял потенциальную открытость мира, потенциальную возможность чудесного превращения, мечты и тайны там, где, казалось, все уже давно превратилось в идейное и материальное вторсырье и неликвиды.
* * *
В начале осени 1988 года Хлобыстины нам с Лесей под большим секретом сообщили, что вступили в кооператив и скоро у всех появится серьезная работа. Андрей предложил кооператорам устроить, по примеру московского общества «Эрмитаж», выставку нонконформизма. Если «Эрмитаж» показывал в 1987 году московскую живопись 1960—1980-х годов, мы решили взять все – от 1940-х к нашему времени. Переговоры о выставке с кооператорами начались в октябре, а уже на декабрь было назначено ее открытие в павильоне выставочного комплекса в Гавани. Работу разделили: Андрей и Алла [Митрофанова] взяли себе «Новых» и некрореалистов, Лесе достались стерлиговцы и «Митьки», мне же – самое сложное: за месяц внедриться в круги старых и заслуженных нонконформистов и подготовить раздел «Газа-невская культура».
Это отдельная история, скажу только, что я очень завидовала друзьям, которые общались с Тимуром. Мне приходилось преодолевать препятствия, иногда даже шантаж, часто – вполне понятный страх. Характерный эпизод произошел с коллекционером Борисом Борисовичем Безобразовым, который жил в Московском районе, на улице Фрунзе. Он назначил мне встречу в 9 вечера, сказав, чтобы я приехала одна. Было темно по-ноябрьски, шел снег, я безуспешно звонила в квартиру, никто не открывал. Я вышла из подъезда и стояла, раздумывая, что делать. Улица была пуста, если не считать пожилого господина, который прохаживался вдоль длинного сталинского фасада, еще когда я подходила к дому. Минут через пять он скрылся в нужном мне подъезде, интуиция подтолкнула меня последовать за ним. Действительно, это и был сам Безобразов, лично проверявший, нет ли за мной хвоста. Он оказался очень любезным старым джентльменом и отдал нам огромную картину Владимира Овчинникова «Снятие с креста», которую мы с юношей в белогвардейской фуражке с трудом стащили со стены, шатаясь под тяжестью, как алкоголики, окружавшие крест Спасителя на картине. Безобразов же смотрел только на антикварную фуражку и приговаривал: «Очень рад познакомиться с таким достойным молодым человеком!» Экспозиция в Гавани «От неофициального искусства к перестройке» открылась 8 или 9 января 1989 года, чтобы «разойтись» с выставкой в Манеже, которую ЛОСХ и ТЭИИ наконец делали пополам напополам. Меня интересовало не уравнивание в правах официальной и неофициальной культуры, а построение такой истории искусства, в которой читалась бы энергетическая линия ленинградского символического экспрессионизма от авангарда, «Круга» к арефьевцам и «Новым художникам». В разделе «Новых художников» особенно выделялся живописный портрет Георгия Гурьянова работы Новикова под названием «Строгий юноша». Критик Игорь Потапов, то есть сам Новиков, относил это произведение к «аккуратным тенденциям» в творчестве «Новых» (выставку под таким названием Тимур устроил еще в 1987-м в кинотеатре «Знамя»), и теперь понятно, что Тимур тогда уже двигался к переводу времени Новой Академии всеческих искусств на время Новой Академии изящных искусств. Правда, на стенде в Гавани происходило такое, что прилагательным «изящный» не описать. «Строгий юноша» Новикова висел с краю, рядом со шпалерной развеской некрореалистов. Среди некриков основным художниками тогда были очень пестрые Мертвый и Трупырь. Их картины представляли «арефьевских» советских баб в купальниках, тело которых вспухло, трескалось, текло и разлагалось всем разнообразием атласа кожных болезней, или матросов-упырей (римейк фильма «Мы из Кронштадта») в гамме спелого фингала. Называлась одна из картин «Гроза пансионата». «Строгий юноша» своей яростной сдержанностью (Тимур добился этого впечатления, сделав фигуру Гурьянова превышающей формат, словно бы пробивающей плечом и веслом «потолок» картинной формы) ограничивал некромассу, как сторожевой знак.
К открытию выставки «От неофициального искусства к перестройке» уже вышел номер «Искусства» с моей статьей. Хлобыстин его забрал и всем торжественно показывал, потому что на обложке Тимур и Инал Савченков стояли, скрестив кисть и молоток. В Гавань приехали Катя Бобринская и Нина Гурьянова, которые собирали следующий «молодежный» выпуск «Искусства», появившийся осенью 1989 года и украшенный картиной Георгия Гурьянова «Земля – Солнце». Особенную прелесть этим обложкам придавала надпись над обоими изображениями, извещавшая, что перед нами «ежемесячный журнал Министерства культуры СССР, Союза художников СССР, Академии художеств СССР». Поверх всех этих организаций Новиков и осуществил «масонскую» художественную революцию. Никогда прежде за всю историю ХХ века ленинградское искусство не добивалось таких очевидных успехов в союзных средствах массовой информации. Самые актуальные художники в Москве и в стране, выразившие время сразу и целиком, были ленинградские «Новые».
Год и все боевое десятилетие подошли к своей высшей точке в декабре. Леся и я получили предложение от Евгении Николаевны Петровой устроить выставку молодых художников в корпусе Бенуа [Русского музея], пока – чтобы показать их сотрудникам музея. Эта акция теперь называется выставкой Клуба друзей Маяковского, хотя состав участников был шире. Вместе с Алисой Любимовой, сотрудницей отдела живописи, мы привезли не только картины «Новых», но и Юфита, Яшке, Алексея Семичева – художника из «Митьков», который позднее участвовал в выставках Новой Академии. Тимур нам помогал, советуя, что и у кого брать. Так, мы вывезли по его наводке гигантский портрет Ковальского – шедевр Котельникова и Сотникова, хранившийся в рулоне в мастерской Бугаева [-Африки] на Фонтанке. Тогда же я оценила, насколько Тимур не навязывал свое мнение. Он очень рекомендовал Евгения Козлова. Мы приехали к Козлову на видавшем виды музейном фургоне, который еще в Великую Отечественную мог возить грузы для фронта. Козлов был обладателем большой и эффектной мастерской на Фонтанке – он стал первым художником с собственным дилером, обогнав в этом даже Африку. Козлов велел нам разуться и только потом пустил в комнаты, затянутые коврами и тканями по тимуровской моде и украшенные жесткими камуфляжными композициями в черно-красных и защитных тонах. Он отказался дать нам картины в нашу потрепанную машину, сказав, что будет думать. Думать было некогда, поскольку все предприятие осуществлялось дня за три, а залов мы заняли много – половину левого крыла первого этажа. И когда Козлов сам привез свой шедевр, выставка уже была показана заведующим музейными отделами и на ней уже прошла закупка. Тимур к этой неприятной истории отнесся очень легко: он не стал нам пенять, что мы не дождались Козлова, заметив, что на нет и суда нет. Можно сказать, что к жизни Тимур относился философски. Должно быть, это была школа Бориса Николаевича Кошелохова, который носит и оправдывает прозвище «Философ». (Как-то раз в ответ на упреки в мачизме Б. Н. сказал: «От происхождения своего от Адама я не отрекаюсь».)
Закупочная комиссия на выставке в Русском музее меня невероятно поразила: она рассеяла все разговоры на тему молодежного творчества. Заведующие «классическими» отделами, знающие толк в художественном качестве, внезапно обнаружили желание и интерес обсудить композицию Сотникова «Рок-концерт» или экспрессионизм Котельникова в «Ударе кисти». И эти два произведения, и «Луна – Солнце мертвых» Вадима Овчинникова, и картина «Танец колдуна» Гуцевича, и «Утренняя звезда» Марты Волковой, и еще работ десять были сразу же куплены в фонд живописи. Еще одно свойство Тимура стоит упомянуть в связи с этой выставкой: он не навязывал нам не только своих мнений, но и своих произведений, заботясь большей частью о том, чтобы не были забыты Овчинников, Котельников, Сотников или Андрей Крисанов и его полотно «Мухоморчик». Тимур вел себя как человек, отвечающий за общество. Перед открытием Тимур сам повесил на щите, который мы ему оставили, «Пингвинов» – черно-белую вертикальную композицию. Белая часть ее была, наверное, шторой или скатертью, потому что матовое поле ткани покрывал светящийся однотонный узор, который Тимур использовал, чтобы получить эффект мерцающего кое-где льда. После закупки нам разрешили устроить показ для приглашенных, и выставку посмотрела близкая публика: Иван Дмитриевич Чечот и присланная к нему в университет немецкая аспирантка Катя Беккер, недавний товарищ Бугаева Сергей Ануфриев, Аркадий Ипполитов, Дуня Смирнова. У Сергея Ковальского должна была сохраниться видеозапись, так как он ходил с камерой и был очень похож на свой портрет. Перед Новым годом, в ноябре или декабре, Тимур устроил в Центральном лектории на Литейном представление Свободного университета. Выступали [Сергей] Шутов, Юхананов и сам Тимур. Речи помню плохо по двум причинам. Во-первых, над докладчиками было растянуто произведение Тимура «Лебедь», центрированная композиция, от которой было невозможно отвести глаз, так она сияла серебром в полуосвещенном зале. И позднее Тимур опустил нижнюю границу Новой Академии до 1989 года, имея в виду именно «Лебедя». (Если жизнь заставляла, он опускал эту границу до «Строгого юноши», но обычно останавливался в 1989 году.) Во-вторых, потому, что до Невского нас с Лесей предложил подвезти Африка, который купил машину и сам ее водил. Эта трехминутная поездка оказалась отчаянной прямо со старта, когда Сергей начал разворачиваться, принципиально не глядя ни налево, ни направо. Ехали мы примерно так как в фильме «2 капитана 2» передвигалось авто с Фанни Каплан.