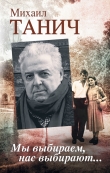Текст книги "Критическая Масса, 2006, № 2"
Автор книги: Критическая Масса Журнал
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Страшно я боюсь, и есть, вместе с тем, какая-то радостная уверенность, что ни смерти, ни письма не получится, а получится рассказ. Нет, Павел Кондратьич, тут не жажда жизни – тут говорит профессия.
Я повешусь, безусловно повешусь, пусть у меня еще будущее, вот даже хозяйкин мальчик говорит, что я «насправди писатель», пусть горит пресловутый революционный пожар. Чего там!
Милейший Гр. Ге, средний писарь и забавный актер, рассказывал как-то мне анекдот… Случилось ему, в Рыбинске что ли, играть некоего рыцаря. Два акта играет, а потом его убивают, и весь третий акт ему суждено лежать в гробу, чтоб родственники оплакивали и монологи говорили. Ну, оно понятно, для молодого самолюбия обидно торчать целый акт в гробу.
– Не могу, – говорит, – отказываюсь.
Режиссер взял в полку дежурного статиста, загримировал солдата под рыцаря и положил его на вышеуказанный смертный одр.
– Лежи и не сопи. Мертвый – твоя роль. Труп.
Солдату что? Лежит как на часах, глаза закрыл, может, ему деревня снится, соломой простелено, свечи над ним горят. Но одна проклятая свечка, черт бы ее побрал, погнулась, и горячий воск прямо на лоб покойнику капает. Конечно, забеспокоился солдат – невеста тут над ним рыдает, а все-таки горячо.
У актеров за кулисами захватило дух и стянуло живот от сдерживаемого смеха.
Чем, думают, кончится?
Солдат оказался сообразительным. Он приподнялся, погасил свечку и снова лег мертвым трупом, скрестив по заданию руки. Занавес пришлось закрыть.
Смешно, Павел Кондратьич, очень смешно, но пойми ты, что у меня сейчас солдатская роль.
Когда в Петербурге на диспуте этот мальчишка сказал, что я давно уже мертвец для читающей России, мне стало понятно, что они хотят заставить меня играть солдатскую роль в ихней революции. Они не свечку поставят над гробом, они зажгут твой дом, и пламя выжжет твои мозги. Такую свечку не задуешь, Кондратьич, и вот я удрал от исполнения своих актерских обязанностей.
Так чего вешаться? Вешаться, кажется, нечего. Но я горд, я до глупости горд, старина, тем, что в России происходит сейчас эта катавасия. Удираю за границу, потому что грабят и не дают жить. А приеду туда и перед любым французом буду хвастать: у них колбаса, МуленРуж, а у нас революция.
В том-то и трагедия, что я готов поверить в Ломоносова, который идет в Академию и по дороге сжигает усадьбы. А верить не следует – потому что не мальчик и хвастать, собственно говоря, нечем. В гимназии, бывало, ученики задавались:
– А у нас в доме скарлатина…
И их отсылали на две недели домой. Ко мне не прививаются революционные детские болезни, и черт с ними, со всей этой жизнью – я кончаю ее, чтобы ни одной минуты не играть роль мертвеца.
За стеной у меня целые дни воет угнетающая скрипка, комната сырая, сырость давняя, вчера мышеловка за-хлопнула крысу, и у этой крысы были мокрые бока. Даже крысы отсырели в этой комнате. По-моему, в таких условиях гибнет человеческая мысль. У меня отсырел мозг и ревматически болит затылок.
Мне не хочется за границу, я был уже там, – я все это знаю – Гете и Гагенбек, – а у нас революция.
Этот мерзавец скрипач отравляет мои последние минуты. Тут стекла надо бить, а он воет. Здесь все играют по-еврейски, даже на малороссийских свадьбах еврейская музыка. Если бы сейчас был погром, я бы выскочил на улицу и разломал все виолончели и контрабасы, я бил бы музыкантов инструментами по голове, чтобы скрипки ломались и хрустели как лед.
Письмо под музыку. С жизнью, с Россией мне надо расстаться под это дешевое соседство!
Прощай, Павел Кондратьич. Передай жене, пусть балует Костю, я все давно уже отписал им. Когда придет время, перевезете меня в Петербург на Волково. Еще в школе я мечтал, что меня там похоронят.
Тридцать два года я связан со столицей и ни разу не был на Исаакии. Сегодня мне в первый раз захотелось взо-браться туда и обнять Петербург сверху. Но там теперь только воробьи и пулеметы, а мне надо кончать.
Кончаю, Павел Кондратьич, целую тебя и завидую твоему уму. Пристрой куда-нибудь библиотеку. Ключи у Наташи. Поддержи ее, она глупая и ругается с красноармейцами.
У Гржебина последние пять рассказов, а мелочь здесь в чемодане и на Мойке в шкафу>.
Писатель подписался полностью, но тут же за подписью, тем же ровным и однообразным, как цепи, почерком, письмо продолжалось.
Больше недели этот бесполезный крюк в углу комнаты торчал перед моими глазами, но наконец-то я его использовал. Он совершенно лишний в этом доме, его вбили еще при постройке, для образа, но кроме моей веревки ничего еще не висело на нем.
Я повесился удачно и правильно, опрокинул ногой стул, захлебнулся воздухом и поперхнулся им, но стул упал слишком громко, и говорят, будто я еще стучал ногами в стенку.
В мою комнату вошел молодой человек со скрипкой в руках, с платочком у подбородка, – он что-то спросил, приоткрыв дверь, потом бросил скрипку, схватил нож и спас меня.
Вот как, Павел Кондратьич! Хоронить меня на Волковом кладбище пока не надо, посмотрим сначала, какой он из себя – Париж. Скрипач оказался чудным парнишкой – из наших, Воронежской губернии, он дал мне слово молчать, и я с радостью слушаю сейчас музыку. Настроение у меня хорошее, происшествие меня забавляет, но пора укладываться.
Павел Кондратьич, дорогой, когда Наташа будет уезжать, – будь так добр, не забудь напомнить ей, чтобы она захватила мой янтарный мундштук с платиновым ободком. Я забыл его в письменном столе в табачном ящике.
Я б выкинул это письмо – но ты меня учил не уничтожать черновиков и писем. Черт с тобой, – в назидание потомству! Привет Анне Гавриловне>.
1926
Плохая память
Живу я у зубного врача в кабинете. Так что, когда являются пациенты, мне приходится уходить на улицу или поджидать в коридоре. Это, безусловно, большое неудобство.
Зато ночью у меня – благодать. В кабинете чисто, прохладно и пахнет лекарствами. Всю жизнь мне кружил голову запах аптеки, но в жаркие месяцы я не знаю ничего лучше этого запаха, особенно после того, как в комнате вымоют пол и откроют на ночь окно. Вот представьте себе: холодная клеенка дивана, звезды в окне, лампа, белый шкафчик с лекарствами, на полу узкая крестьянская дорожка, коврик, половичок, и весь пол большой комнаты какой-то блестящий, влажный и мягкий. Вохкий какой-то, как говорят у нас, – не знаю только, есть ли такое слово . Ночью у меня в комнате очень хорошо. Я роюсь в книжном шкафу, там Греца, Вейнингер, Бялик и полные собрания сочинений Амфитеатрова, Бунина и Леонида Андреева.
Эти не старые еще, а просто какие-то старомодные книги волнуют меня незаконченностью своей и близорукостью. Иронический и мудрый, я читаю рассказы с улыбкой, будто знаю что-то такое, о чем не могли догадаться ни герои, ни авторы, никто.
Чудаки, право, жили недавно! Вот в книжке описывают чиновника. Сидит это он у окна, и высчитывает, сколько зарабатывает в минуту барин из соседнего дома. А на службе, в канцелярии, уже двадцать лет – одно и то же место, кресло, стол. Страшно чиновнику жениться, даже получать повышение страшно, потому что придется менять квартиру, принимать поздравления, говорить с незнакомыми людьми. Чиновнику 28, кажется, лет. Рассказ помечен 1903 годом.
– Товарищи, так ведь рассказ не окончен! Неправда же, товарищи! Я уверен, я даже знаю – наверняка знаю, – что чиновник этот служил в 19-м году в совучреждении, ездил по России, был за границей, менял казармы, города и квартиры. Он был контрразведчиком в Екатеринотопе, начальником снабжения кавалерийской части в Киеве, заведующим Наробразом в Конославе и юнкером в Париже. С него же, с этого самого чиновника писали в 1922 году повести о великих провокаторах, для того чтобы в 1924 году он брал эти книги в библиотеке союза совработников и читал в минуты затишья на посту счетовода.
Может быть, писатель врал, и такого чиновника никогда не было, может быть, я тоже вру, и никто не летал по городам, но ведь дело не в этом.
Мы просто не верим в человека, которого судьба, жизнь, повествование не доводят до революции. Незаконченные какие-то темы получаются. Кем бы ни был герой когда-то, для нас он будет оправдан, если в наши дни он изменится и перевоплотится.
Позавчера я просматривал Андреева, и когда я прочел только три слова , то, клянусь, по какой-то нелепой ассоциации, мне вспомнился австрийский офицер, который допрашивал меня в комендатуре через переводчика и переводчику же приказывал по-немецки:
– Ударьте его два раза по лицу!
Переводчик, учитель нашей гимназии, бил меня и объяснял:
– Герр комендант интересуется, куда делись солдаты в штатском платье!
Нелепейшая ассоциация!
А все дело в том, что у австрийцев была серая форма, в том, что я дурак и, кроме того, в том еще, что я прочел только три слова. Нелепо.
Мысли о незаконченности старых рассказов приходят ко мне при каждом чтении, мне снятся окончания старых историй, но я не помню ни одного конца, то ли я просыпаюсь раньше времени, то ли забываю их со сна…
Память вообще стала путать меня. Вот я не помню, что это я читал давеча, над чем это я заснул, когда доктор Шендерович, у которого я живу, разбудил меня среди ночи.
– Вас просят к Виктору, – сказал он, – ему плохо. Идите, дружок, идите. Нужно пойти.
Я дрожал спросонья, хоть было тепло. Я проснулся сразу, сразу сел на постель, но доктору пришлось несколько раз повторить свою фразу, пока я понял ее.
– Да, – сказал я тогда, – дела, видно, плохи. Кто звонил – Булкинша?
– Должно быть, – ответил доктор, – целая истерика по телефону. Идите, идите. Нужно пойти.
Я натянул штаны, надел кожаную куртку на голое тело и пошел к Виктору.
Виктор Павлович – старый приятель моего отца. Лет двадцать тому назад мой отец служил с ним в имении помещика Радзилевича. Я, конечно, ничего не помню из того времени. Только пруд, разве? В имении был пруд и четыре лебедя в нем. На скамеечке у пруда я сидел на чьих-то коленях. На чьих? Кто нянчил меня? Кто возился со мной? Я помню это отрывочно, как строку. Как это поют?
Лебедин мой, лебедин, —
Лебедушка белая…
У Радзилевича было тогда еще одно имение в Новомосковском уезде Екатеринославской губернии, он это имение продал за восемьдесят две тысячи, а другое имение, наше – ну, то, где были лебеди, пруд, где отец служил, – он проиграл в железку и уехал за границу – в Берлин. Виктора Павловича он взял с собой.
В 1914 году, во время войны, Виктор Павлович вернулся. Он жил у нас на кухне, помогал моей матери таскать воду и варить обед. Это время я помню прекрасно. Он появился неожиданно и пришел в наш дом, как в свой родной. Он был оборван, бородат, и папа прятал от него водку. Наливка, вишневка, стояла у нас всегда на подоконнике, а с того дня, как Виктор Павлович поселился у нас, ее стали запирать в буфет, в верхнее отделение, которое мы называли голубятней.
Но однажды в воскресенье у отца собрались друзья из типографии и Виктора Павловича пригласили выпить со всеми. Он отказался.
– Не соблазняйте, – сказал он. – Не признаю. Зеленый грех.
Я помню эти воскресные выпивки у отца – я вертелся с матерью на кухне, остальных детей разували и сажали на большую деревянную кровать, чтобы они не кружились под ногами. Они играли с подушками. В комнате стоял дым, и все просили Виктора Павловича спеть. Он очень хорошо пел старые цыганские романсы о том, .
Нелепую, ужасно нелепую жизнь провел этот человек! Отец устроил его тогда накладчиком у плоской машины. Я говорил, кажется, это было в 1914 году, в пе-рвый год империалистической войны. Рабочие руки отрывали от земли, в деревнях не хватало работников, и родственники выписали отца и всю нашу семью в Курцево. Тогда мы расстались с Виктором Павловичем.
Я встретился с ним уже после революции в поезде-типографии 12-й армии, Красной армии. Он стоял у реквизированной плоской машины и накладывал сахарную синюю бумагу для газеты .
– Ничего, – сказал он мне, – работаем помаленьку. А ты, вижу, мерзавцем стал. Стихи принес? Поэт?
Я смутился, хотя в то время на моей совести не было ни единой строки.
– Нет, не поэт, – ответил я ему, – я пришел за литературой. Я просто так.
Нам не о чем было тогда говорить, и встреча наша, как все встречи в то время, просочилась сквозь жизнь.
Мы сошлись с ним снова в прошлом году. Я приехал в Москву учиться и поселился в кабинете у зубного врача. Я не знал, что Виктор Павлович в Москве, но однажды, во время политических споров, доктор Шендерович сказал мне:
– Рабочий человек каким был, таким и остался. Его не обманешь. У меня в амбулатории лечится один. Умнейшая голова! А попробуйте-ка его перетянуть на свою сторону.
Я взялся. Я до сих пор убежден, что человек ищет правды, и если очень хочешь, то можешь эту правду напомнить ему.
Так я встретился с Виктором Павловичем в последний раз. Он и тогда уже был нездоров. Увидев меня, он обрадовался и полез целоваться.
– Называй меня Виктором, – сказал он мне, – я хочу быть молодым, будем товарищами.
Он работал накладчиком у плоской машины в одной из плохоньких московских типографий. Мальчишки, которые начинали в один год с ним, заведуют полиграфическими трестами. Прошло двенадцать лет. Дюжина лет. Три года войны и девять лет революции. А он работал накладчиком у плоской машины.
– Вы, значит, знакомы, – сказал доктор Шендерович, видя нашу встречу, – это облегчает вашу агитаторскую работу.
Но я ответил:
– Нет, доктор, это мешает ей.
В тот же вечер я рассказал зубному врачу Шендеровичу, которого из вежливости все называют доктором, несложную биографию Виктора Павловича.
Так началась наша дружба. Я, доктор и Виктор Павлович, мы вместе пили, вместе спорили о русской истории, о качестве стихов, зубов и бумаги.
Все мы интересовались этими предметами и считали себя знатоками их.
В маленьких городах доктор дружит с учителем, со священником, так уже заведено, во всех книгах так. В Москве хороший человек ищет друга. Очень трудно найти в столице хорошего человека, трудней, чем в степи. В степи первый встретившийся обязательно хороший человек.
Виктор Павлович умирал. И я, и Шендерович знали, что идут его последние дни. Я шел к нему по влажным московским бульварам, и нехорошо было у меня на душе. Я не люблю смерти. Кто ее, впрочем, любит?
Он жил на квартире у вдовы профессора Булкина. Профессор умер, а жена его торговала на Сухаревом булками. Все поэтому были уверены, что Булкинша не фамилия, а прозвище. Профессора все забыли.
– Я не обязана, – крикнула она мне, – я не обязана быть сиделкой! Когда я буду подыхать, ни одна собака не наклонится! Я не обязана!
– Екатерина Петровна, – ответил я, – я тоже не обязан…
– Все не обязаны! – крикнула она еще громче. – Кто, скажите, пожалуйста, кто…– Она вдруг прислушалась, помолчала и сказала тихо: – Просит чего-то…
И вместе мы вошли в комнату к Виктору Павловичу. Это уже был не человек. Он ничего не видел и никого не узнавал.
– Виктор, – сказал я ему, – это я… Витя… Виктор Павлович…
Он рвал бумагу. Он просил газету, и когда ему давали – он рвал ее. Медленно, методично, как будто для дела, затрачивая последние силы. С бумагой в кулаках он и умер через полчаса после моего прихода.
Накрыв его простыней, я пошел домой за доктором Шендеровичем. Булкинша плакала и говорила о своей смерти.
По дороге домой я думал, что, действительно, скверно будет умирать жене профессора Булкина, думал о конце Виктора и все старался вспомнить рассказ, который я читал этой же ночью.
Помню, что я считал, как всегда, рассказ неоконченным, и у меня было много вариантов конца. И вот я не только забыл все варианты, я забыл даже рассказ.
Светало, но горели еще фонари, я старался вспомнить рассказ по вывескам: портной, столовая, часовщик, меха, овощная, гробы, кондитер, аптека, – и не мог вспомнить рассказа.
А у меня, я помню, были заготовлены прекрасные концы…
Как скверно, если плохая память, особенно у молодого писателя.
1926
Крылья в кармане
Кинематограф напоминает сны.
Дрожащие картины мягко текут под музыку, которую слушаешь глазами, вбираешь легкими и неведомыми путями пропускаешь в жилы. Кровообращение музыки в кинематографе – как во сне, во сне – как в кинематографе, – кажется органичным в часы демонстрации картин и сновидений. Если затаить дыхание, закрыть глаза и зрительно задуматься, очень легко можно представить, вернее, напомнить себе пульсацию этой музыкальной аорты.
Наши сны конкурируют с кинематографом. Молодость лишает меня возможности говорить о старой технике сновидений, но мне кажется, что только в последнее время вошли в наши сны наплывы, крупные планы и двойная экспозиция. И опять-таки – молодость лишает меня возможности спорить о том, кто у кого заимствует эти фокусы зрительной гармонии. Поэтому, должно быть, я и забыл, где узнал фантастическую, неправдоподобную историю Мартына Христорухова.
Сочинилась ли она мне во сне, утомительном сне, после целого дня газетной спешки и обиженных надежд?
Видел ли я ее когда-то на одном из бесчисленных экранов, познавая за четвертак душевную скуку тапера и расползание бархатных диафрагм?
Не помню, где я узнал эту историю.
Во всяком случае, время значительно переделало ее помимо моей воли.
Мартын Христорухов вышел на свет божий из Александровской больницы. Его сдали туда в дифтерите, в золотушных струпьях, в грязи какие-то цыгане. Они валялись по полу перед доктором, перед сестрами, умоляя забрать мальчишку. Когда же мальчишку записали и положили в соответствующую палату, цыгане исчезли, прихватив с собою двух больничных индюков.
И вот, выздоровев, восьмилетний Мартын прямо из больницы вышел на божий свет. Его едва не раздавил трамвай на божьем свете, его кляли прохожие и били кнутами кучера. Улицы божьего света показались Мартыну странными, извозчичьи лошади и битюги – незнакомыми, а если где и встречались палатки на колесах, то там продавали квас.
Побродив по божьему свету, Мартын проголодался, утомился, сбился с пути и, не зная иных мест, пошел обратно в больницу, где и остался на всю жизнь, где стал приемным сыном доктора Смертенко. Доктор сделал для него все. Воспитал его, отдал в гимназию, вывел в люди и умер.
И тогда во второй раз оставил Мартын больницу, во второй раз одиноко пошел в божий свет.
Двадцати лет, к началу войны, он завершил мечту своей жизни – окончил воздухоплавательную школу и попал в авиаотряд, где прославился мрачностью, черствостью и необщительностью характера.
До сих пор история точна и достоверна и по правде своей достойна быть не только предметом беллетристического рассказа, но и материалом для точных статистических анкет. До сих пор, ДСП [119]119
ДСП – до сих пор.
[Закрыть], как писали когда-то на полях школьных учебников.
ДСП.
А дальше идет невозможное.
Началось это в 1917 году, в августе месяце, в те времена, когда русская армия, по выражению великого человека, голосовала ногами против непонятной войны. Летчиками тогда назывались не только пилоты. Летчиками тогда звали еще дезертиров.
Мартын Христорухов стал дважды летчиком. Для того чтобы его не бросились догонять, когда он удирал из отряда, Мартын оставил в кабинке самолета все свои вещи и ложное письмо, в котором просил не ругать его за слабоволие, простить ему самоубийство, вызванное, как он писал, разочарованием в авиации.
Появление такого письма и дезертирство Мартына смутили очень многих, и есть люди, которые до сих пор думают, что летчик Христоруховтогда в самом деле умер, а все дальнейшее происходило с совершенно другим человеком. Однако верить этому трудно.
Трудно потому, что по прошествии десяти лет Мартын возник в Москве у здания какой-то высшей воздушной академии и пытался войти туда. Часовые его не пускали. Он упрашивал их, клянчил разрешение, утомительно и непрестанно, как нищий в южном городе. Называл красноармейцев и предлагал папиросы. Папиросы смутили часовых. И на всякий случай Мартына задержали для выяснения личности.
В комендантском помещении Мартын объяснил, что много лет тому назад он окончил эту самую академию, тогда еще просто воздухоплавательную школу, и теперь хочет видеть брата своего родителя и вместе с тем своего преподавателя, профессора Смертенко.
Профессор жил в саду, во флигеле. Мартына провели к нему, оставив на всякий опять-таки случай человека в саду. Опершись на винтовку, как странник опирается на посох, стоял этот человек под луной и сторожил Мартына.
Профессор с женой сидели на веранде и молча пили из блестящего никелированного самовара крепкий стариковский чай с мошками и букашками, обильно падающими на белую скатерть и светлую лысину. Мартына узнали, приласкали и оставили ночевать. Ему приготовили постель в кабинете профессора на широком кожаном диване. Потолок и шкафы кабинета были усеяны подвязанными моделями самолетов, и в полумраке модели казались коллекцией гигантских тропических бабочек. В углу, освещаемый скудным светом лампадки, висел старый образ Богородицы-троеручицы.
Перед сном профессор пришел в кабинет за книгами. Он не мог уснуть без книги – много уже лет прошло, и вошло в необходимость ночью, облокотясь на тумбочку, читать английские стихи Шелли или иностранную беллетристику. Днем профессор читал специальные книги и надевал очки. Беллетристику же читал без очков.
Он присел на постель к Мартыну и стал говорить с ним о жизни, о коллективах и ругал его за лошадиную, за цыганскую кровь. Мартын расспрашивал о воздухоплавании. Профессор увлекался и читал лекцию.
– Дядя, профессор, Анатолий Борисович, – вдруг сказал Мартын Христорухов. – Представьте себе, что идете вы по улице, или нет – по полю и видите в небе человека. Без всяких аппаратов отдельного человека. И видите, что он плывет по небу, ходит шагами по воздуху, останавливается – руки в брюки, никаких крыльев, никакого пропеллера…
Профессор улыбнулся:
– Но это же чепуха! Этого не может быть.
– Да я знаю, что не может быть, – перебил Мартын. – Я только так, для примера. Представьте, что вы увидели такого человека. Что бы вы сказали?
– Я бы ничего не сказал, – ответил профессор.
– Почему?
– Очень просто, Мартын. Потому что это чудо Господне. Что ж тут говорить?
– Чудо? – переспросил Мартын.
– Чудо, – подтвердил профессор.
И ночью, читая в постели на косноязычном, шепелявом языке стихотворную музыку Шелли, профессор сказал жене:
– А у Мартына появились странности.
Ночью Мартын исчез. И этой же ночью часовому показалось, что по небу прошел человек в картузе, с папироской в зубах и сплюнул в сад. Очнувшись, часовой клял свою жизнь, аэропланы и все, что может служить причиной таких чертовых видений.
Через несколько дней профессор получил от Мартына открытку с просьбой прийти к нему в гостиницу. Профессор пришел, и Мартын встретил его с иконой в руках. Это сразу же показалось профессору подтверждением старых Мартыновых странностей, и он смутился, так как совершенно не умел разговаривать с больными людьми.
– Я не верю, – сказал Мартын. – Я достал эту штуку для вас. Вы должны присягнуть на образе, что все, что расскажу я вам сегодня, будет погребено в вашей душе.
Профессор присягнул. Тогда Мартын схватил его за плечо и стал рассказывать, что он десять лет изобретал и уже изобрел летательный аппарат, который, помещаясь в кармане, дает возможность ходить и плавать по воздуху.
Мартын обещал раскрыть профессору тайну, задыхался и заставлял клясться еще раз.
Профессор дрожал. Больше всего в жизни он боялся судороги в воде, судороги в воздухе и припадочных на зе-мле.
А Мартын говорил, что продавать изобретение невыгодно – мало дадут и сделают аппарат обычным, как граммофон. Он говорил, что пойдет в деревню, в глубокую деревню, произведет там впечатление чуда и создаст религиозное движение.
Разбитый и расстроенный ушел от него профессор, думая о том, что Мартына нужно посадить в нижний этаж психиатрической больницы, не то он, чего доброго, еще захочет летать с верхних этажей. И профессор думал о том, что если бы он увидел летающего человека, он сам бы пошел за ним всюду, потому что это может быть или ангел, или гений, а гений – тоже чудо Господне.
И не знал профессор воздухоплавания, что у Мартына в самом деле был такой аппарат.
Мартын выбрал для начала самую глубокую и косную деревеньку. Называлась она Сельцы. Он шел со станции день, пока достиг ее. Мужики сидели на скамейках и на ступеньках перед школой. Был сход. Общее собрание лениво разговаривало, словно беседовали, а не выступали мужики. Мартын подошел к ним, попросил воды, напился и поднялся в воздух. Он остановился саженях в пяти над школой и крикнул вниз с ходу:
– Ну, что?
Было жарко, и мужики не повставали со своих мест. Только задрали головы и притихли, как во время речи.
– Здорово, – сказал один из них и выругался.
А другой крикнул Мартыну:
– С ярмонки? С балагана что ли?
Красная краска под тонкой кожей хлынула в лицо Мартыну, и со страха папироса выпала изо рта. Какой-то хлопец поднял окурок и закурил. Мартын на той же высоте пошел по воздуху куда-то прямо.
Деревня бежала за ним, подкидывая вверх куски земли, неспелые плоды и неистово гогоча.
Над рекой Мартын снизился и, вися почти над водой, сказал мужикам – они расположились невдалеке от него по берегу:
– Что вы, дьяволы! Христа не признали?
– Ах ты, стерво ярмарочное! – крикнул один с козлиной бородой, и вся деревня начала бросать в Мартына камни. Один камень попал ему в живот.
.
Другим камнем раздробили Мартыну голову. И, свалившись в реку, Мартын сразу пошел ко дну.
А по воде пошли мягкие шелковистые круги, как во сне или в кинематографе. С таких кругов и начинался сон или фильм про летчика Мартына, про старого профессора и деревеньку.
1927
Публикация Наталии Менчинской,
подготовка текста Елены Калло