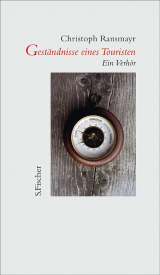
Текст книги "Признания туриста. Допрос"
Автор книги: Кристоф Рансмайр
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Разве так называемый хеппи-энд не есть столь же произвольный, сколь и вполне понятный обрыв рассказа, который вопросы вроде а потом, что будет потом, что было потом? торопят все дальше и дальше. Ну давайте, скажите мне: что слышится после свадебных колоколов? что происходит после осыпанного рисом отъезда в медовый месяц? и на следующий день? на будущий год? как же выглядит счастливая пара через десять, через двадцать лет? как выглядят их мало-помалу ветшающие спальни, комнаты, где они болеют и умирают? И какой дождь, или наводнение, или пьяный тракторист в итоге сровняет с землей даже их могилы? Или откуда дует ветер – с востока? с юго-востока? – который бросит в лицо провожающим высыпанный из урны пепел другого счастливца? Ну же, рассказывайте! Как бишь звали наследника, в конце концов построившего на приморском участке, который даже как погост давным-давно впал в забвение, лодочный сарай, хотя за всю жизнь не накопил денег на лодку?
Я ошибаюсь, или на сей раз у вас слегка вытянулось лицо? Только без сантиментов. Согласен, мне повезло. Три написанных мною романа, кое для кого явно смертельно скучные, снова и снова переводились на другие языки, пересказывались как бы по версии вавилонского чуда, пока из одной, двух, трех книг не возникла целая библиотека, а она в первую очередь и обеспечила мне роскошь неспешности, позволила уйти подальше, распрощаться, чтоб просто рассматривать все, что можно увидеть по пути или из окна какой-нибудь комнаты в Ирландии или в другом месте.
Когда я смог таким манером исчезнуть и начать полукочевую жизнь, мало-помалу – уже в силу растущей удаленности – по логике вещей стали редеть и литературные твердыни и обители, где я совсем недавно был гостем, восхваляемым, порицаемым, прославляемым, иной раз, как вы установили, критикуемым, а иной раз попросту таким, кого лишь снисходительно терпят.
Конечно, маршруты, которые надлежало преодолевать пешком либо исключительно пароходами и самолетами, тоже не всегда были простыми, но по сути они являли собой всего-навсего линии перспективы, линии схода жизни, каковая и раньше, много раньше и в совершенно других обстоятельствах, уже была весьма подвижной – хотя тогдашнее бродяжничество отражало всего лишь ту живость, с какой мне, как и любому из моего окружения, приходилось гоняться за средствами выживания, за деньгами.
Подобно большинству моих друзей и современников я тоже на первых порах упражнялся в этой гонке отнюдь не за письменным столом – в поле, у конвейера, на подсобных работах в строительных котлованах и в мастерских, то бишь использовал возможности, доступные для деревенского парня, который в летние и зимние каникулы хотел достаточно подзаработать, чтобы освободиться на весь оставшийся год, месяцами сидеть на лекциях в университете и писать – там же или в мрачноватом, плохо натопленном жилище без душа и горячей воды.
Кстати, в ту пору я порядком завидовал самодовольной гордости, с какой счастливчики, уже явно перекочевавшие в несколько более комфортные условия, перечисляли в автобиографических справках на книжных обложках или в каталогах личины своих прежних занятий: лесорубы, дорожные рабочие, матросы (конечно же они были матросами!), шахтеры, бармены, сталевары, санитары в морге и прочая, – пока им не удалось преображение, бегство в искусство и литературу, а то и в кинематографические кулисы; сплошь суровые предыстории, словно, хотя бы задним числом, надлежит подчеркнуть, что бытие художника на самом деле некогда тоже имело прочную связь с реальной жизнью, с жизнью большинства, с моей жизнью.
Когда же я летним вечером опять сидел за спиной у приятеля – на счастье, у него был мотоцикл, – направляясь к ночной смене на бумажную фабрику, расположенную выше по реке, в десяти километрах от моей родной деревни, и видел над головой окаймленное черным лесом звездное небо, лентой конвейера убегавшее в то самое открытое кафе, откуда мы, вздыхая и чертыхаясь, вот только что ушли, ничто не казалось мне более утопичным, более желанным и одновременно более недостижимым, чем зарабатывание на жизнь писательством, кудреватой прозой и беспомощными стихами, которые я кропал на так называемой бумаге для черновиков – пачки ее ежемесячно выдавали на фабрике.
Потом, когда случайные заработки по все более широким виткам спирали повлекли меня прочь, когда я как руководитель туристических поездок заучивал наизусть планы европейских городов, как шофер-сезонник перегонял в Сирию лимузины и, наконец, как независимый – даже чересчур независимый, потому что денег мне не платили, – корреспондент начал писать о тех или иных путях на просторы природы, а в итоге рассказывать, сочинять истории, я иной раз чувствовал себя так, будто угодил из огня да в полымя: ночи за письменным столом, дни за письменным столом, а в результате ни гроша гонорара и обанкротившийся журнал... В годы работы над первым романом, для которого выбрал знаменательное название “Ужасы льдов и мрака”, я время от времени даже разговаривал по телефону с кадровиками той электрокомпании, для которой не одно лето киркой и лопатой рыл ямы под опоры мачт высокого напряжения, – звонки были панические, просьбы дать возможность уйти от бездоходного писательства и вернуться к ручному труду. Свидетели? Да, есть и свидетели.
Различные формы странствий – сухопутные, воздушные, водные или пешие пути, остановки, даже совсем короткие, промежуточные, – стали для меня образом жизни, но мучительные формы скитаний, вроде бегства, эмиграции, спасения от беды, знакомы мне, к счастью, лишь в самых мягких, безобидных вариантах. Хотя должен признаться: частенько я удираю. Однако, удирая, не только оставляешь что-то позади, но и обретаешь новые перспективы, ракурсы, порой новые проблемы, ведь куда бы ты ни поехал и ни бежал, куда бы ни прибыл – на время или навсегда, – попадаешь не в пустоту, не в вакуум, там всегда что-то уже есть. И тем не менее с отъездом зачастую связано большое облегчение: все, что вот сию минуту казалось таким трудным, важным, обременительным, в том числе собственная работа, остается позади, съеживается, теряет весомость и масштаб. Выходя из самолета в Бомбее, в Лхасе или Пномпене, конечно же чувствуешь, конечно же чуешь, что оставил кое-что позади, не самые важные вещи в своей жизни, но все-таки многое имеющее значение только (только!) там, откуда ты приехал, – в сказочном краю, где даже титаны могут измельчать и в конце концов сделаться невидимками.
Смехотворно ведь на заснеженном сычуаньском перевале твердить о том, что в другом дальнем закоулке этого мира ты, стоя на сцене или на помосте, под аплодисменты собравшихся принимал значительную премию или орден на ленте. До чего отрезвляющее, а с другой стороны, упоительное ощущение – отказаться от многого, что возвышает тебя или защищает и все-таки, в совершенно не поддающихся планированию, может статься, даже счастливых обстоятельствах и даже в падении, ощущать, что не только в знакомом окружении, но и там, где, как ты думал еще перед самым отъездом, ждет лишь опасное, чужое, неведомое, тебя наверняка встретят люди, обнимут, поддержат.
По-вашему, все это вопрос денег?
Повторю: первые свои путешествия, на Ближний Восток, я совершил как шофер-сезонник, перегонял лимузины богачей на автостоянку, которая здорово смахивала на участок пустыни, была обнесена электрической изгородью с колючей проволокой и охранялась вооруженными сторожами, потом задешево перепродавал обратные авиабилеты, забронированные сирийскими заказчиками, и автостопом, а порой и пешком, как отбившийся от группы паломник, возвращался в Центральную Европу. Позднее, став репортером, я тоже путешествовал исключительно своими силами. По крайней мере, так я ни разу не поддался соблазну спутать какое-либо реальное свое путешествие с пригрезившимся. Конечно, в дороге мне обычно снятся более яркие и драматичные сны, нежели в любом защищенном месте, но уж тут я лучше, чем где бы то ни было, различаю границы меж грезой и реальностью, а заодно, хоть и скрепя сердце, изучаю приемы расставания. Ведь расставание с дорогими людьми или даже просто с хозяевами дома конечно же зачастую наводит печаль, и именно науку расставания должно в дороге усвоить первым делом. Кто не умеет прощаться, тот никогда и ничего не осилит, никогда не отыщет дорогу и никуда не доберется.
Что я беру с собой? Что привожу обратно из этих и прочих странствий и всегда вновь беру с собой? Пожалуй, определенный иммунитет к вере в иерархичность культур и народов, а еще определенный иммунитет к идеологиям и всяческим догмам. Понимание, что существующее не может остаться навсегда и что главное – осмыслить, в каких условиях и по каким непрерывно меняющимся законами совершаются перемены.
В самом благоприятном случае до счастливого возвращения к письменному столу можно сберечь и сознание того, как сильно и как бурно меняешься сам, когда преодолеваешь инерцию и робость и из своей самоуверенности отправляешься туда, где встретишь много совершенно иного, нового, где тебя уже не понимают и ты сам ничего не понимаешь, а оттого поначалу ходишь как чужак среди чужаков, причем не только в дальней дали вроде гор Японии или на Суматре, в Восточном Тибете либо в Амазонии, но уже в ближайших, хотя и не слишком легкодоступных высокогорных долинах Западных Альп или в глухой деревушке Паннонской низменности, – безъязыкий дурак, который не может ни над шуткой посмеяться, ни что-нибудь рассказать, а места, где останавливается, осваивает лишь с помощью собственной памяти, глаз и ушей.
Много ли я хожу пешком? Да, много. Как способ передвижения ходьба более всего отвечает моей натуре. Но я не открыватель и уж тем паче не покоритель. Почти все уже обмеряно, снято, нанесено на карты, однако по-прежнему во многом неведомо, что раскрывается в самом человеке, когда он шагает среди грандиозного, величественного ландшафта. Я не знаю способа передвижения, который бы так способствовал размышлениям, беседам, а в конечном счете и писательству. Ведь пешему пути свойственны еще и медленное, постепенное изменение перспективы, остановки и созерцание. Только благодаря этому возникает нечто вроде многослойной картины мира, материал для историй, рассказов. Красная нить, линия, ведущая сквозь все изменения темпа и перспективы рассказа, всегда представляется мне маршрутом пешехода.
Чтобы вообще добраться до отдаленных мест, какие я позднее отчасти описал, зачастую, разумеется, требовались катапульты, самолеты – “Туин-огтеры” непальских или новозеландских авиалиний... судно на воздушной подушке до Макау... – ведь пешеход тоже отнюдь не ортодокс, иной раз он позволяет метнуть себя из одного места в другое и лишь далеко в глуши вновь полагается на собственные силы и где-нибудь на архипелаге в южной части Тихого океана, в высокогорной долине Гималаев возвращается к привычному пешему ритму. Берет рюкзак. Шагает вперед. Рассказывает.
Что? Прочтите, пожалуйста, еще раз... Да, правильно. Точная цитата: Иозеф Мадзини часто странствовал в одиночку и, как правило, пешком. В пеших походах мир для него не уменьшался, а, наоборот, увеличивался и стал наконец таким огромным, что поглотил его. Первая фраза “Ужасов льдов и мрака”. Ясное дело, я до сих пор помню наизусть всю страницу. Хотите проверить? Я могу по памяти процитировать вам десятки страниц из моих книг. Неудивительно, при таком режиме работы, который, как это ни глупо, заставляет меня снова и снова повторять какую-нибудь фразу, какой-нибудь абзац, пока они не обретут окончательную форму, готовые спокойно кануть в забвение, да вот беда: по причине огромного количества версий они успевают накрепко врезаться мне в память.
Родство между Мадзини и мной?
Мы оба пешеходы, верно... однако же Иозеф Мадзини только персонаж моего романа, и тем, что мы оба пешеходы, сходство между нами исчерпывается. В остальном его жизнь выдумана – как и путешествие к исчезновению, путь в паковые льды высокоширотной Арктики. Погребенные подледниками острова Земли Франца-Иосифа, история открытия которой тоже излагается в этом романе, я впервые увидел через двадцать с лишним лет после того, как была написана последняя фраза “Ужасов”, летом 2003 года, с борта русского ледокола.
Тем летом я вместе с...
Что?
Правильно... вместе с моим другом Райнхольдом Меснером спустился по забортному трапу, а потом зашагал через паковый лед к берегам этих островов и оттуда, так сказать, в глубь истории, рассказанной десятки лет назад: столовые горы, свободная от снега седловина, где ископаемое дерево напоминало о том, что некогда эта укрытая льдами земля была субтропическим садом, может статься тем самым раем, о котором грезили ее открыватели... все было как в моем рассказе, знакомое и опять-таки несказанно другое. Странное чувство – из вымысла, из истории перейти в реальность, а не наоборот. Такое чувство я испытал и когда, к примеру, обнаружил в витрине оружейного магазина коллекционный экземпляр – снайперскую винтовку “Энфилд”; я никогда не держал ее в руках, но описал ее механику в романе “Болезнь Китахары”: в перекрестье прицела этого смертоносного оружия Лили, бразильянка, один из главных персонажей романа, ловит свою добычу и убивает с расстояния в несколько сотен метров...
Порой у меня действительно возникало ощущение, будто из собственных историй на меня того и гляди вывалится что-нибудь этакое, вроде еще кровоточащего фазана, граната или убитого зайца с фламандского натюрморта... Каково, к примеру, узнать, что перевод моего романа “Последний мир”, где затронута и судьба сосланного на Черное море несчастного поэта Овидия, в Румынии диктатора Чаушеску оказался под запретом: цензура усмотрела – в некотором смысле вполне оправданно – в римском императоре Августе намек на всемогущего (но в конце концов вновь возвращенного на землю расстрельной командой) великого кондукатора Чаушеску.
Конечно, “Последний мир” не был ни историческим, ни тем более постмодернистским романом и рассказывал не о римском поэте и не о каком-то конкретном обществе, однако в числе многих метаморфоз содержал и версию стародавней истории об искусстве и власти. Среди многого другого там говорится о бессмысленном, слепом в тоталитарных системах, скажем о поспешной верноподданнической покорности, которая способна истолковать небрежный жест сонного императора как приговор – к смерти или к ссылке... Варварство, жестокость, зверство лютуют не только в пыточных камерах и на полях сражений, но прежде всего в коридорах власти, за письменными столами, в канцеляриях и конторах, где реальная или мнимая господская воля комментируется, записывается и превращается в распоряжения, параграфы и всяческие легальные предпосылки для жестокой расправы...
Инцидент с румынской цензурой, конечно, смехотворен и мелок, но тогда я испытал прямо-таки ребячливое удовлетворение от того, что хотя бы один цензор распознал в оснащенной телефонами, телетайпами и множеством куда более броских анахронизмов античности моего пропавшего в ссылке Овидия свое настоящее, свою современность. Ведь в этом “Последнем мире” речь шла вовсе не о том, чтобы просто играть анахронизмами в духе довольно-таки унылой постмодернистской произвольности, но о том, чтобы с помощью сетки временных трещинок создать безвременье, всевременье – нарративное, а не историческое пространство, – и уже из него вести рассказ, используя все средства, служащие отчетливости и убедительности.
Современность? По-моему, я всегда писал только о современности, даже когда, как в “Последнем мире”, речь шла о ссыльном античном поэте или, как в другом романе, “Болезнь Китахары”, о нищем, обреченном воспоминаниям и искуплению захолустном поселке в послевоенной Европе, которая в таком обличье никогда не существовала. Но когда живешь полукочевником и работаешь в разных местах, так или иначе встает вопрос: каковы же на самом деле актуальные политические события, ведь мы смотрим на них с очень разных точек зрения? Какие это события? Здешние? Тамошние? Происходящие в западном Корке? В Зальцкаммергуте? На лаосском берегу Меконга? В бразильском Пернамбуку?
Современность... Во время последней на сегодняшний день войны в Афганистане меня, например, куда больше, чем мировые новости и стереотипные военные сводки с множеством стереотипных же, прошедших армейскую цензуру фотографий, интересовал устроенный в Ирландии спектакль, посвященный вечно живому прошлому. В Дублине перезахоронили останки десяти борцов ИРА, казненных более восьмидесяти лет назад. Во дворе дублинской тюрьмы “Маунтджой” произвели эксгумацию, поместили останки в новые гробы, которые огромная траурная процессия – при участии президента и премьер-министра – пронесла через весь Дублин, и вновь с почестями предали земле. Конечно, в те дни ирландские газеты тоже много писали о войне в Афганистане, но на первых полосах повсюду – повсюду! – красовались десять гробов, покрытых ирландским триколором.
Нет, я сам себе противоречу. И это, и прочие местные события не уводят от так называемых международных событий, наоборот, порой подводят к их важным проблемам – проблемам воспоминаний, вины, памяти. Я и теперь еще слышу рукоплескания, вспыхнувшие в ту минуту, когда эти десять гробов миновали ворота тюрьмы, под транспарантами с надписью “Free at last{17}” , и новые рукоплескания – поистине шквальные, – когда похоронная процессия двигалась мимо Central Post Office{18} , легендарной арены боев ирландской войны за независимость.
В январе 2000 года – в ту пору грамотная часть мировой общественности в виде исключения соизволила обратить внимание на мою родину, Австрию, на ее жуткое недавнее прошлое и сомнительное настоящее, даже на некую новую правительственную коалицию в Вене – я находился на севере Индии, в пустыне Тар. В районе Пхалоди, города в штате Раджастхан, как раз когда я только-только приехал, исламские (вернее, пожалуй, исламистские) фанатики до смерти забили топорами местного индуса-полицейского, потому что он по религиозным причинам хотел заблокировать транспортировку убойной скотины, то бишь не пропустить в Бомбей состав с крупным рогатым скотом: коровы сопровождали человека на его пути из безбожной, звериной дикости в мир прямохождения и потому священны... Армия и полиция готовились подавить ожидаемый погром.
Несколько дней спустя в джайсалмерской гостинице один из ирландских друзей сказал мне по телефону, что мирные переговоры между ИРА и столь же твердолобыми ольстерскими унионистами зашли в тупик и он опасается, что многотысячный список жертв ирландской гражданской войны, увы, продолжится. Ну да, а потом в “Таймс оф Индия” появились и сообщения из Австрии.
Когда я лечу из Корка в Вену через Амстердам или Лондон и на последнем этапе авиаэстафеты мне предлагают австрийскую прессу, где на первых полосах комментируются бородатые шутки какого-нибудь провинциального австрийского чиновника, я, не разворачивая, откладываю эти газеты в сторону. Подобные заголовки прокламируют карикатурный дремучий провинциализм, отнюдь не вызывающий у меня горячего интереса, пока слышны другие голоса или хотя бы привычный шум в ушах.
Исследуя, на что способен человек, вполне можно уразуметь, что изведано еще далеко не все – причем это касается не только страшного и ужасного, но и избавительного. Боюсь, общества, которое не подвержено варварству, по-прежнему не существует. И в путешествиях, конечно, сталкиваешься с этим фактом.
Авантюрная жизнь? Полная приключений?
Я? Искатель приключений? Романтические же у вас представления. Руал Амундсен, к которому ваши оценочные категории, пожалуй, куда более приложимы, и тот говорил о приключении как о “нежелательном нарушении серьезной работы”, “злополучном доказательстве, что никто не может учесть всех возможностей...” С авантюрностью путешествий я всегда мирился лишь по необходимости и лишь затем, чтобы достигнуть некой цели, по разным причинам особенно дорогой для меня и важной. Щекотку нервов, которую якобы обеспечивает прыжок в пропасть или головоломный путь по нависающим стенам, ледяным или песчаным пустыням, я всегда считал отражением жизненной скуки.
Нет, вы и тут ошибаетесь: мой друг Меснер, альпинист, покоритель восьмитысячников, бродяга, полярник, писатель, выбирайте любое название, ему они наверняка менее важны, чем вам, – мой друг Меснер вполне со мной согласен. Конечно, отдаленность, труднодостижимость, опасность разнообразных внутренних и внешних целей порой требуют идти через заоблачные горные хребты или высокие широты, во всяком случае через множество неожиданностей, но сам по себе уровень сложности не есть ни причина, ни цель путешествия, совсем наоборот, по мне, чем больше комфорта, тем лучше. Кстати, благодаря Меснеру я узнал не только пути во льды и в горные выси, но и несколько гостиниц из числа самых комфортабельных и расположенных в на редкость живописных местах, самых живописных, где мне доводилось останавливаться. Наша дружба имеет касательство к приключениям лишь в амундсеновском смысле. Началась она с недоразумения: прочитав мой роман “Ужасы льдов и мрака”, Меснер решил, что я бывал во льдах, может даже ходил к полюсу, и пригласил меня в экспедицию к южной стене Лхоцзе{19} .
Сперва, стало быть, пришлось объяснить, что я рассказываю не только о собственном опыте и собственной жизни, но и о жизнях, высотах и безднах, знакомых мне лишь с чужих слов, по воспоминаниям и мукам других людей. Разъяснение этой путаницы вправду открыло затем новые пути, точнее, воссоединило меня с собственным прошлым: благодаря Меснеру ко мне вернулось многое из того, с чем я в общем то успел распроститься, – высокогорье, безлюдные девственные ландшафты, кулисы всевозможных путешествий во времени. Ведь нынешнему туристу горизонт высокогорья является совершенно таким же, каким он виделся охотнику эпохи неолита, – лишь взгляд в глубину возвращает в сегодняшний день.
Я часто ходил с отцом в горы, поднимался на Хёлленгебирге и Тотес-Гебирге{20}, труднопроходимые высокогорные плато в верхнеавстрийских Известняковых Альпах. И когда раз-другой побывал у Меснера на Бург-Юваль, горы опять устремились ко мне, словно огромная волна скал, бездонных пропастей, но прежде всего воспоминаний, – и только потом, так сказать за ними, возникли более отдаленные края, куда я в одиночку или без меснеровского ободрения, наверно, никогда бы и не отправился: скажем, высокогорные долины Страны Кхам в Восточном Тибете, зимняя Долпо в западных Гималаях, джунгли Лаоса или столовые горы Земли Франца-Иосифа, паковые льды высокоширотной Арктики. Так я стал приближаться к картинам, о которых раньше только слышал или читал, например, к стаям бабочек в Тибете: вертикальные потоки теплого воздуха заносят их на огромную высоту, где они погибают, а потом заиндевелыми безжизненными хлопьями, кружась, падают на ледники.
Конечно, в походах и путешествиях с Меснером я порой оказывался на пределе сил, но одышка не была ни самоцелью, ни расплатой за бездумные спортивные амбиции, она просто-напросто сопутствовала моему любопытству, жажде образов, историй, заманчивому желанию добраться до верховьев долины, до высокогорного плато или до развалин древнего города, которых иначе не достичь, – добраться своими силами и в том замедляющемся, замирающем и в конце концов поворачивающем вспять времени, какое знакомо лишь пешемѵ путнику.
Вертолеты? Вы говорите, вертолеты? На вертолетах, особенно армейских, можно, конечно, долететь почти до любого места (правда, при условии, что оно лежит не выше шести тысяч метров над уровнем моря). Но я не служу в армии и спасать меня покамест не было нужды, однако что правда, то правда: путники минувших столетий даже подумать не могли о подобных – и сегодня тоже зачастую сугубо теоретических – возможностях спасения. В исходных условиях, понятно, есть разница, но заблудившемуся-то по-прежнему безразлично, опоздает ли спасение на два дня, два года или два века. Магическое, притягательное маршрутов в далекие края заключается не в их опасности, а в том, что, находясь в пути, ты остаешься наедине с собой, со своим временем, с тем, что ты есть, был или еще можешь стать.
По-вашему, это звучит слишком театрально? Гм... И мне теперь тоже так кажется. В подобных странствиях я вообще-то не просто открываю много нового, но в первую очередь многое открываю заново – картины собственной истории, порой удивительно похожие на то, что видишь в непальской, бразильской, тибетской деревне. Тогда меня охватывает ощущение, будто я очутился не только в дальней дали и на чужбине, но одновременно в странной защищенности, а вдобавок в собственной истории, и оттого я некоторым образом сохраняю присутствие духа, остаюсь самим собой – что за пределами этих дорог удается мне, пожалуй, лишь когда я пишу.
Имея выбор, я, конечно, даже в высокогорье и в пустынях по-прежнему предпочитаю карабканью и пробежкам неспешные переходы. Для восхождений на высокие пики и для странствий через пустыни у меня слишком слабо развита готовность к добровольным страданиям, да и уединенность на больших высотах и в знойных пустынях скорее мучает меня, нежели влечет. Скажем, мысль о том, чтобы в одиночку, как Меснер, подняться на Нангапарбат или на все четырнадцать так называемых восьмитысячников, повергает меня в ужас. А вот мысль рассказать о таком восхождении, наоборот, притягивает словно магнит.
А как с вами? Вам нужно все испытывать на себе? Ведь мы оба, в том числе здесь и сейчас, занимаемся примерно одним и тем же – задаем вопросы. Кто долго задавал вопросы, долго слушал, тот способен рассказать о мирах, где никогда не бывал и не будет.
Конечно, собственный опыт иной раз облегчает описание определенных деталей. К примеру, когда нужно рассказать, как на борту трехмачтового барка койка полярника – от сконденсированной и замерзшей влаги его же дыхания – превращается в ледяную пещеру, весьма полезно самому испытать, как после ночевки в палатке (зимой или высоко в горах) твое дыхание инеем сыплется с брезента. Однако опасность собственного опыта, в том числе выстраданного, порой заключена для рассказчика именно в том, что напряжение, боль либо эйфория мешают ему видеть свою историю... Пока он заворожен, а может, и потрясен недавними опасностями и мучениями или упоен счастьем, он вполне в состоянии – хотя, пожалуй, опять-таки слегка взахлеб, впопыхах – дать отчет о событиях, но не рассказать о них.
Пустыня? безлюдье? даже апокалипсис? По-вашему, это моя тема? Ну что вы, я ничуть не зациклен на ландшафтах гибели и распада. Представление о том, как мог бы выглядеть мир без людей, или о странном безлюдном покое, когда все уже решено и подписано, все в прошлом, никогда не было для меня самоцелью. Но мир без людей вполне сообразуется с обстоятельствами, какие долее всего господствовали на этой планете и в грядущем, по астрономическим меркам, вновь станут определяющими. Взгляд в далекое прошлое открывает совершенно такие же картины, как и взгляд в будущее: людей нет.
Безлюдье не кошмар, а нормальное состояние Вселенной и даже в истории Земли перспектива реалистичная, лишь изредка ужасная. Решив подкрепить цивилизационно– и культурно-исторический аспект своего мироописания, допустим, аспектом естественно-историческим, рассказчик ощущает резкое изменение скорости. Развитие в историческом пространстве вдруг предстает стремительно быстрым – вихревым! – по сравнению с темпами, например, геологических, а тем более астрономических процессов. Порой повествование может обернуться попыткой взаимосоотнести эти скорости во всем их невообразимом различии. Ведь это не значит объявить исторические масштабы несущественными, со ссылкой на некую математическую, физическую или метафизическую бесконечность, наоборот: судьба и жизнь одиночки именно в пустом пространстве видятся, как нигде, бесценными.
Меня часто удивляло, что, если просвещенные, начитанные люди, неравнодушные к человечности и социальной истории, позволяют себе бросить взгляд в доисторическое или в еще более отдаленные пространства, их нередко укоряют в мечтательности, в безобидной оторванности от жизни. Я никогда не понимал, как можно попросту не замечать столь приметную механику – восход и заход созвездий, бледные пятна галактик, удаленных на миллионы световых лет, и другие, более яркие световые послания, которые даже в наших ночных городах можно различить в бинокль, а то и невооруженным глазом. Вечно стоять спиной к огромному окну, за которым открывается потрясающий или чудесный вид, – нет, я бы такого не вынес. Смотреть в пространство отнюдь не означает, что ты отворачиваешься от исторических, политических или еще более мимолетных проблем, нет, ты как раз ищешь для них контекст. Конечно, масштабы, с какими сталкивается наблюдатель, просиживающий ночи напролет за телескопом – в Ирландии, в Мертвых горах или под менее замутненным небом Южного полушария, – порой внушают ужас, но ведь они никуда не денутся, не исчезнут оттого, что я повернусь к ним спиной или уткнусь лицом в подушку либо в документы торговых и политических предприятий.
Доведись мне выбирать инструмент, который, на мой взгляд, более всего необходим для меня: телескоп или телевизор, радио либо еще какое-нибудь средство информации, – я без колебаний отдам предпочтение простому рефрактору или шмидт-кассгреновскому телескопу. В ясные ночи этот вопрос для меня давным-давно решен, к тому же я неделями прекрасно обхожусь без радио, телевизора и газет – в конце концов, большей частью поблизости есть люди, которые опять же рассказывают новости из своего окружения: таким способом тоже узнаёшь кое-что о современности.
Роскошь? Конечно, это роскошь. Для меня нет большей роскоши, чем полностью располагать своим временем и, по возможности, подольше и без помех оставаться наедине, допустим, с работой рассказчика и многообразием ее перспектив. В городах я годами был только гостем и очень редко испытывал потребность, а тем паче стремился в битком набитые, предельно расползшиеся ввысь и вглубь жизненные пространства. Моя тема – человек-одиночка. И в чем бы ни заключалась его история, она куда отчетливее видится мне в более свободных пространствах, да-да, в том числе и в мнимых пустынях, нежели на переполненных площадях.
Хорошо помню холодный день ранней осени, когда я вместе с писателем Эйнаром Каурасоном бродил по каменистой исландской земле. Полнейшее одиночество, озаренное ледяным отсветом материкового глетчера, до такой степени возбуждало фантазию, что, когда мы сделали привал на голой седловине и вдруг увидели, как глубоко внизу возникли смерчи – десяток, а то и больше огромных, двадцати-тридцатиметровых пылевых вихрей, которые в пьяном, сумбурном танце кружили по охряно-желтой равнине, – я конечно же углядел жизнь, углядел в этих мечущихся столбах тучи насекомых, призрачные в ледяном отблеске, а не только пыль. И рассказанная Каурасоном исландская сага об изгое, история о человеке вне закона, о преступнике, который разрушил каменный путевой знак, в наказание за это лишился одной ноги и мог передвигаться, лишь кувыркаясь колесом, однако продолжал преследовать, догонять и убивать свои жертвы, путников в безлюдье... – на фоне таких декораций эта история показалась мне весьма прозаической.




