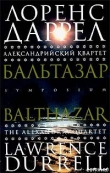Текст книги "Теода"
Автор книги: Коринна Стефани Бий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
– Но я, наверное, быстро соскучилась бы, – продолжала Теода, повысив голос, – и вернулась обратно в деревню.
Она с улыбкой погладила шелк ризы, укрывшей ее целиком, от подбородка до кончиков ног. Потом ее лицо омрачилось; она презрительно взглянула на нас, отвернулась и ушла в ризницу. Должно быть, она жалела, что здесь нет Реми, и он не видит, как она красива в этом одеянии.
Вернувшись, она натянула платье, которое так и не успело подсохнуть, и мы вышли из часовни.
Перед тем как шагнуть за порог, я подняла глаза к двум большим архангелам над алтарем: их черные зрачки сурово следили за нами. И тогда я поняла, что Теода разгневала небожителей, и испугалась – за нее и за нас.
XXI
ЯРМАРКА
Мужчины рыхлили мотыгами землю в садах. От этого Терруа казалось еще более обнаженным, и мы не знали, что делать с призрачным богатством весны, незнакомой с изобилием, подобной зову манка, требующему ответа. Грустно было думать, что она не может наступить сразу, тотчас же. Грозовой дождь, который подарил нам ощущение тела, окружив разбуженными ароматами и голосами природы, стал всего лишь первым, мимолетным предвестием лета, смутно маячившего где-то очень далеко впереди.
Как хотелось протянуть руку и опереться на что-нибудь надежное; увы, пустота лишала нас опоры. Моя протянутая рука не встречала ничего, кроме моей второй руки, а душа только и могла, что свернуться комочком и утешать самое себя. Луга с короткой щетинкой травы запестрели яркими низкорослыми цветочками, но и это не скрашивало нашего одиночества: слишком уж неуместно выглядели они на этой, еще не вошедшей в силу земле и слишком не похожи на нас. Однажды утром я заприметила в поле ласку и горностая: я глядела на них словно из другого мира. Видели ли их мои сестры и братья? Не могу сказать, понятия не имею. По вечерам мы собирались на площади, чтобы покачаться на доске, положенной на древесный ствол, но и тут были не вместе – наоборот, рассаживались по разные ее стороны. И одиночество ощущалось так остро, так больно сжимало горло, что мы теряли дар речи.
Сад Теоды тонул в зарослях сорняков. Но она и не собиралась расчищать его, это ее не волновало. Так же как не волновало исчезновение Барнабе. Однажды Эрбер спросил ее:
– Вы, я гляжу, не больно-то скучаете?
– Нет.
– А ведь теперь вы вроде как вдова.
– Очень может быть, – отвечала Теода.
Она говорила: «Видно, люди из Праланса подпоили моего мужа, и он во хмелю, да еще и слепой на один глаз, мог упасть в реку».
На июньской ярмарке моей матери пришлось самой покупать баранов: все мужчины нашей семьи отправились на поиски Барнабе. Мы с Роменой сопровождали мать. В этом году отцу не доведется побывать на ярмарке, а ведь он всегда привозил нам оттуда, если мы оставались дома, то конфетку, то свисток, то серпантин.
Город казался огромным, наводил страх. Пройти в его ворота с нашей скотиной, нашей бедностью, нашим убожеством – такое мы считали почти кощунством. Мы были робкими завоевателями, и осажденные это хорошо знали. Хозяева постоялых дворов зазывали нас к себе, выставляя на улицу полные бочонки, столы и скамьи. В перерывах между двумя сделками люди присаживались, чтобы принять решение, потолковать, опрокинуть стаканчик. И тотчас между ними возникало согласие. Или ссора.
– Да не о чем мне с тобой говорить! Отстань!
Мы узнали голос Марсьена Равайе; так громко он говорил в те дни, когда напивался. Он сидел позади нас, в окружении жителей Терруа.
– И не трогай меня! А то я тебе покажу!..
Эта угроза вызвала всеобщий смех. Реми, к которому она была обращена, вовсе не собирался до него дотрагиваться даже кончиком пальца.
– Если хочешь нарваться на ссору, то зря тратишь время, – сказал он, отходя от стола.
– Ага, все видали? Испугался, потому и ушел!
Люди снова рассмеялись: храбрость Реми была общеизвестна. Тем временем Марсьен взялся за другого, начав с неясных намеков; однако все понимали, куда он метит:
– А, Эрбер! Неужто это вы, месье Эрбер? – И люди повернулись в сторону Эрбера. – Говорят, вы к нам прямо из Терруа? Это где ж такое? В какой стороне?
Человек, которого он задирал, сидел молча.
– А знаете, как он бегает за юбками… Да-да, милые девицы! Гляньте, он совсем недурен собой, только вот малость прижимист.
Люди уже боялись смеяться.
– Да ладно тебе, отстань от него, – сказал наш кузен Эйсеб Марили.
– А еще он бегает за чужой водой… Когда наступает мой день поливки, глядь, он уже всю воду вычерпал для своих лугов. Ну смотри, если я тебя еще разок поймаю за этим, берегись у меня… Голову оторву!
Он было замахнулся, но его качнуло назад.
– Ты не очень-то дери глотку, Марсьен, – сказал Эйсеб. – Помалкивай лучше, я ведь тоже кое-что знаю.
Он говорил так внушительно, что ему поверили. Но Марсьен все еще цеплялся к Эрберу:
– А когда он жил на чердаке вместе с Дамьеном, то сколотил перегородку на галерее. Раздельная спальня для братьев, ха-ха! Бывают же люди, которым жалко для других даже своих вшей!
Эйсеб поднялся со скамьи, взял шляпу и подошел вплотную к Марсьену. Люди шушукались: «Не было бы беды, что-то он больно зол нынче!»
– Знаешь, Марсьен, тебя ведь уже подозревают в одном деле…
– В деле?.. Ну конечно, я ведь и занимаюсь делами!
– Что ж, смейся… веселись, пока еще можно.
Все ожидали, что Равайе сейчас бросится, навалится на долговязого Эйсеба всей своей кряжистой тушей, но он так и не двинулся с места. Хотя было ясно, что последнее слово он оставит за собой.
– Ну уж это дудки – когда мне приказывают смеяться, я больше не смеюсь.
Не помню, слышала ли мать, которая велела нам ждать ее здесь, пока она будет выбирать баранов, обрывки этой перепалки. Когда она вернулась, заключив сделку, нам пришлось уйти.
Мы шли, пятясь и таща за собой купленных баранов, а глаза наши все еще искали в ярмарочной суматохе Марсьена, который наверняка продолжал зубоскалить; однако намеки Эйсеба, которые звучали вполне невинно в людском гомоне, среди густой толпы, внезапно обрели в безмолвии пыльной дороги значение и вес, которые заставили нас размышлять до самого дома.
Нам чудилась в них какая-то угроза, и потому я была не слишком удивлена, когда случилось то, что я предчувствовала и чего боялась. Несколько дней спустя я подметала в комнате, как вдруг шум на улице заставил меня подбежать к окну.
– Что там стряслось? – спросила я у Селесты, стоявшей во дворе.
Она поднялась ко мне и ответила:
– Они пришли за Реми и Теодой.
Я выбежала вместе с ней наружу. Люди молча попрятались по домам. Два дня назад жандармы арестовали Марсьена… Вскоре площадь опустела, и только чей-то бесхозный мул бродил по ней, волоча за собой вожжи и бренча бубенчиками. Я глядела на землю в поисках следов тех, кого увезли, но их давно уже затоптали другие. Деревня казалась мне сейчас призрачной. Все, что я видела вокруг себя – эти дома и эти поля, – было всего лишь миражом, фантомом той, прежней, Терруа.
Селеста дернула меня за рукав:
– Ты никак переживаешь за них? – И поскольку я молчала, она захихикала: – За этих душегубов!..
Одетые в черное господа из столицы теперь часто поднимались к нам в деревню. Входили, не спросясь, в дома, задавали вопросы. Говорили, что Марсьен во всем сознался:
– Они столкнули Барнабе в Рону. Это случилось давно, еще два месяца назад.
Жители Шерлони стали наведываться по воскресеньям в Праньен. Хотя они нас и недолюбливали, но у нас с ними было много общего, и все, что здесь случилось, затрагивало и их тоже.
– Ишь устроили себе развлечение за наш счет! – злилась Сидони.
– Только этой швали тут и не хватало! – ворчала тетушка Агата; она презирала жителей окрестных селений, считая их людьми низшей породы, хотя они и жили по соседству с нами. Некоторые из них даже нанесли визит моим родителям, якобы из родственных чувств или симпатии, скорее притворной, чем подлинной.
Они возмущались: как это подобные преступления все еще совершаются в их родном краю. Мать слушала, но не отвечала. Угощала их хлебом, сыром, стаканом вина. И, посидев еще минуту, поднималась и выходила из комнаты.
Она сильно сдала. Глядя на нее, мы говорили: «Я буду такой же, когда состарюсь, и меня постигнут тяжкие горести», и эта перспектива пугала нас. Наш отец, тот с виду не очень изменился, – он и прежде выглядел пожилым.
Я не могла думать о Барнабе без угрызений совести. Почему, ну почему я не предостерегла его? В нашей привязанности к нему была доля пренебрежения, и мы оставили его одного перед лицом опасности. Он никогда не был, что называется, «весельчаком», и этого ему не прощали.
Однажды, совсем озлившись от происходящего, мы отправились за околицу подстерегать детишек из Шерлони. И когда они прошли мимо… О, теперь-то мне стыдно за себя, я знаю, что это отвратительно – бросать камни в людей. Наши недруги не видели нас, мы хорошо спрятались. Их девчонок защищали плотные юбки, но мальчишкам мы наставили на ногах немало синяков. Правда, и они отвечали тем же… Камни так и барабанили по стенам домов.
– Прокаженные! – орали наши враги.
Мы не оставались в долгу:
– Шерлонцы-пустозвонцы!
Мор попал камнем в ухо одному из них. Раненый бросился на нас, мы увидели кровь и испугались. Ромене острый камень разодрал плечо, она пришла в бешенство и стала швырять камни пригоршнями, не глядя.
– Ну, держитесь!
Однако нам все же пришлось отступить под градом их камней и ругательств.
В декабре месяце нам объявили, что Теоде, Реми и Марсьену отрубят головы.
Однако время шло, а новых сообщений все не было.
– Чего они ждут, почему не ведут их на эшафот? – дивились люди.
А потом в тюрьме родился ребенок, ребенок Теоды. Он выжил и получил нашу фамилию – Ромир. Зато его мать потеряла право носить ее, судьи вернули ей девичье имя – Теода Ровинь.
И был назначен день казни.
XXII
СТОЛИЦА
Я никак не могла поверить в Смерть. Та, что судьи назначили Реми и Теоде, была ненастоящей – какая-то притворная, театральная смерть.
Да они просто посмеются над орудиями казни людей, а их головы вновь отрастут на телах – не так, как у мучеников, а как бывает с коварными злыми духами. Какая безрадостная участь постигнет их, какие кары и муки ожидают их в ином мире? – подобными вопросами я не задавалась. Разве нам дозволено судить других? И разве это главное? Я ведь твердо знала, что они навсегда останутся вместе.
Однажды ночью вся деревня пустилась в дорогу.
– Они уходят… – сказала Ромена.
– Это те, кто идет пешком, – пробормотала Эмильена, которая вроде бы крепко спала.
Двери отворялись, их забывали прикрывать; шаги отпечатывали во тьме нашей комнаты план деревенских улиц, по которым нас вело воображение; однако, достигнув околицы, воображение сбивалось с пути и возвращалось обратно в дом, единственный из всех, который сохранял недвижное бесстрастие в этой суматохе.
Когда мы встали, улица была запружена телегами, битком набитыми людьми; мужчины и женщины сидели на досках, строго выпрямившись. Слегка встревоженные лица придавали этому отъезду оттенок бегства. Дети, проснувшиеся одновременно со взрослыми, махали вслед родителям, но те уже не отвечали, их взгляды устремлялись к столице. Из Праньена город не был виден, но нынешним утром все чувствовали, что он близко, что он сам как бы движется им навстречу. Меня терзала мысль, что в роковой час я услышу донесшийся оттуда крик.
Последняя повозка исчезла из вида, оставив нас в смятенном одиночестве. Теперь уже ни от кого не приходилось ждать подмоги. Я стояла на околице и вдруг услышала шаги за спиной. Не успела я обернуться, как тетушка Агата крепко ухватила меня за руку и потащила за собой. В ней чувствовалась сейчас такая лихорадочная, неистовая воля, что я тотчас покорилась.
– Мы наверняка опоздаем, – плаксиво бормотала она, еле переводя дыхание.
По равнине еще катила какая-то тележка. Тетушка взмахом остановила ее, и возница согласился взять нас обеих. При взгляде на старуху, неловко присевшую бочком на скамейке, с костлявыми коленями, остро торчавшими под черной юбкой, я вдруг поняла, какая же она рослая – тетушка Агата. Мне стало жалко ее, и сделалось больно от мысли, что она пошла наперекор благоразумному решению семьи, запретившему всем нам присутствовать на казни.
Телеги вереницей ползли по дороге. Я слушала звон бубенцов мулов, и мои угрызения совести развеивались. Воздух был так пронзительно чист, что исключал всякое смятение. Северный склон горы еще укрывала тонкая, ослепительно белая снежная корка, однако равнина уже золотилась, начинала розоветь, готовилась к новой жизни. Край Терруа простирался на возвышенности по правую сторону от нас, ярко освещенный солнцем, свободный от снега. Я испытала прилив гордости, видя, что все это – наши деревни, наши виноградники, наши поля, – стоит на настоящей земле, а не на горных льдах.
Когда мы въехали в город, на улицах толпилось столько народу, что дома показались мне маленькими. Порыв, толкавший вперед тетушку Агату, здесь тотчас угас. Она притулилась у стены и даже сделала вид, будто смотрит не в ту сторону, куда устремились все взгляды, а вдаль. На фасаде одного из зданий поблескивали большущие часы, но их стрелки не двигались.
– Это ратуша, – сказал нам какой-то мужчина. Я не поняла этого слова и решила, что оно означает тюрьму, и что Реми, Теоду и Марсьена выведут именно оттуда.
Ближайший переулок тоже был забит зеваками, вперемежку с лошадьми. Одна из них взвилась на дыбы, и я увидела два передних копыта, нависших над людскими головами. Кто-то вскрикнул.
Потом все успокоилось, и мы еще долго стояли в ожидании. Меня мутило от запаха толпы. Люди были не в воскресных нарядах, а в будничной одежде, день изо дня впитывавшей рабочий пот. Немного отвлекли меня голуби, безбоязненно сновавшие между нами. У одного из них на сером оперении ярко выделялось цветное, золотисто-зеленое пятнышко. Я смотрела, как это пятно при малейшем повороте птичьей шейки меняет форму, сдвигается и снова оказывается на своем месте.
Тяжелое, почти осязаемое безмолвие нависло над площадями, перегородило улицы, омрачило небосвод. Внезапно толпа дрогнула и зашевелилась. Я поняла, что она увидела осужденных. У людей заранее сложился их образ, и вот теперь он обрел плоть, превратился в двух реальных мужчин и женщину, которые оказались такими же, как они сами, так же дышали, так же двигались. И те, кто заранее ликовал, кто говорил, услышав приговор: «Ужо поглядим на них, на Теоду и Реми… Теперь-то они не станут важничать!..», пришли в растерянность. Мне стало страшно, я не хотела их видеть и зажмурилась. Но тут меня жестоко затолкали: сквозь толпу провели лошадей, потом она раскололась надвое, словно порушенная глыба, и в дальнем конце этой расселины я увидела Теоду, Реми и Марсьена, которые шли в мою сторону.
Теода шагала впереди обоих мужчин. Она была с непокрытой головой. Когда она проходила мимо нас, я узнала ее прическу, такую привычную, виденную мною столько раз: две косы, свернутые узлом на затылке, а в них, как и прежде, латунные позолоченные гребни затейливой формы. Она надела самое красивое свое платье и шла всегдашней, легкой поступью, о которой в Терруа говорили: «Идет, как на праздник». Одной рукой она брезгливо приподнимала юбку, оберегая от пыли, и этот жест приподнимал всю ее целиком над окружающей толпой.
– Теода Ровинь!
Она почти не изменилась. Разве что ее белое, матовое лицо стало чуточку бледнее, но скулы по-прежнему розовели, а на губах играла улыбка. Она бесстрашно смотрела на людей.
– Подумать только, ну и бесстыжая!..
– Сразу видать, не раскаялась.
Следом шел Реми, такой же невозмутимый. Только походка у него была более степенная, грузная, и он не удостаивал толпу взглядом. Он выглядел угрюмо-сосредоточенным.
– Вот он, Реми Карроз, Реми-гордец.
Меня жгла нежность, смешанная со злобой и горечью. Как же трудно мне было не любить их! Но толпа уже поняла, что пришла напрасно: Реми и Теоду ничуть не заботило то, чего все с нетерпением ждали, – для них не существовало никакого Наказания.
К этому никто не был готов. Их одурачили! И Правосудие одурачили! Жалость ко всем троим бесследно испарилась. Люди бежали следом, улюлюкая; двойной ряд солдат и трое священников, сопровождавшие приговоренных, едва сдерживали напор толпы.
Марсьен держался совсем иначе. Он низко, чуть набекрень, надвинул шляпу, почти скрыв полями глаза, а о цвете лица можно было догадаться только по неживой бледности рук. Казалось, ему причиняет боль каждая капля крови, текущей в жилах, и эта боль отдавалась в телах окружающих. Мог ли он предвидеть, что некоторые из жителей Терруа будут впоследствии почитать его как святого за чистосердечное раскаяние и муки, что они будут призывать его в трудные минуты своей жизни: «Марсьен, помоги мне!» И душа Марсьена, познавшая тоску и ужас смерти, спешила на помощь.
Он держался так же стойко, как двое других, но, если присмотреться, было заметно, что он то и дело пошатывается, а потом с усилием, точно поднимая тяжелый груз, вновь обретает равновесие.
Шествие остановилось перед ратушей. Начальник жандармерии и члены суда сели на коней, и все направились по улице, вымощенной каменными кругляшами, к часовне Святой Маргариты на берегу Роны, где был воздвигнут эшафот. Из высоких домов неслись приглушенные шепотки; за одним решетчатым окном мелькнуло смутно знакомое лицо, – кажется, это была девочка из тех, что приезжали к нам в коляске, запряженной осликом, но тут чья-то рука оттащила ее в полутемную комнату, и я успела разглядеть только люстру с черными подвесками.
Толпа несла меня вместе с собой. Дорога была усыпана песком, как на праздник Тела Господня, а может, это просто ветер нанес его сюда с берега реки.
XXIII
ЭШАФОТ
Вокруг эшафота уже сгрудилась другая толпа. Люди, пробравшиеся за спины самых важных персон, уповали на то, что часть зрелища достанется и им; другие, боясь ничего не увидеть, карабкались на деревья, и все ветви были усеяны, точно плодами, человеческими лицами.
Рядом с часовней простирался сад, от которого исходил сильный запах земли и корней. Трава еще сохраняла тот золотисто-желтый оттенок, что придавали ей осенние заморозки, но местами сквозь нее уже пробивались наружу молодые, зеленые пучочки, а забродившие в стволах груш весенние соки увенчивали их кроны изумрудным ореолом.
Туда-то и вошли Реми с Теодой, в сопровождении своих исповедников. Им не дозволялось видеть казнь Марсьена, и, не будь рядом нескольких жандармов, они могли бы вообразить, что находятся среди паломников.
Толпа безмолвствовала. Теперь, когда все знали, что сейчас произойдет, она больше не горела ожиданием. Ее обуял страх.
Все смотрели, как Марсьен всходит по ступеням на помост, где стояли палач и его помощник.
Он сложил руки и упал на колени. Никто из нас не знал, что он поверяет Богу, о чем думает. Толпа учуяла, что ей не дано проникнуть в эту тайну, и зашевелилась в злобном нетерпении. Затем он поцеловал крест, протянутый священником. Оба страдальца встретились в этом скорбном лобзании, и Христос взглянул на Марсьена так же, как на доброго разбойника, распятого вместе с ним.
Палач неподвижно стоял возле стула. Внезапно меня поразило его сходство с осужденным, но, пока я раздумывала, в чем оно заключается, одно из лиц уже скрыла черная повязка. Марсьена усадили на низкий стул с очень короткой спинкой и связали по рукам и ногам.
Мне рассказывали, что осужденные видят под этой повязкой куда больше, чем за всю прошедшую жизнь. Может быть, среди промелькнувших воспоминаний Марсьен уловил и остановил одно. Я тоже представила себе эту картину. Ему одиннадцать лет. Он собирает упавшие орехи на лугу Праньена. Трава намокла, и он возит по ней ногой, чтобы отыскать то, что ищет. Найдя орех, он пытается расколоть его ударом каблука, но скорлупа не поддается, вдавливаясь в рыхлую землю. Он бормочет ругательства. Потом хватает камень и бьет им по ореху. Тот оказывается пустым. К счастью, его карманы битком набиты другими… «Убирайся!» – кричит ему издали какой-то человек. «Орехи – они для всех!» – отвечает Марсьен, но все же уходит, продолжая попутно шарить в траве. Он возвращается домой. Кухня пуста, огонь в очаге погас…
Сознавал ли он близость толпы, откуда неслись жалостливые возгласы и молитвы? Я почувствовала себя в западне между двумя страхами и оглянулась. Многие зрители сбежали, заранее испугавшись жестокого зрелища; те, кто охотно сделал бы то же самое, но не мог выбраться отсюда, теряли сознание, оставаясь на ногах в плотном окружении людей. Я видела искаженные лица, и их бледность, такая странная под ярким солнцем, уподобляла сборище толпе мертвецов.
Палач подошел к председателю суда и протянул ему для осмотра свой обоюдоострый меч; сверкнувший отблеск лезвия больно полоснул нам глаза.
Казнь свершилась мгновенно. Голова скатилась. Тело Марсьена Равайе, залитое кровью, было сброшено с помоста вниз.
Потом пришлось ждать еще четверть часа. Пальцы тетушки Агаты мертвой хваткой стискивали мое запястье. Помощник палача вытирал стул. Палач накинул белый плащ и пошел за Реми Каррозом.
А в саду стояла весна.
Реми протянул руки, и их связали ладонь к ладони. Он даже не оглянулся на Теоду: она и так была в нем. Все, что он сумел узнать и сохранить в душе за свою жизнь, осталось в неприкосновенности. Он ничего не потерял. И никто ничего не смог отнять у него. Когда он ступил на эшафот, люди поняли, что такое Реми. Вся сила этого тела, помогавшая ему валить десятки елей, без устали преследовать серну или кабана, часами нести Теоду через лес, раскрылась в этот смертный час, хотя он ни единым жестом не выказал ее, – раскрылась в самом приятии возмездия.
Палач проявил непонятную медлительность – или то было колебание? – при последнем туалете осужденного. Ему отрезали волосы у шеи и ворот одежды. Ни солнце, ни люди так и не смогли распознать под густыми ресницами его сумрачные глаза, чей взгляд ни на чем не останавливался, и, когда на них легла черная повязка, лицо Реми почти не изменилось.
И опять сверкнул меч. И второе обезглавленное тело упало рядом с телом Марсьена, в ожидании Теоды.
Вот кого на самом деле ждала толпа. С того момента, как ее вывели и показали части зрителей, они думали только о ней, а те, кто мог ее рассматривать, уже не спускали с нее глаз.
Она рассеянно слушала шепоток своего исповедника, изредка односложно отвечая ему; все ее внимание поглощала толпа. Никогда еще на нее не обращалось столько взглядов, и она с улыбкой на губах искала свое отражение в каждом из них.
– У нее такой вид, будто она счастлива… – промолвила тетушка Агата. Какой-то человек рядом с нами наклонился к своему соседу и шепнул:
– Она ведь тоже незаконнорожденная. Сразу видать, что ей не нужно было и на свет-то появляться: такие красивее прочих и умнее, только жить по-людски не хотят…
Внезапно Теода заговорила.
– Ты здесь, Мари! – громко сказала она.
В толпе столичных жителей она разглядела девушку из Терруа. Потом добавила еще несколько слов, которые я не расслышала, как, наверное, и другие, которые пересказывали их впоследствии на все лады.
Когда палач пришел за ней, ее поведение ничуть не изменилось. Мягким жестом она отвела от себя веревку и, проворно опередив палача, пошла к эшафоту. Очень прямая и вместе с тем гибкая, она поднялась по ступеням, приподняв юбку и стараясь не замочить в лужах крови подол и башмаки. Подойдя к стулу, она села.
И все же она обернулась к трупам обоих мужчин, с немым призывом в глазах. Может быть, в этот миг она почувствовала себя совсем одинокой?
Палач вынул из ее пучка шпильки и гребни, которые поблескивали, точно ужи на черном лугу. Тяжелые косы упали вниз. Толпа вздрогнула. Только теперь ее хоть краешком, да коснулась интимная жизнь этой женщины. Возможно, Теода это ощутила. Возможно, поняла, во что сейчас превратится… В тот миг, когда палач приподнял и отрезал ей косы – с величайшим трудом, так как большие железные ножницы не справлялись с густой массой волос, – Теода выглядела уже не такой уверенной в себе.
Короткое дуновение весны пронзило ее тело. Она побледнела, с ее приоткрытых губ сорвался хриплый протестующий крик. Но меч уже отсек ей голову.
И ее тело упало на тело Реми.