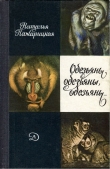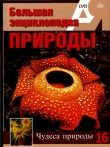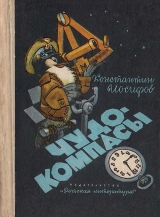
Текст книги "Чудо-компасы"
Автор книги: Константин Иосифов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Как определяет время клетка? Так же, как песочные часы, – по тем изменениям, которые происходят в ней самой? Или же как солнечные часы, которые отмечают сигналы времени, поступающие из внешнего мира?
Единого мнения тут тоже нет.
Когда крабов и их потерянные клешни помещали в камеры, где внешние условия неизменны, то и крабы, и их клешни продолжали менять окраску, подчиняясь прежнему ритму. Выходит, внутренние процессы следили за ходом времени, а не внешние, так как внешних сигналов не поступало.
А может, сигналы поступали, но мы о них не имеем представления?
Крабы не были изолированы от сил притяжения – гравитационных сил. Может, они почувствовали изменение гравитационного поля, связанного с появлением луны, как ощущает это океан, создавая приливную волну?
Календари не отрывные, однако…
Земля несется вокруг Солнца, и на ней проходят чередой четыре времени года: зима, весна, лето, осень. Организмы подчиняются этому ритму точнее, чем мы предполагаем.
Особенно точными должны быть дальние мигранты: чтобы ориентироваться в полете по небесным светилам, надо знать и час и день. И если бы ваш приятель капитан, оказавшись в шлюпке в просторах океана, забыл бы день месяца, то не привел бы он ее в порт назначения.
Следят ли за календарями наши пернатые путешественники? И как определяют они сроки отлетов и прилетов, гнездования и линьки?
Многие птицы – впрочем, как и другие существа – соблюдают календарные сроки довольно пунктуально: сроки прилетов и отлетов, гнездования и линьки.
В Калифорнии днем весны считают 19 марта – в этот день прилетают из Южной Америки ласточки.
Стрижи тоже любят точность – в Ленинград они прилетают обычно 15 мая, в Подмосковье – 17 мая.

Дальние мигранты прибывают поздно и улетают рано. Они соблюдают календарные сроки точнее, чем ближние мигранты, которые и прилетают рано, и улетают поздно, и летят недалеко. Ближним путникам ориентироваться по солнцу и по звездам не надо – они могут найти дорогу и по земным ориентирам. Сроки прилета и отлета ближних путников больше зависят от капризов погоды.
Однако как же дальние путешественники узнают, что пора отправляться на юг?
Или время лететь на север?
Небось вы уже думаете: «Очень просто. Становится все холоднее и холоднее – вот птицы и летят на юг. И прилетают к нам они не раньше, чем на месте возникнут условия для их существования».
Логично! Прекрасно! И это утверждение для всего вида, в общем, правильно.
Это верно, что грач не прилетит, пока на месте его гнездования не появятся проталины – погибнет грач-новатор, вздумавший прилететь раньше других. Поэтому-то и наступают грачи в северном направлении с такой же скоростью, с какой отступает снег – приблизительно пятьдесят пять километров в сутки.
И кукушке нечего делать в местах, где ее любимая, самая лакомая гусеница не достигла положенного размера.
Все это так… Однако это объяснение недостаточно для каждой отдельной особи и для каждого отдельного года.
Вдумайтесь…
А как грачи узнали за сотни километров, что на родине уже появились проталины? Кто сообщил кукушке, что гусеницы достигли нужных размеров?
Вы скажете: «Они почувствовали тепло на расстоянии и прилетели».
Но ведь тепло распространяется по прямой, а поверхность Земли кривая. Не почувствует птица, тепло или холодно в месте, которое находится от нее в сотнях и тысячах километров.
Дальние путешественники прилетают, не сообразуясь с теплом. Им все равно, какая погода на месте прилета; им важнее прилететь в нужный день. А погода – она сегодня плохая, а завтра хорошая. Разве в погоде дело, когда уже лето на носу?
Да, это верно, что птицы улетают на юг, спасаясь от холода и голода. Но это верно только в самом общем, большом масштабе.
Кулики появляются в умеренных широтах в больших количествах, когда местные птицы уже вскармливают птенцов. И песочники и ржанки улетают на зимние квартиры, когда в местах их гнездования еще не наступили самые теплые дни и запасы пищи только прибывают.
Зимует северная птица где-нибудь в тропическом лесу, в Южной Америке, или в Африке, или в Индии. Пищи сколько угодно, погода круглый год почти одинакова. Ночь почти не удлиняется, не укорачивается, день тоже, а птица вылетает точно в положенное время на север, ибо откладывать отлет ей резона нет. А то прилетит она, когда и места хорошего для гнезда не найдется, да и детишек не успеет выкормить.
Нет, не по температурным изменениям узнает птица, находясь в центре Африки, что в далекой северной тундре уже скоро начнет таять снег.
В те не очень далекие времена, когда еще не издавались отпечатанные типографским способом отрывные и прочие календари и не передавались по радио последние известия, люди узнавали календарные сроки по изменениям, которые происходили в окружающей природе.
Конечно, проще всего было высунуть голову из пещеры и посмотреть – не пошел ли снег?
Однако этот способ удовлетворял лишь несмышленую молодежь: ведь он говорил о погоде, а не о времени года.
Старики предпочитали присматриваться к поведению животных.
По прилету и отлету птиц, по зацветанию растений, по началу и концу линьки зверей можно, при некотором опыте, определить, не только какой сейчас месяц, но и какая неделя и даже число.
Очень пунктуально – с точностью до дня! – соблюдают календарные сроки некоторые живые существа, а особенно великие путешественники.
Говорят, птицы узнают время отлетов и прилетов по появлению и исчезновению пищи. Как только пичуга обнаружила, что исчезли любимые гусеницы, так и готовится к отлету.
В самом общем, конечном счете это верно. Но этот ответ тянет за собой новый вопрос: а как гусеница узнала, что ей пора окукливаться?
Отвечают так: по похолоданию. По тому, что света стало меньше и листья начали желтеть.
И это справедливо – ничего не скажешь.
Но ведь не каждый год погода бывает одинакова в один и тот же месяц, в один и тот же день. Однако многие птицы соблюдают график и каждый год вылетают в срок.
Нельзя по неточным часам узнавать точное время, не могут неточные календари указывать точно число. Тут что-то не то!
Говорят и так: все зависит от количества инфракрасного света, которое получает животное. Инфракрасный свет проникает через облака и через туманы. По нему птица и определяет время прилета и отлета, гнездования и линьки.
– Наличие витаминов в рационе птицы – вот решающий фактор!
– Решающий фактор – это количество жировых отложений в птице, поскольку жир – это основной энергетический ресурс, позволяющий птице совершать такие далекие перелеты.
Видимо, правы и те, и другие, и третьи. Все факторы вместе зависят от главного – от количества света, которое получают птица и окружающий ее мир.
Определяет же этот момент птица по продолжительности дня.
Нужно думать, птица и летом и, находясь на чужбине, зимой следит за солнцем. И как только обнаруживает, что день стал короче положенного, она отлетает.
Достаточно точные часы для замерения длины дня при подобном уточнении календарных сроков у нее есть. Это мы уже обнаружили.
Однако хотелось бы проверить это опытным путем.
На Куршской косе такие опыты проводятся давно. Они под силу и вам.
Птиц сажают в камеры, куда не проникает солнечный свет, и зажигают в них электрические лампочки, которые горят дольше, чем светит солнце в этот период. Искусственный день в камере оказывается длиннее нормального. И тогда птицы обманываются.
При желании календарь можно перестроить настолько, что осенью птица полетит не на юг, а на север, решив, что сейчас весна, а не осень.
И тут напрашивается каверзный вопрос: а как же все-таки так получается? Биологические часы определяются продолжительностью солнечного дня, а продолжительность дня измеряется биологическими часами. Если птичьи часы устанавливаются по продолжительности дня, а потом птица по показаниям этих же часов измеряет продолжительность дня, то ведь это все равно, как если бы человек, вздумав замерить длину палки, разрезал бы ее на десяток равных отрезков и потом сказал бы: «Я знаю длину палки. Она равна десяти отрезкам, каждый из которых равен одной десятой длины палки».
Если бы горе-штурман, выйдя на капитанский мостик, взглянул бы на солнце, поставил бы свой хронометр по высоте солнца, а потом стал бы выяснять широту и долготу места по показаниям этого хронометра, то не довел бы он до гавани корабль.
Чтобы определить продолжительность солнечного дня по внутренним часам, необходимо, чтобы у птицы были часы, способные следить за ходом времени независимо от положения солнца на небе, часы, которые показывали бы астрономическое время.
Ученые помещали птиц в закрытые камеры, где постоянно и днем и ночью горел свет, и следили за тем, когда заснут птицы. И птицы засыпали в одно привычное для них время с точностью до минуты.
Видно, есть у птиц часы, поставленные по солнечному времени, но работающие независимо от солнца. Без подобных часов невозможна никакая навигация по небесным светилам.
Однако подобных исследований проводилось пока еще мало.
Известно, вдоль Куршской косы пролетает огромное количество птиц – миллионы в день. Случается здесь и так: птицу поймают, окольцуют, запишут, когда она была поймана, и тут же выпустят. Через год птица снова прилетает сюда, и снова попадает в сети. Наблюдатели находят по номеру на кольце запись в журнале и узнают, что этот стриж или мухоловка побывали здесь, в их руках, год тому назад. И что она была окольцована в тот же самый день.
А через год – та же история. Опять эта же птица попала в ловушку в тот же день.
И тут возникает еще одно деловое предложение.
Многие ученые и многие ребята ведут фенологические наблюдения: следят, записывают в журналы, когда появились первые грачи, первые скворцы и прочий пернатый люд, когда пропел свою первую весеннюю песенку зяблик, и когда начал строить гнездо соловей, и когда что зацвело.
Все это хорошо. Не будь таких наблюдений, многого не знали бы ученые из жизни птиц.
Однако нужны и другие наблюдения.
Известно, некоторые виды птиц склонны растягивать прилет на целый месяц или того больше. Но значит ли это, что одна и та же представительница этого вида прилетает каждый год в разное время?
Наблюдения обычно проводятся над всем видом, а не над отдельными птицами, поэтому-то и получаются такие растянутые сроки. И если бы люди чаще говорили бы не «скворцы прилетели», а «наш скворушка прилетел», да каждый раз записывали точные сроки его прилетов и отлетов, а потом сопоставляли их из года в год, то и птичьи календари были бы лучше изучены.
И не потому подобные наблюдения почти не проводятся, что они так уж неинтересны и ненужны! Наоборот! Они и необходимы и интересны, но чтобы провести их в большом масштабе, не обойтись без армии наблюдателей.
Отсюда возникает предложение: возьмитесь за это дело и помогите орнитологам.
Для начала окольцуйте скворцов, живущих на соседнем дереве, или ласточек, прилепивших свои гнезда под застрехой дома. Легко проводить наблюдения над мухоловками-пеструшками, аистами и над птицами, которые сооружают гнезда в дуплах деревьев.
Конечно, было бы неплохо получить кольца с номерами из Центра кольцевания, но поскольку кольца там дают только тем, кто зарекомендовал себя хорошей работой, придется для начала обойтись «слепыми кольцами» – кольцами, на которых не указаны адреса и номера. Кольцевание – дело нехитрое. Но так же нехитро испортить птице всю жизнь, если надеть неудачно кольцо. Вот почему надо, чтобы этому искусству научил вас человек сведущий.
Итак, вы отметили каким-то образом своих птиц, записали день отлета. Теперь ждите весны, а весной постарайтесь не пропустить день прилета каждой из них. Осенью записывайте день отлета.
Однако учтите: жизнь птицы полна опасности. Много их погибает при перелетах, и от встреч с хищниками и с ребятами, которые выражают интерес к живому миру тем, что убивают его представителей, и от разных бурь, непогоды.
Данные о сроках прилета одной какой-нибудь птицы за много лет были бы вкладом во взрослую науку.
Ждать! Ждать!
Вы скажете: «Ой, как долго ждать!» Да, ждать долго. Но такова профессия биолога: он должен научиться терпению, умению ждать и бодро сносить неудачи.
Ждать часами, притаившись в шалашике, у гнезда какой-нибудь пугливой пичуги, боясь пошевелиться, чтобы отогнать комара, который, воспользовавшись случаем, старается высосать кровь из биолога-наблюдателя.
Ждать месяцами, когда в каком-то неизвестном поколении фруктовых мушек-дрозофил появятся признаки, которые он исследует.
Ждать годами, пока на веточке сибирской сосны, больше известной под названием «кедр», привитой к обычной сосне, не вырастут кедрососновые шишки. Десятилетиями ждать, когда из кедрососновых орешков вырастут кедрососны – чудо-деревья, чудо-гибриды, в которых, возможно, будут, а возможно, не будут сосредоточены самые замечательные свойства сосны и кедра.
И хотя лесовод этот не уверен в успехе и знает, что ему не дожить до того времени, когда кедрососновые рощи переберутся через Урал и зашумят там, где недавно были пустыри, и он вовсе не рассчитывает, что люди, щелкая и похваливая кедрососновые орешки за их удивительный вкус, испытают хотя бы чувство благодарности к нему, создателю этого замечательного гибрида, – он все равно хлопочет, спорит, волнуется, ночей не спит, беспокоясь за судьбу своего детища.
Нет, не выйдет хорошего биолога из человека, который не умеет ждать, и из человека, для которого главное: «А почему, скажите на милость, Лешку премировали, а меня нет? Ведь это я придумал, а Лешка всего-навсего технический исполнитель».
И если у тебя нет терпения и способности изо дня в день выполнять неинтересную и, казалось бы, ненужную работу и ты не собираешься развивать в себе эти качества, то мой тебе совет: не начинай никаких биологических исследований! Ты все равно ничего не достигнешь.
Впрочем, без этих качеств невозможна никакая серьезная работа ни в одной области. И даже билетный контролер на футбольном стадионе долго не продержится на своей работе, если он готов заниматься только тем, что интересно и заманчиво.
Так уж лучше развивай в себе способность выполнять неинтересную работу, сознавая, что результаты, может быть, последуют очень и очень нескоро.
От исследований же не отказывайся.
Но вот, проявив некоторое терпение и умение ждать, вы выяснили, пунктуально ли птицы соблюдают сроки прилетов и отлетов.
Следят ли за луной?
Однако пока еще не найден ответ на вопрос: а по каким таким признакам животные узнают наступление календарных сроков? Может, по фазам луны?
Что ж, и такое предположение существует. Лунные календари играют большую роль в жизни организмов.
Нет сомнения, любовных шепотов луна слышала куда больше, чем солнце, или какой-нибудь фонарь, или даже электрический прожектор.
Да и самой луне посвящено много вдохновенных строк – и о том, какая она волшебница, и как лунный бес завораживает людей, и какие замечательные огоньки она зажигает в глазах любимой, и какие блики наводит на воду.
Солнцу – хоть оно и светит собственным светом, а луна лишь чужим, отраженным, – возносят куда меньше поэтических восторгов, чем луне. Впрочем, это в порядке вещей. Многие предпочитают отраженный свет настоящему.
Лунные восторги присущи не только людям, но и многим другим существам. Многие и ориентируются по луне.
Взять, например, какого-нибудь морского червяка, обитающего в глубинах океан-моря. Ну какой из него поэт, скажите на милость, если у него и головы-то нет, а есть фитюлька какая-то, в ней и места для восторгов не найдется. Однако и это, с позволения сказать, живое существо способно откликаться на лунный призыв. Только, конечно, откликается оно в меру своих сил и способностей.
В этом заложен большой биологический смысл.
Велики морские просторы, огромен океан! Как встретиться паре в океане, если он и она находятся друг от друга за десятки метров или даже километров?
Надеяться на случай? Но так встреча может никогда и не состояться. А не будет встреч – вымрет весь вид.
Остается одно: уславливаться о месте и времени свиданий.
В процессе эволюции червячки нашли место свиданий – это поверхность воды. Ну, а время укажет луна. У луны есть фазы. По луне легче всего устанавливать сроки.
В море одни червячки поднимаются на поверхность точно в полнолуние, другие – в первые дни по новолунии. И именно в это время они светятся – так им легче обнаружить друг друга. И очаровать своим мерцанием.
И тут возникает один сложный вопрос: а как они, находясь на большой глубине, обнаруживают, в какой фазе находится луна? Неужели за много дней вперед выплывают на поверхность и следят за луной? Да и способны ли они видеть луну?
Или посылают разведчиков?
Или у них есть календари с лунным заводом?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужны исследования и исследования.
Очень мало изучено устройство биологических календарей.
Может, от тех далеких-далеких времен, когда наши предки еще не выбрались из океанских глубин на сушу, у них и осталось лунное томление и беспокойство. Оно и перешло к нам с незапамятных времен. С тех пор и пошли наши лунные восторги и способность видеть в лунном свете то, что не обнаруживается при дневном, не замечать того, что лезет в глаза днем.
Впрочем, не будем отвергать лунное очарование – способность обманываться тоже порой нужна.
И очень возможно, что великие путешественники уточняют время по фазам луны.
Вот почему, изучая календарные сроки разных жителей, отмечайте и фазы луны. И если вы обнаружите какую-нибудь зависимость от них сроков прибытия, то это будет ваше собственное открытие.
Загадки порождают загадки
Мы установили: «секстан» у птиц есть, точные «хронометры» есть, чувство календаря есть. Выходит, нет оснований отвергать теорию астрономической навигации птиц. Да, нужно думать, птицы, скорее всего, когда не видны зрительные ориентиры, находят направление по небесным светилам.
Сказано осторожно: «нужно думать», «скорее всего». И такая осторожность не случайна. Среди ученых многие признают за птицами способность к астронавигации лишь с большими оговорками, ибо не объясняет она полностью умение птиц находить дорогу.
Основные перелеты птицы совершают весной и осенью, когда порой неделями стоит непогода. И хотя не видно тогда с высоты птичьего полета ни неба, ни земли, многие птицы все же не отсиживаются на берегу, а продолжают лететь. Моряки не раз слыхали перекличку перелетных птиц даже в самые плотные туманы.

А бывает и так. Много дней подряд стоит над птичьим базаром туман, заволакивая землю и воду на сотни километров. Вытянет человек руку – и не видит собственных пальцев. А птицы продолжают кормить птенцов, им, птицам, нельзя устраивать перерывы, а то птенцы погибнут. Выныривает из тумана какая-нибудь чайка, поспешно сует рыбешку в клюв птенца и улетает на промысел за десятки километров в непроглядную муть.
Нет, видимо, не солнце, не звезды, не земные ориентиры указывают ей путь в это время.
А какие?
Природа многообразна и предусмотрительна. Она редко снабжает организм лишь одним средством борьбы за существование. Не могли бы птицы совершать свои путешествия, не могли бы выкармливать птенцов, если бы полагались только на один астрономический компас.
Скорее всего, птицы, так же как и другие путешественники, обладают целым комплексом, целым набором разных компасов, и, может, есть среди них и такие, о которых мы пока еще не имеем никакого представления, вроде того таинственного чутья, которое доводит до цели чукчу Лыноя через непроглядную пургу, когда исключены всякие зрительные ориентиры.
Таинственное, еще не разгаданное чутье подсказывает направление и летучей мыши при ее дальних странствиях.
Ученые хорошо изучили эхолокатор летучей мыши. Они знают, с какой частотой посылает она свои ультразвуковые сигналы – до двухсот в секунду, знают и как умудряется мышь при такой частоте не заглушать ими эхо предыдущих сигналов. И какую проволочку она нащупает своим эхом, и какую нет – проволочку диаметром 0,1 миллиметра «увидит», а на проволочку в 0,07 миллиметра налетит. И сколько комаров она может поймать за пятнадцать минут – 175 комаров!
Много чего знают ученые о способности летучих мышей ориентироваться при микропутешествиях. А вот как они находят дорогу при дальних путешествиях, этого никто сказать не может.
Ученые ловили летучих мышей – кстати, многие из них на зиму и на лето меняют места своих обитаний, – метили их и завозили за многие сотни километров.
Через некоторое время летучие мыши возвращались в родные пещеры.
Как они находили дорогу?
По эхолокатору?
Но ведь эхолокатор работает только на несколько десятков метров, да и летели они издалека, из незнакомых мест, незнакомыми путями.
По солнцу? Но ведь они летят ночью.
По звездам? Но ведь они подслеповаты.
Дьявольская сила исключена. Нет ее!
Остается одно – исследовать. Но увы! Не придуманы еще методы исследования комплексов дальней навигации летучей мыши.
Саламандр уносили за пять километров от родного ручья и там выпускали, предварительно пометив их и закрыв им глаза. И саламандры находили дорогу домой, хотя на их пути лежал горный перевал, закрывающий всякий доступ запахам и звукам.
Небесных светил они не видели, так как от природы подслеповаты.
Возможно, если бы нам удалось разгадать механизмы таинственного навигационного чутья летучих мышей, мы бы поняли и навигационные способности других великих путешественников.
Может, в мире насекомых получим мы ответы?