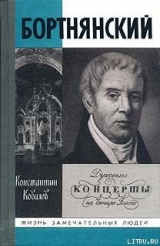
Текст книги "Бортнянский"
Автор книги: Константин Ковалев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Такой стиль искали многие. Экспериментировали, пересочиняли, перелагали.
Тот же Иван Коренев назидательно писал: «Если хорошо понимаешь его (многоголосное пение. – К. К.) – оно разум и учение; если же нет – то это лишь твои безумные выдумки и нет ничего доброго и злого в этих сочинениях».
Но Бортнянский взялся за дело более основательно, чем его предшественники. Он нашел пути и приемы, позволившие ему создать тот самый «перевод» с древнего на современный музыкальный язык, который не был ущербен ни для своеобразия русской музыки, ни для сознания современного певчего. Бортнянский ввел ритм и четкий размер для более удобного понимания и прочтения нот и тем самым выступил в роли подлинного учителя, раскрывшего богатства музыкального языка российской древности.
И все же это были пока еще поиски. В одиночку просто немыслимо создать идеальный вариант старинных церковных переложений. Для такого дела понадобятся усилия целых поколений русских композиторов. И они включатся в эту работу, привнесут в решение этой задачи свою благородную лепту.
Бортнянский же был первым из них. Первым, потому что частичные переложения иных авторов, какими бы ни были они удачными, не вошли так прочно и основательно в обиход русского певческого искусства, в обиход церковного пения. Лишь только с Бортнянского в бытность его на посту директора капеллы можно начать исчисление ряда имен, создавших современную основу церковного певческого дела России.
Особой любовью у композитора пользовалось одно песнопение, называемое «Херувимской песнью». «Херувимская» всегда пелась необычайно лирично, проникновенно, сердечно. И по мелодии, и по смыслу песнопение выражало стремление погрузиться в глубокое внутреннее созерцание, прийти в состояние душевного равновесия, оставить бытовые и житейские попечения и направить свои мысли для осознания предстоящей главной части службы – Литургии, приготовиться к истинному выражению, к достойному и собранному пропеванию песнопений и молитв. «Херувимская» играла роль своеобразной увертюры для последующих песнопений. Эта песнь была любима на Руси многие столетия и потому распевалась особо плавно, с большой любовью.
Дмитрий Бортнянский создал почти десять «Херувимских». Все они прочно вошли в сокровищницу православного богослужебного пения. Особенно же известна его «Херувимская» № 7. Исполняемая и поныне, она всегда поражала слушателей своей мелодичностью, внесенным в нее мастерским пером композитора своеобразным хоровым дыханием, переходами от совершенно неслышного, едва различимого единогласия к оглушительному торжественному многоголосию. Короткое песнопение это получило такую известность и распространение, что его включали в свой репертуар многие русские хоры, когда выступали не в церкви, а на сцене. И повсюду, где только оно ни звучало, слушатели выходили из залов потрясенные творением гения Бортнянского. Руководитель Республиканской русской академической хоровой капеллы, ныне покойный А. А. Юрлов, писал, что во время зарубежных поездок он всегда ставил в программу выступления прославленного коллектива «Херувимскую». Нередко звучит она и в наши дни. И, думается, так будет всегда и в будущие годы и даже века. Впрочем, вернемся в начало «века минувшего»...
Итак, Бортнянский взялся за переложение древних роспевов. А раз взялся, значит, и стал изучать. Для того требовались необходимые письменные источники. Изданных в Петербурге в 1772 году впервые «Печатных нотных книг» («Ирмолога», «Октоиха», «Праздников» и «Обихода») явно не хватало. В них содержалось многое, но далеко не все.
Не так уж и мало помнили и знали на память сами певчие. С детства они вытверживали наизусть те или иные варианты роспевов. Такие знатоки, как Тимченко, Турчанинов, Грибович, помогали достойно.
Но и такой помощи Бортнянскому не могло хватить. Требовалось погрузиться в глубину всего сохранившегося наследия, основательно вникнуть в структуру и систему древнего знаменного пения, древнерусского нотного письма.
Результатом этого погружения явились не только созданные переложения. В итоге длительной работы Бортнянского на свет появился еще один документ, загадочность и идеи которого будоражат умы ученых и по сей день. Документ этот нередко именуется «Проектом Бортнянского». На последующих страницах читатель еще познакомится со сложной, противоречивой и до конца не разгаданной историей указанного документа. Название же «Проект Бортнянского» пусть прозвучит пока хотя бы для краткости изложения.
Немало «белых пятен» в истории русской музыки. Еще больше – настоящих загадок, решение которых стало бы не просто значительным культурным явлением, но и поистине исследовательским подвигом. Одной из таких загадок уже на протяжении почти двух столетий считается документ, содержащий в себе мысли, связанные с судьбами древнейших музыкальных традиций, возникших и бытовавших на Руси, но затем, волею судеб, оставленных в забвении. Полное название этого документа таково: «Проект об отпечатании древнего российского крюкового пения».
Над несколькими страницами текста, которые составляют «Проект», стоит внимательно задуматься: ведь за ними стоит громадная эпоха, глубочайшее направление в музыкальной истории России, значение которых трудно переоценить.
Для того чтобы последовательно и скрупулезно разобраться во всей этой истории, состоявшей из цепи взаимообусловленных загадок, следует, пожалуй, начать издалека, с самого начала.
Известный исследователь древнерусской музыки А.В. Преображенский в начале XX века глубокомысленно заметил, что всякий народ пишет свою автобиографию в трех книгах: книге дел – в своей истории, книге слов – в своей литературе, и в книге искусств. И эта последняя написана особым, символическим языком.
Узнать характер народа, понять его быт, его историческое развитие, движение невозможно, не прочитав все эти книги. И мы бы считали себя крайне обделенными, если бы, скажем, знали литературу XIX века, но по какой-либо причине никогда не слышали современных ей великих творений М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского. И вот что удивительно – чем основательнее мы погружаемся в пучину веков, тем больше ощущаем различие в полноте содержания трех упомянутых книг. Летописи и документы хранят память о наиболее значительных событиях. История Руси в фактах всплывает с VIII столетия, а по данным археологических раскопок – с V—VI веков. Существуют и другие многообразные косвенные источники для реконструкции истории славянства. Находящаяся ныне в центре споров ученых так называемая «Влесова книга» еще более заостряет внимание к славянским древностям.
Вторая книга – книга литературы – на своих страницах разворачивает грандиозную панораму жизни наших соотечественников, начиная с первых же лет существования Русского государства. Уже со «Слова о полку Игореве», 800-летие которогоотмечалось в 1985 году, можно говорить о вершинных достижениях творческого духа подвижников древнерусской литературы.
Что касается книги третьей, то здесь дела обстоят несколько иначе. Сама эта книга распадается как бы на несколько частей. Это и живопись, и архитектура, и декоративно-прикладное искусство, и, конечно же, – музыка. Многие материальные памятники, разрывая путы времени, продолжают жить и сегодня. Но музыка – памятник не материальный. Как справедливо замечал в своих неопубликованных записках Г.Р. Державин, «музыка представляет предметы невидимые... изображает одно чувство сердечное и ничего телесного изобразить не может».
Способна ли музыка сохранить дух эпохи, донести до нас черты того далекого времени, когда зарождались первые традиции в истории искусств Древней Руси? Да, способна. Для этого существуют два пути. Путь первый – изучение устного народного творчества. Путь второй – прочтение нотных записей.
Ученые уже давно скептически относятся к попыткам ретроспекций в древность с помощью устного музыкального фольклора. Ведь первые записи его образцов были произведены лишь в середине XVIII века! Могла ли мелодия, скажем, за семь столетий, передаваясь из уст в уста, дойти до слуха записчиков в первозданном виде, неискаженной? Вряд ли. Слова можно поменять местами, даже можно пересказать текст по-своему, но смысл этих слов останется верным. Мелодия же искажается сразу, как только в ней появляются малейшие неточности...
Оставался и остается лишь один самый верный путь – второй – изучение древнерусской нотации. Но путь этот давно вывел исследователей на край громадной пропасти, мост через которую разрушен. Дело в том, что система древнерусской нотной записи почти не поддается расшифровке. Мы ныне можем воспроизвести мелодии по нотам лишь только с конца XV столетия. А что же ранее?! Разве ничего не было?! Было. И свидетельство тому – многочисленные рукописи и книги, испещренные сложными нотными построениями, своеобразной музыкальной грамотой, которую последующие поколения попросту забыли.
Трудно представить себе, чего бы мы были лишены, если бы до нас так и не дошло, скажем, «Слово о полку Игореве» или же «Слово о законе и благодати» Илариона, относящиеся к эпохе XII века. Предположим далее, что, имея на руках эти замечательные создания русского гения, мы не смогли бы их прочитать... Между тем мы совершенно лишены громадного музыкального наследия именно этого периода нашей истории! Мы знаем, как действовали, что думали современники князя Игоря, но не знаем, как и что они пели, что слушали. Как, например, пел тот же Боян?! А ведь он именно пел свои творения – «Слово» не оставляет в том сомнения: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити...» – и так далее. Неужели мы этого никогда не услышим? Неужели мы будем держать в руках омертвевшие книги, в которых начертаны лишь таинственные знаки, но уже нет мелодии!..
С этим трудно смириться. Столетия исследователи всерьез были заняты проблемой спасения музыки Древней Руси из плена забвения.
И если музыкознание уже обладает достаточным багажом для того, чтобы разгадать загадки нотного письма XI—XV веков, то каким же багажом мог обладать современник Д. С. Бортнянского, державший в руках ценнейшие источники, подавляющее большинство которых не сохранилось до наших дней! В том и заключается необычайная важность стоящего в центре нашего внимания «Проекта», что он появился в момент, когда раскрыть заветную шкатулку еще можно было без особого труда. Ведь еще были целы утерянные позже документы, еще живы были знатоки, способные указать ключ к расшифровке.
Не случайно совпадение времени создания «Проекта» с такими событиями, как находка «Слова о полку Игореве», как обращение к истории Н. М. Карамзина, в великом произведении которого – «Истории государства Российского» – приводятся летописные сведения о гениальном древнерусском иконописце Андрее Рублеве. Как мы знаем, единственный рукописный список «Слова о полку Игореве» погиб при пожаре в Москве в 1812 году. Не сохранилась и летопись с единственным (!) достоверным упоминанием о деятельности Андрея Рублева. И если бы А.И. Мусин-Пушкин и А.Ф. Малиновский не издали текст «Слова», если бы Н.М. Карамзин не включил дословно тот самый отрывок из летописи в свою «Историю», мы бы могли остаться в неведении еще на долгие годы. К счастью, этого не произошло.
«Проект», о котором пойдет речь, предполагал подобное же издание в области древнейшей музыки, но оно – увы! – не состоялось. Кто оценит невосполнимость этой потери?!
В мире существует не так уж много музыкальных систем. Но не так уж и мало, если учесть, что музыкальная система, как и языковая, не может строиться произвольно, а зиждется на твердых законах, которые нельзя просто выдумать из головы или учредить неожиданным указом.
Многие уже привыкли к нотной системе, где на пяти длинных, во всю страницу, линейках обычно наносятся круглые значки с вертикальными линиями. В зависимости от начертания этих круглых знаков и соединения вертикальных линий определяется длительность звука, его высота. Дополнительные значки на таком нотном стане определяют размер, в котором должна воспроизводиться мелодия, ее ритм, наконец, характер ее звучания: если грустно – то минор, если весело, задорно – то мажор. Для знания этого вовсе не нужно иметь специального музыкального образования.
Но если вполне возможно понять смысл прочитанного древнерусского текста, скажем, XII—XVII столетий, потому что структура этого текста и многие слова остались неизменными и по сей день, то музыкальную нотацию этого же периода куда труднее понять, а то не понять и вовсе. Почему?
Происходит это от того, что пятилинейная система записи нот утвердилась на Руси только к концу XVII столетия. До этого же в ходу была совсем иная нотная грамота. Никаких линеек не было и в помине. Для записи нот употреблялись специальные знаки. Их так и называли – «знамена». А так как музыка в Древней Руси была нераздельно связана с текстом и не могло быть и речи о том, чтобы она существовала сама по себе, отдельно, без слов, то и систему нотного обозначения целиком именовали так: «знаменное пение».
Знаменное пение, как мы уже знаем, было органичной частью миросозерцания древнерусского человека. Оно существовало параллельно с народной музыкой – песней, танцами. К великому сожалению, песни не записывались на ноты, они передавались из поколения в поколение изустно, на память. Знаменное пение требовало большей строгости и правильности в исполнении, потому что было связано с духовной жизнью людей, происходило из недр православной церкви. Поэтому-то его тщательно записывали, дабы не было ошибок и разногласий.
Если взять в руки старинную нотную книгу, то первоначально может показаться, что перед нами обычный древнерусский текст. В самом деле, начинается страница такой книги с витиевато выписанной заглавной буквицы. Затем идут обычные слова, предложения – словом, никакого намека на ноты. Но если внимательно присмотреться, то нетрудно заметить, как над каждой строкой текста терпеливая рука писца нанесла еще один ряд замысловатых значков, похожих на малопонятную грамоту. Это и есть древняя нотная запись. Такие ноты называли еще и «крюками». Крюки эти, непонятные для нас, прекрасно разбирал и по ним воспроизводил мелодию любой образованный россиянин.
Знаменная (или крюковая) нотация появилась на Руси после принятия христианства, в конце XI – начале XII столетия, под влиянием подобной же византийской традиции.
О появлении на Руси первых нотных певческих рукописей повествовала все та же Степенная книга, написанная во второй половине XVI века.
Существуют нотные рукописи и еще более раннего времени. Такие ноты вообще невозможно воспроизвести, если, правда, не считать, что по ним пели точно так же, как и по другим – «знаменным». В тексте книги нет никаких обозначений, кроме регулярно проставленных специальных точек, которые явно указывают на конец некой мелодической строки, а также упоминания в самом начале – к какому «гласу» относится песнопение. Видимо, переписчик такой книги прекрасно знал, что тот, кто будет ею пользоваться, разбирается в нотной грамоте не хуже его. А так как книги были редки и одной рукописью пользовались многие певчие, даже разных поколений, то можно сделать вывод, что музыкальное образование не было уделом узкого круга людей. Мелодии легко заучивались на память, передавались на слух.
Певческая традиция была быстро усвоена русскими умельцами. Прошло немного времени, и началась ее активная переработка. В результате чего на Руси и появилась совершенно новая крюковая музыкальная письменность, не встречаемая нигде более, даже среди славянских народов. Известный музыковед Ю. В. Келдыш, анализируя причины ее появления, пришел к следующему выводу: «Эта письменность сложилась не стихийно, не в результате отдельных случайных отклонений от византийской нотации, а явилась плодом сознательных и целенаправленных усилий».
С этого самого момента мы можем проследить удивительную закономерность и взаимозависимость в том, как «писались» упомянутые нами три книги жизни народа: история, литература и искусство. В периоды, когда происходили решительные изменения в государственной или политической жизни Русского государства, всегда возникали тенденции к изменению в области языка, а следовательно, и в музыке. Становилось на ноги крепкое христианское Русское государство, и тому способствовала новая славянская азбука, созданная Кириллом и Мефодием, и литература, базирующаяся на азбуке, а одновременно расцветала по форме и содержанию новая музыкальная грамота, свойственная переживаемому периоду. Если теперь вновь сделать скачок через время – в век XVIII, в самый его конец, когда создавался «Проект» Бортнянского, то заметим, что и тот век также подвержен указанной закономерности. Бурные изменения в государственной сфере, наполнявшие Россию с петровских времен, породили и культуру XIX века с ее литературным языком, пушкинской традицией в поэзии и прозе. В этот момент что-то должно было решиться окончательно и в музыкальном мире. Вопрос стоял остро: будет ли развиваться музыкальная нотная система исключительно по западному образцу, или же примет свои формы, естественно связанные с традициями древности, уходя корнями в глубокую структуру крюкового пения. Вот в чем также была величайшая суть «Проекта об отпечатании древнего российского крюкового пения», пытавшегося отразить важность этого перехода и внести в него необходимые коррективы.
Но не стоит отвлекаться. Посмотрим, что же представляла собою и чем была интересна древняя крюковая система, которую столь активно отстаивал автор «Проекта».
Знаменная нотация имеет громадное количество знаков – их счет в различных комбинациях можно довести до ста. Названия этих «знамен» имеют как греческие, так и (в подавляющем большинстве) чисто русские наименования. Среди них мы встречаем такие: «стопица», «голубчик», «статья», «стрела», «тряска», «запятая» и т. д.
Начертание знаков было предельно простым. Заучить их не составляло труда всякому, кто сталкивался с этой системой. Названия же знаков соответственно были очень близки к начертанию и зачастую брались по аналогии с предметами быта или окружающего мира. Вот, например, какие бытовали «естественные» начертания и названия крюков:

– крюк,

– чашка,

– подчашие,

– змейца,

– голубчик (голубь),

– палка,

– облачко,

– скамейца,

– мечик,

– рожек,

– стрела,

– сорочья нога.
Иногда в крюках или в их сочетаниях можно заметить своеобразную картинку, начертанную схематично и отражающую какое-то действие, событие:

– стрела с облачком.
Мы в самом деле видим изображение знака, будто стрела с оперением в ее хвостовой части летит по небу, «под облачком».
Другой пример:

– чашка полная.
Или еще:

– два в челну.
Здесь явно нарисованы две фигуры в лодке. И так далее...
Каждому знаку, конечно же, соответствовал определенный звук или даже сочетание звуков. Кроме того, в некоторых из них были «запрограммированы» длительность звука, его высота и характер воспроизведения. Последний мог быть четырех видов: «простой», «мрачный», «светлый» и «тресветлый». Звуковой диапазон, заложенный в крюках, отражал возможности тембра обычного человеческого голоса и поэтому соответствовал, скажем, звуковому диапазону настроя современной скрипки: от «соль» малой октавы до «ми» второй октавы. Каждый знак мог исполняться как «просто», так и «мрачно», «светло» и «тресветло». Наставления по певческому делу в доступных пределах разъясняли характер воспроизводимой мелодии, пользуясь приведенной выше терминологией:
«Крюк простой возгласить мало выше строки. Мрачный – мало просто выше возгласить. Светлый – мрачного выше возгласить. Стрелу светлую – подержав, подернути вверх дважды. Громосветлую – из низу подернути кверху. Голубчик малой – гаркнуть из гортани. Запятую изнизка взять».
На Руси последовательность церковного пения в зависимости от календарных недель, праздников регулировалась в рамках «осьмогласия». Попеременно, каждую неделю, песнопения исполнялись в одном из восьми гласов, по традиции, идущей еще из Византии и которую разработал еще в начале VIII столетия выдающийся песнотворец Иоанн Дамаскин. Запомнить все гласы, с учетом комбинаций крюков, было непросто. Для этого и вырабатывались «памятогласия», своеобычные стихи для запоминания осьмогласной последовательности. «Памятогласия» бывали простые и краткие, шуточные и серьезные. Порою их распевали перед началом занятий в певческих школах. Одна из таких «семинарских» попевок звучала так:
«У нас в Москве, на Варварской горе, услыши ны, Господи».
Здесь каждое слово соответствовало определенному гласу, как если бы мы привели аналогичную «считалочку», по которой дети запоминают цвета радуги: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», – где первые буквы слова соответствуют первым буквам названий цветов радуги.
Существовали и более подробные «памятогласия»:
1-й глас: «Пошел чернец из монастыря»
2-й: «Встретил его вторый чернец»
3-й: «Издалеча ли, брате, грядеши?»
4-й: «Из Константине града»
5-й: «Сядем себе, брате, побеседуем»
6-й: «Жива ли, брате, мати моя?»
7-й: «Мати твоя умерла»
8-й: «Увы мне, увы мне, мати моя»
Заучивание крюков не было простой схемой. В их начертание и значение вкладывался определенный нравственный смысл. Поэтому, когда составляли крюковые азбуковники и расписывали чрезвычайно усложненные и развернутые «памятогласия» (тоже с учетом первых букв и т.п.), всем нотным знакам присваивали некоторое философское значение.
В одном из пособий XVII века мы находим весьма полезные и важные пословицы-наставления:
Крюк простой – крепкое ума блюдение от зол.
Мрачной – крепкое целомудрие нам и надежа...
Стопица – смиренномудрие в премудрости...
С сорочьей ногой – серебролюбия истинная ненависть.
Голубчик – гордости всякия ненависть...
Змейца – земныя суетныя славы отбег,
Скамейца – срамословия и суесловия...
Мечик – милосердие к нищим и милость...
Фита – философия истины всегдашное любление.
Трудно представить себе, какой глубокий и многогранный смысл видел певчий в начертанной крюками знаменной рукописи. Приходилось не только понимать комбинации знаков, уметь их воспроизводить, но и должным образом осмыслить, а осмыслив, соответствующим образом доносить до слушателя.
Незримыми нитями были связаны и начертания крюков, и их звуковая гамма, и наставления к ним. Разве неудивительно, например, вот такое их взаимодействие, сочетание:
«Змейца», по аналогии с ее первоначальным прототипом – византийским апострофом, рисовалась, как мы уже знаем, следующим образом:

Пелась же она достаточно быстро в виде короткой мелодии, уходящей сначала вверх, а потом сразу же – вниз. Комментировалась «змейца» соответственно: «суетныя славы отбег»...
Рисунок «скамейцы» —

– символизировал обычную скамейку (не правда ли, похоже, что изображена скамейка на ножках). Этот знак называли иногда «беседкой», а беседка – это ведь место, где можно посидеть, неторопливо поговорить, – побеседовать. Поется «скамейца» как один низкий («простой») длительный звук (или два звука). В этой протяжности, успокоенности как бы скрыт смысл знака – «срамословия и суесловия отбег»...
Конечно же, за столетия крюковая нотация претерпела множество изменений. Появлялись новые ответвления, постепенно уходили в небытие старые. Самая древняя безлинейная нотация – «кондакарная» – быстро исчезала. Знаменная же система записи нот сохранилась в веках. Известны были такие ее разновидности, как «столповое знамя», «демественное знамя» или «демественный роспев» (возник на рубеже XVI—XVII веков), «путевое знамя» или «путь» (созданный в эпоху Ивана Грозного), «казанское знамя» (изобретено в честь взятия Казани войсками Ивана Грозного).
В разные времена возникали попытки создания и иных, как бы экспериментальных систем, но они кончались плачевно. Никто не проникался новыми веяниями, и эти системы оставались известны лишь самим их создателям или узкому кругу лиц.
Отчего же столь широко распространенная и в то же время глубоко укоренившаяся музыкальная азбука Древней Руси все-таки перестала существовать, в чем причина столь необычного явления?
Ответ на этот вопрос нелегок, но если не уяснить себе хотя бы общие его положения, то выявить суть замысла загадочного «Проекта» Бортнянского окажется невозможно.
«Сему же знаменному нашему пению и в нем развращению, речеи начало никто же никако же нигде же может обрести», – восклицал, скорбя душою и сердцем, замечательный знаток древнерусской музыки середины XVII столетия инок Евфросин. В своем «Сказании» он даже попытался эмоционально выразить причину такого упадка: «Мнози бо от сих учителей славнии во дни наша на кабаках валяющаяся померли странными смертьми и память их погибла с шумом». В самом деле, именно эти времена по сей день являются рубежом, отделявшим от нас древние крюковые роспевы. Именно в XVII столетии произошел, как определял крупнейший современный исследователь Н.Д. Успенский, кризис певческого искусства.
Тому было множество причин. Одна из них – так называемая «хомония»...
Словечко это не сходило с уст многих распевщиков и музыкальных деятелей на протяжении нескольких столетий. Произнесенное вслух, по-московски, с выговором на «а», оно звучало как «хамония», будто производное от корня «хам». И это не просто каламбур. Реальное действие хомонии в области знаменного пения можно сравнить лишь с «хамскими» действиями какого-нибудь переписчика, вносящего отсебятину во многовековой труд поколений летописцев. Хомония не просто внедрялась в музыку, но и систематически, исподтишка, незаметно разрушала ее.
Врагом крюковой системы оказалась сама ее сердцевинная суть – неразрывная связь мелодии и текста, ее певческая основа. С течением времени русская речь меняла свои формы. Многие глухие звуки, как, например, «ъ» и «ь», перестали произноситься, хотя ранее в слогах имели явственное полугласное произношение. И устная речь и письменность переживала это явление степенно и с достоинством, отдавая дань времени и историческому развитию народной языковой культуры. Но музыка столкнулась с непреодолимыми противоречиями. Если гласные звуки в произношении пропадали, то во время исполнения песнопений, когда мелодия оставалась прежней, их нужно было продолжать петь. Если же не учитывать «старый» текст, где гласные еще употреблялись, то необходимо было заполнять пробелы, как-то их пропевать. Иначе говоря, например, древнерусское слово «днесь» (означающее – «сегодня») ранее писалось «дънесь» и, соответственно, читалось примерно как «денесе». То есть из трех прежних слогов в новом слове остался один. Но мелодия напева написана была в древности с учетом трехсложного произношения! Значит, необходимо было что-то изменить. На выбор следовало предпринять один из двух возможных шагов. Как писал автор трудов о древнерусской музыке А.В. Преображенский, можно было сделать так: «все три знака (крюка. – К.К.) распеваются на один слог «днесь», и тогда была бы целиком сохранена принадлежащая ему мелодия, напев, или эти три знака заменяются одним, двумя – и тогда предстояло какое-то изменение напева. Русские певцы не пошли ни по тому, ни по другому пути: они нашли третий, когда в угоду напеву и старому произношению стали распевать это слово трехсложно как «дэнэсэ». Что же получилось в результате? А вот что. Множество давно забытых гласных заполнило тексты песнопений. Певцы порой даже сами не понимали того, о чем поют. Не говоря уже о тех, кто слушал. Наименование «хомового» пение и получило от того, что типичные окончания слов «хъ», «мъ», «въ» пелись как «хо», «мо», «во».
Но и это еще полбеды, если бы к этим «хо», «мо», «во» не прибавлялись еще более непонятные слова, известные в истории русской музыки как «аненайки» и «хабувы». Смысл этих длинных бессвязных вставок в песнопениях никто не мог объяснить уже в XVII столетии. Ясно было одно, что достались они в наследство от Византии и постепенно обрели какое-то абсолютно невразумительное содержание. Вот как пелась строка демественного роспева XVII века «в память вечную будет праведник»: «во памя ахабува ахате, хе хе бувее вечную охо бу бува, ебудете праведе енихи ко хо бу бу ва». Получалась не просто бессмыслица, а чудовищный текст, с какими-то «ахами», «ехами» и даже насмешливыми, ехидными «хе-хе». И это-то в серьезных по содержанию песнопениях!
То были «хабувы». «Аненайки» же звучали и вовсе беспардонно. Пожелание «Многолетия», к примеру, пелось так: «много ле-ле-та – инаниениноейнетеинеинеенаиненаинаааааини...» – строчку эту мы обрываем, хотя можно ее долго продолжать.
Возмущению, которое вызывали «аненайки» и «хабувы» у многих современников, не было предела.
Иван Трофимович Коренев, автор знаменитого предисловия к «Грамматике мусикийской» Николая Дилецкого, изданной в 1677 году, был настроен наиболее воинственно: «Нам подобает не смеяться, а плакать, – писал он, – ибо они, омрачившись и простотой и тьмой невежества... слова превратили в беспорядочные слова, а великую силу – в беспомощные ворожбы и бессловесные блеяния козлов... Нет на земле такого человека и не будет, который так бы говорил... О тьма невежества! О бессмыслие мрака!.. Никак иначе не следует петь, как только умом и сердцем и вещать разумными устами».
Столкновение двух лагерей – сторонников и противников «хомонии» – было долгим и принципиальным. Защитники «аненаек» пытались выдвинуть свои аргументы. И весьма убедительные. Во-первых, говорили они, подобные припевки вроде «эх, ах, ай, ой, ой-ли, ой-да, ай-но» встречаются широко и в народных песнях, где явно имеют свое место в мелодическом и ритмическом построении куплетов. Приводился даже пример такой песни: «Ой-да, уж вы горы, ай-но, а-ах, ой-да, почему же ой-да вы, горы, ничего вы не спородили, ой-да, не спородили, ай-но». Во-вторых, относительно хомового пения, иначе его еще называли пением на «он» («онным»), в качестве довода ссылались на праславянские языковые корни. Ссылались справедливо. Крюковое хомовое пение во многом действительно сохраняло фонетические, звуковые достоинства древнерусского языка. В этом можно было углядеть некоторый консерватизм, но одновременно проследить и глубокую традицию.
Беда же подстерегала любителей хомонии в другом. Многочисленные ошибки, описки, начертания понаслышке за долгие столетия привели и к искажению древнего произношения. «Молодые отрочата, учившиеся пети у подобных себе, а иные писати, списывают друг у друга, и перевод с перевода, и тетрадки с тетрадок, не зная добре ни силу речи, ни разум стиха, ни буквы ведая, и в той переписке от ненаучения, или от недосмотра описываются», – замечал современник. Никакие спасительные меры по сохранению отдельных эталонов-образцов нотных рукописей для переписывания, как, например, запись на титульном листе одного сборника – «не отдати никакоже, держати его книгохранителю в казне на свидетельство» – не помогали. Это и дало повод упомянутому выше иноку Евфросину сделать горький вывод: «Много убо и безчислена опись злая в знаменных книгах. Редко такой стих обрящется, который был бы не попорчен...»








