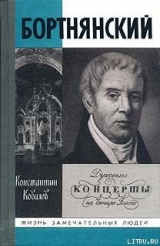
Текст книги "Бортнянский"
Автор книги: Константин Ковалев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Стасов никогда серьезно не занимался вопросами русской музыки XVIII века. Никогда он не разбирал и не осмыслял в печати специально произведений Бортнянского. Но полемические выкрики и оценки его творчества встречаются у Стасова и тут и там. В конце 1870-х годов состоялась всемирная выставка в Париже. Кроме многого, чем удивила тогда Россия западноевропейский мир, на выставке можно было услышать грандиозные выступления русских музыкантов. Был устроен специальный концерт русской музыки. То было не первое, но одно из первых грандиозных концертных выступлений с репертуаром, знакомящим с наиболее яркими и сценически заметными произведениями русских композиторов. Подбор произведений отличался строгостью. Но хронологически и музыкально концерт начинался и обрамлялся хоровыми сочинениями Дмитрия Степановича Бортнянского. Читателю уже известно, что столетие спустя руководитель Русской академической хоровой капеллы А. А. Юрлов в своих записках скажет о том, что, объезжая весь мир со своим хором, он непременно на концертах ставил в начале или в конце произведения Бортнянского, в частности его «Херувимскую № 7». Тем самым он добивался того, что слушатели испытывали колоссальное потрясение. Концерты всегда оканчивались триумфом.
Тогда, в середине XIX столетия, и в период Парижской выставки только начиналась еще одна немаловажная страница в истории русского исполнительского мастерства – постоянные и обширные выступления русских хоров за рубежом. Именно тогда произведения Бортнянского получили еще одну жизнь, еще большую известность. Их узнал весь мир, и, как это ни странно, вряд ли найдется в то время в европейской печати отрицательный отклик на выступление хоров или на произведения Бортнянского.
Но отклик таковой нашелся... в России. И принадлежал он В.В. Стасову. Не заметив в хорах Бортнянского ничего «позитивного», Стасов горячо убеждал читателей, что они есть не что иное, как ария из оперы. А раз так, то в них нет ничего русского, и, следовательно, ими нельзя представлять миру русскую музыку. Тут, в пылу полемики, Стасов припоминает даже Глинку, невзирая на то, что и его когда-то «высек» за «бесчестие нашему народу». Для того чтобы еще более «притушить» славу музыки Дмитрия Степановича, Стасов вновь обвиняет его в «медовости» и слащавости.
Такая оценка творчества Бортнянского пришлась не по душе многим. За Бортнянского вступаются. И тут мы встречаем наконец в русской музыкальной критике стремление не только «развенчать» или определить раз и навсегда уготованное место Бортнянскому, но и желание воскресить, вновь ввести в оборот его музыкальное наследие и также стремление защитить довольно долго не замечаемые сочинения.
В полемику со Стасовым вступил Ф. М. Толстой, в печати известный под псевдонимом Ростислав. На разгром Бортнянского Ростислав отвечает, едва сдерживаясь: «И это пишет русский человек! И это печатается в русской весьма распространенной газете! Да ведь это просто кощунство. Миллионы православных в течение сотни лет слушают это духовное песнопение, а тут вдруг... говорят, что это не что иное, как итальянская песенка, а много-много – оперная арийка. „Неужели тут есть что-нибудь русское?“ – восклицает г. В. С.! „Есть, и очень много! – отвечаем мы. – Песнопение это усвоено русским сердцем и наполняет души православных религиозным чувством и благоговением“.
Ростислав первым же пресечет обиходное определение Глинки о «медовости» Бортнянского, заимствованное и Стасовым. «Г. В. С., – продолжит Ростислав, – сетует, что Бортнянский сопровождает повышение и понижение звука медовыми аккордами. А вам бы хотелось дегтярными, что ли?»
Нельзя не сказать, что критические выступления Ростислава порой также не отличались последовательностью и объективностью. Но в отношении Бортнянского он сразу же избрал позицию определенную и всегда ей следовал, чего никак не могли сделать многие его современники.
К оценке русских концертов за рубежом и исполнения в Европе сочинений Бортнянского, данной Ростиславом, словно бы присоединился А. И. Герцен. Прослушав один из них – в Лондоне, Герцен сразу же напишет знаменитую статью «Русская музыка в Лондоне», где есть строки, ставшие хрестоматийными: «Наша музыка не является скромно просить внимания своей оригинальности и сколько-нибудь гражданства, – она врывается, разом вооруженная Бортнянским и Глинкой, заявляет себя энергически и самоуверенно под партизанским начальством искусного вождя!» Здесь, снова впервые, Герцен поставит рядом два имени – Глинка и Бортнянский. Новое поколение, которое он представлял, уже не стремилось отрицать наследие XVIII века. Ведь прошло достаточно времени, чтобы оглянуться назад спокойно и оценить по достоинству. Не случайно, что именно в это время был открыт памятник «1000-летие России» в Новгороде, где более ста фигур символизировали собой историю Российского государства. На памятнике были изображены и государственные деятели, и духовные подвижники, и представители науки и искусства. Среди всех замечательных людей только два музыканта! Кто же они? Глинка и Бортнянский... Вот, оказывается, кто символизировал собой историю многовекового пути русского музыкального искусства. И их-то, оказывается, порой уличали в отсутствии «русского начала...»
Герцен написал в статье, что «наша музыка... врывается, разом вооруженная Бортнянским и Глинкой... под партизанским начальством искусного вождя!» О ком вел он речь? Кого имел в виду под названием «вождь»?
То был человек, который многое сделал для возрождения в сердцах любителей музыки творений Дмитрия Степановича Бортнянского, – знаменитый руководитель хоров и дирижер, князь Юрий Николаевич Голицын.
Еще 19 июля 1858 года Голицын устроил в Дрездене концерт русской хоровой музыки. Причем пел в этом концерте хор, а аккомпанировал ему оркестр королевской оперы. В концерте прозвучали духовные концерты Бортнянского. Триумф был полным.
Уже тогда стало ясно, что в России прекрасно знали хоровые сочинения композитора, почти совсем не зная его светских сочинений, а в Европе слышали о его итальянских операх, но вовсе не догадывались о его грандиозном духовном творчестве. Дрезденский критик по достоинству оценил начинание Голицына и знакомство с музыкой Бортнянского: «Выбор музыки свидетельствует о тонком вкусе и об артистической образованности просвещенного любителя... К этому присоединился интерес „новизны“ в отношении музыки русских сочинителей, почти вовсе неизвестных в Германии».
В 1860-е годы Голицын развернул доселе небывалую по широте концертную деятельность за рубежом. Можно сказать, что именно благодаря ему русская хоровая музыка приобрела настолько большую популярность, что стала неотъемлемой частью музыкальной жизни Европы уже и в XX столетии. Только за два года голицынский хор дал 260 концертов в Англии, Ирландии и Шотландии. Тот самый концерт в Лондоне, о котором писал Герцен и который, по его мнению, имел «решительный, огромный успех», потряс и самими сочинениями Бортнянского, и характером их исполнения. Журнал «Всемирная иллюстрация» сообщал об исполнении концертов Бортнянского гигантским сводным хором, состав которого достигал 1800 человек! «Всемирный словарь современников», издаваемый во Франции, после концертов в Париже, где звучали и хоры Бортнянского, отметил подвижническую деятельность Голицына в знакомстве слушателей с русской музыкой.
Князь Голицын просвещал ценителей хоровой музыки, и не только за границей. Известны его многочисленные выступления с хорами в России, по городам, ярмаркам. А однажды он сделал то, на что затем на протяжении почти ста лет не отваживались его соотечественники: в Большом театре в Москве он впервые на родине исполнил три хора из оперы Дмитрия Степановича Бортнянского «Алкид», написанной в Италии и никогда не шедшей в России. Позже, в 1870-е годы, голицынский хор стал постоянным участником знаменитого Павловского «воксала», где выступал из сезона в сезон и поражал публику концертами Бортнянского, написанными почти век назад здесь же, на берегу древней Славянки...
Бортнянскому в его посмертной судьбе иногда действительно везло на тех, кто по-настоящему глубоко, а не вскользь, походя обращал внимание на наследие прошлого. Постепенно отходили в сторону как несостоятельные такие оценки его творчества, как, например, данные известным в XIX веке в России критиком Г. А. Ларошем, «причесавшим» одной гребенкой сразу и Бортнянского, и Березовского, и Турчанинова: «Мягкость и сладкозвучие чисто светское, без высокого полета, без религиозного одушевления, иногда же какая-то суетная торопливость, какие-то веселые и шутливые ритмы, вовсе не приличествующие храму, – вот самые выдающиеся черты в произведениях наших наиболее прославленных духовных композиторов». Один из преемников Бортнянского по руководству капеллой, Ф. П. Львов, утверждал обратное: «Бортнянский... нигде не отвлекает верующих чужими звуками и не выдает преимущества бездушному чувству слуха перед чувствованием сердца». Позднее один из защитников композитора критик Н. Компанейский в статье «Итальянец ли Бортнянский?» отметит с уверенностью «русскую душу и русскую мысль» его. Автор статьи о Бортнянском, Турчанинове и Львове В. Лебедев также отметит «российское чутье к обиходу (церковному. – К.К.) и светской песне» у Бортнянского. Он же выделит ряд народных мотивов в тех или иных сочинениях композитора, в частности украинских.
Так год от года творчество Дмитрия Степановича осмысляется все шире. Все больше и больше находят у него народных песенных мотивов, раскрываются целые обороты из народных песен и мелодий в его хоровых и инструментальных сочинениях. «Итальянская» репутация его наконец пошатнулась. И действительно, ведь в России наряду с Бортнянским жили и творили его выдающиеся итальянские современники. Они также создавали целые циклы хоровых духовных произведений. Но, однако, ни один из них не вошел в народное сознание и в историю русской музыки в этом качестве. Их хоровые концерты – они и есть итальянские! В отличие от них Бортнянский создал не только свой стиль, но и целую эпоху в русской хоровой культуре. Справедливо писал по этому поводу один из музыковедов нашего времени – А. А. Гозенпуд: «Ведь если считать признаком национального стиля только использование русских народных песен, то тогда Каноббио или Мартин-и-Солер должны считаться русскими композиторами, а Бортнянского вообще должны изъять из истории русской музыки». Действительно, и Каноббио и Мартин-и-Солер работали при российском дворе и зачастую в своих музыкальных спектаклях использовали для аранжировки русские народные песни. И все-таки не вошли в музыкальную историю эпохи, не стали национальными композиторами. А Бортнянский не просто стал, но и определил самое начало, как мы уже говорили, становления национальной русской композиторской школы.
Другой преемник Бортнянского, известный композитор и скрипач, автор государственного гимна России А. Ф. Львов, говорил о своем именитом современнике, как о человеке «глубоких знаний и высокого таланта».
Один из поэтов-современников посвятил композитору такие строки:
Не тем ли духом вдохновенный,
Ты гимны дивные писал
И, созерцая мир блаженный,
Его нам в звуках начертал?
Для полноты картины следует привести еще два свидетельства современников Бортнянского. Первое из них принадлежит перу писателя и историка, исследователя древнерусской культуры, автора известного словаря Е. Болховитинова. «Россия нашла себе, – писал он, – знаменитых учителей песнотворчества, среди которых наизнаменитейший доныне Дмитрий Бортнянский». Второе – написано рукою автора некролога, опубликованного в дни похорон композитора в 1825 году, где мы читаем, что он «получил бессмертную славу не только в России, но и во всей Европе». И в самом деле: весь XIX век можно встретить упоминания в западноевропейской и американской печати об исполнении сочинений Дмитрия Степановича Бортнянского, и всегда с неизменным успехом. Так, звучали они в Англии и Болгарии, Швейцарии и Франции, Сербии и Польше. Особо – в Соединенных Штатах Америки, где популярна была та самая «Херувимская» Бортнянского, о которой не раз уже шла речь. Ее пели не только в церквах, но и в домах, на улицах. Точно так же, как и в России, где она вошла в быт и в повседневный обиход. Еще одно свидетельство тому исходит из истории яснополянской школы Л. Н. Толстого: «Херувимскую» он ввел в качестве обязательного исполнения перед началом школьных занятий. Да и сам он любил время от времени петь ее на три голоса с Софьей Андреевной и ее сестрой. По воспоминаниям Толстой, он пел бас и страшно сердился, когда кто-либо из певших вместе с ним фальшивил или попадал не в такт.
«Свежую кровь» для жизни хоровых сочинений Бортнянского влил обосновавшийся в России нотоиздатель П. Юргенсон. Поводом для этого стала длительная тяжба его и Придворной певческой капеллы, которая вплоть до 1870-х годов сохраняла полные права на любые издания духовных сочинений в области музыки. Предприимчивый нотоиздатель понимал, что на тиражировании многих нот хоровых произведений можно неплохо поправить свои дела. Он обратился в суд с тем, чтобы выяснить права капеллы и их юридическую основу. Выяснилось, что капелла хоть и издавала все эти годы церковные песнопения в гордом одиночестве, настоящих юридических прав на то не имела, вернее – не существовало для этого никакого специального либо императорского, либо синодального указа.
Едва выиграв судебный процесс, Юргенсон затевает грандиозное издание. Он задумывает выпустить в свет 35 основных хоровых концертов Д.С. Бортнянского. В успехе он был уверен. Но ему хотелось придать делу еще и общественный резонанс, дабы в том не были видны лишь коммерческие интересы.
Юргенсон предлагает отредактировать и подготовить к выпуску в свет сочинения Бортнянского своему давнишнему сотруднику и постоянному автору Петру Ильичу Чайковскому.
Чайковский до сих пор не обращал сколько-нибудь пристального внимания на творчество Бортнянского. Да оно его специально не интересовало. Поэтому и откликнуться на просьбу Юргенсона не торопился. Долго, во многих письмах издатель уговаривает композитора, и тот наконец соглашается.
Так началась эта грандиозная работа, увенчавшаяся в итоге триумфом: выпуском в больших тиражах, ныне хорошо известным.
Чайковский не просто редактировал концерты. Он пытался даже кое-где поправить своего предшественника. Он стремился проникнуть в его эстетическую систему. Его интересовали корни популярности Бортнянского. Чем более он углублялся в изучение творчества Дмитрия Степановича, тем все больше приходилось ему разочаровываться в ней. Чайковскому не очень нравились те же самые, якобы «итальянские» обороты в мелодике и контрапункте концертов. И шире: ему нравились концерты, но не нравилась их музыкальная форма, их музыкальная «одежда».
Увлекшись духовными песнопениями, Чайковский и сам стал подумывать о сочинении музыки для церкви. До тех пор он еще серьезно не вникал в эту музыкальную сферу. Вот почему можно утверждать, что и оценка Чайковским некоторых концертов Бортнянского была поспешна и еще не обоснована внутренне для самого их автора. Утверждение о том, что музыка Бортнянского «мало гармонирует со всем строем православной службы», одновременно и интересно, и неопределенно. Ибо так и хочется получить разъяснения, продолжение этой мысли. Почему? Чем? Но продолжения нет. Чайковский недоверчиво отметил «светскость» в духовных концертах Бортнянского, вполне естественную для деятеля эпохи конца XVIII – начала XIX столетия. Однако и самому гению русской музыки в своих духовных сочинениях не удалось преодолеть рамок все той же «светскости».
Что же не понравилось Петру Ильичу? Думается, что композитор хотел большей простоты, большей ясности и мелодичности. Находя их у Бортнянского, он отмечал его мастерство. А по поводу одного из лучших концертов – 32-го, называемого «Скажи мне, Господи, кончину мою», – Чайковский не преминул выразить восторг и назвать его «положительно прекрасным».
Однако избежал ли сам Чайковский влияния Бортнянского? Не было ли между ними, двумя столпами российской музыки, некоторой связи?
С каждым годом все больше выясняется, что не избежали этого влияния, как бы этого они ни хотели, многие русские музыканты. Отмечено влияние традиций, идущих от Моцарта и Бортнянского, на творчество А. Алябьева, в частности в финале его оперы «Лунная ночь, или Домовые» (1822 г.). Вот что пишет уже упоминавшийся выше А.А. Гозенпуд в книге «Музыкальный театр в России»:
«Бортнянский овладевает высотами мастерства в области лирической и комической оперы. Характерно, что, когда Чайковскому нужно было дать в „Пиковой даме“ претворение галантного XVIII века (пастораль „Искренность пастушки“), он, как правильно заметил Асафьев, использовал интонации, близкие Бортнянскому. Тот же исследователь говорит о нитях, протягивающихся от опер Бортнянского к Глинке (Фарлаф) и Даргомыжскому, а также к романсу начала XIX века. К этому можно прибавить, что и русский водевиль Алябьева и Верстовского в известной мере обязан воздействию Бортнянского».
Упоминая Асафьева, Гозенпуд оставил вне поля зрения еще одно важнейшее наблюдение музыковеда, касающееся Михаила Ивановича Глинки, не избежавшего и прямого воздействия «Сахара Медовича Патокина».
В статье о канте XVIII века Асафьев сказал об этом так:
«В несправедливо забытом творчестве Бортнянского, выдающегося русского мастера, кант расцвел... В мелких культовых произведениях Бортнянского, в тех из них, где не требовалось почтительное благоговение, радостная поступь канта сказывалась в полной мере, становясь порой откровенным маршем, не теряя облика и интонационности песни, и именно хоровой песни. В этой музыке были налицо и свет, и тепло, и радость. Глинка, метя в своих врагов в придворной капелле и ненавидя их хоровой стиль, незаслуженно снизил значение Бортнянского. Сам же создал знаменитый финал «Ивана Сусанина» на основе формы канта: «Славься» – не что иное, как кант по всем стилистическим и смысловым интонационным признакам».
И еще о влиянии Бортнянского. Его творчество оказало громадное воздействие на становление украинской музыки. Не впрямую, конечно, но само имя композитора, выходца из города Глухова, становилось как бы символом украинской музыкальной культуры. Уже в 20-е годы XIX века на Западной Украине распространяются сочинения Бортнянского. Они вдруг становятся не просто музыкальным феноменом, но и знаменем в борьбе с униатским влиянием и значительным напором польско-католической культуры. Некоторое время произведения Бортнянского на Западной Украине было запрещено исполнять. Церковные власти преследовали последователей музыканта. Вот почему слова одного из первых на Украине композиторов-профессионалов, М. Вербицкого, о том, что для украинцев Бортнянский стал тем же, что Моцарт или Гайдн для Западной Европы, вполне справедливы. Личность композитора, его авторитет и европейское признание стали поводом к тому, чтобы поставить его имя первым в ряду деятелей украинской музыкальной культуры.
Год от года крепнет и растет авторитет личности Бортнянского, все более серьезными становятся оценки его творчества. Когда впервые в России вводятся в оборот граммофоны и граммофонные пластинки, то одним из первых авторов, записанных на них, был наш Дмитрий Степанович. Наибольшую популярность имели его духовные песнопения в исполнении хора Архангельского в Чудовом монастыре Московского Кремля.
В середине XIX столетия была изобретена в Европе так называемая цифровая система записи нот, новая, в отличие от общепринятой пятилинейной нотации. Изобрел ее преподаватель музыки Эмиль Шеве. Быстро распространилась она, например, во Франции. В России же ее пытались ввести в «Бесплатных классах хорового пения», созданных Н. Рубинштейном при Российском музыкальном обществе. Ратовали за это еще и В. Одоевский, и К. Альбрехт, и Г. Ломакин. Особенных преимуществ цифровая система не имела. Однако для России, едва как сто лет назад оставшейся без своей собственной, крюковой нотной системы, перейти еще раз на иную, новую, было немыслимо. Подобный переход означал бы новые потери в области гармонии и контрапункта, потери, которые уже произошли при переходе на минор и мажор, при заключении музыки в систему гармонии семи белых и пяти черных клавиш, то есть при появлении того, чего ранее в русской музыке не было и в помине.
Цифровая система применялась в России для обучения учащихся. И по свидетельству П.И. Чайковского был в свое время подготовлен сборник сочинений Бортнянского, переложенных по системе Э. Шеве для учительской семинарии при Московском воспитательном доме. Одновременно были попытки издать в этой же системе гимн Бортнянского «Коль славен», переложенный на три голоса. Однако цифровая система Шеве в России потерпела провал. Забылись и эти издания.
Наконец, по наказу Н. Рубинштейна И. Е. Репин пишет свой знаменитый групповой портрет «Славянские композиторы», который позже помещается в фойе Большого зала Московской консерватории. Рубинштейн сам составлял список музыкантов, которых молодой Репин должен был нарисовать на портрете. И хотя он не включил в него ни Бородина, ни Мусоргского, почему-то лишив их права называться «славянскими» композиторами, хронологически этот ряд деятелей музыкальной культуры начинается с изображения Бортнянского, который на портрете изображен сидящим в кресле и облаченным в парадный придворный мундир. Не вполне естественное сочетание композиторов давно умерших и благополучно здравствующих, которые никак не могли бы встретиться в одной зале, тем не менее позволило Репину создать любопытное полотно, не пришедшееся по сердцу многим, но все же имевшее большой общественный резонанс.
Наиболее грандиозные события, связанные с памятью о Бортнянском, происходили начиная с 1901 года и посвящены были 150-летнему юбилею со дня его рождения.
С этого момента российская общественность словно пробудилась после длительного осмысления всего величия наследия композитора. Юбилей заставил еще раз обратить внимание не столько даже на сами произведения Бортнянского, сколько на его место и роль в истории и музыки и русской культуры в целом. XVIII век, ознаменованный в истории России многими великими событиями, в своей музыкальной ипостаси словно бы выпал из памяти. Достижения русских музыкантов той эпохи не получили ни должного освещения, ни должной оценки. Даже на памятнике Екатерине Великой, что стоял на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и символизировал собой век Просвещения, не было уделено места никому из музыкантов. Есть на памятнике великий поэт – Державин, есть великий полководец – Суворов, есть великий ученый – Ломоносов, но нет музыканта. А ведь с первыми двумя был не только творчески близок, но и дружил Дмитрий Бортнянский. Последнего же видел в юные годы. Целая эпоха, целый пласт культуры словно бы отошел на второй, незаметный план.
Организатором 150-летнего юбилея выступила Придворная певческая капелла. Первым делом решено было восстановить место захоронения композитора, ибо уже тогда никто не мог с твердостью утверждать, где он похоронен.
27 сентября, в день кончины композитора, в Смоленском соборе при кладбище, там, где долгие годы при институте Бортнянский преподавал музыку и руководил хором, состоялась заупокойная обедня, которую отслужили придворные певчие. Никто еще не предполагал тогда, какую реакцию вызовет это торжество. На праздник были подготовлены и отпечатаны специальные билеты. Но оказалось, что к собору с самого утра пришло огромное количество народа. На службу памяти Бортнянского хотели попасть многие люди, но ни у кого не оказалось билетов. В конце концов билеты объявили недействительными. Известный исследователь древнерусской музыки С. Смоленский, который участвовал в торжествах, расскажет позже: «Да где тут и кому спрашивать билеты, если народ ломится чуть ли не силой!.. Храм и билеты... все-таки несовместимо!.. Народ не верит в какие-то билеты. Не верит – и хорошо!»
Храм был переполнен. Люди толпились на улице. Едва закончилась обедня, как Придворная капелла запела знаменитую «Херувимскую» № 7 Бортнянского. Молящиеся отирали слезы на глазах. Это ли было не торжество русского музыканта! После «Херувимской» прозвучал концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою» и одно из последних сочинений Березовского – хор «Верую».
После обедни народная толпа двинулась на кладбище к могиле композитора. Здесь отслужили панихиду у памятника с золоченой надписью на овальной табличке «Действительному статскому советнику Дмитрию Степановичу Бортнянскому. Сей памятник сооружен скорбящею женою его в 1826 году ноября 17-го дня».
Никто не ожидал такого внимания к имени Бортнянского, такого поистине народного признания давно умершего автора духовной музыки.
В Придворной певческой капелле состоялся вечер памяти композитора. Первоначально выступил С. Смоленский, который еще раз напомнил присутствующим биографию Дмитрия Степановича и отметил его роль в становлении русской духовной музыки. Затем певчие капеллы исполнили ряд наиболее известных его сочинений. Подобного рода концерт, состоящий только лишь из произведений Дмитрия Степановича Бортнян-ского, причем самых лучших, был первым за все десятилетия после его кончины. Событие само по себе можно считать уникальным.
Не менее уникальной стала и выставка произведений Бортнянского, открытая в специальном зале капеллы. Там были представлены автографы и рукописи многих его сочинений, а также печатные ноты. На выставке гости могли лицезреть и то, что в настоящее время считается, увы, утерянным. Но самое главное – там любители музыки впервые открыли для себя еще и светского Бортнянского, автора сонат, инструментальных сочинений, опер. Автографы Квартета и Квинтета, итальянских опер «Алкид» и «Квинт Фабий», павловских сочинений «Сокол» и «Сын-соперник» – все это лежало под стеклянными колпаками, доступное для рассмотрения. Как и знаменитый рукописный альбом сонат для клавесина, подаренный Бортнянским Марии Федоровне и ныне также считающийся утраченным...
Эхо юбилея прозвучало и в некоторых европейских странах, и даже за океаном. В Герцеговине под руководством известного сербского поэта, автора патриотических стихотворений и драм Алексы Шантича прошло празднование знаменательной даты, был устроен концерт из произведений Бортнянского. Подобного рода праздники проходили в Греции и США.
150-летие со дня рождения Дмитрия Степановича напомнило о том, что в России нет не только памятника ему, но и нет памятника вообще русским музыкальным деятелям многовековой русской культуры. Юбилей всколыхнул поначалу стихийное народное движение за сбор средств на постановку памятника композитору или же вообще композиторам духовного пения.
Заметки по поводу нового предприятия появлялись в русской печати. Поначалу выступили газеты «Русь», «Голос правды», «Русская музыкальная газета», «Хоровое и регентское дело». Их поддержали другие издания – «Музыка и пение», «Петербургская газета», «Церковные ведомости», «Новое время», «Колокол», «Петербургский листок», «Свет», «Сегодня», «Баян», «Музыкальный труженик» и многие другие.
Развернулось широкое общественное движение. Деньги на строительство собирались по всей России. Устраивались концерты и благотворительные вечера. Несколько лет продолжались разговоры. Пресса публиковала статьи о необходимости завершения этого начинания. Наконец, был создан специальный комитет на общественных началах под руководством С. Смоленского. Комитет обратился в Министерство внутренних дел с просьбой утвердить его статус и разрешить официальный сбор средств на сооружение памятника. Разрешение было дано. С 1908 года начинается постоянная работа комиссии по постановке памятника трем известным композиторам духовного пения – Бортнянскому, Турчанинову и Львову.
Комитет также проводил вечера и концерты. Затем было принято решение о том, где поставить такой памятник. Перебирались разные варианты, все – в Санкт-Петербурге. То площадь Исаакиевского собора, то перед Казанским собором, то Малая Конюшенная улица, которую даже намеревались переименовать в бульвар Д.С. Бортнянского. Наиболее приемлемый и удобный проект места установки памятника предполагал его у стен Придворной певческой капеллы, неподалеку от Зимнего дворца, у певческого мостика, на том самом пути, который композитор каждый день проделывал от дома до места службы.
Время шло, средства все собирались. Но их явно не хватало. Установка памятника затягивалась. Одновременно подобная же идея возникла и у любителей русской музыки за рубежом. Из Америки на имя Смоленского пришла просьба выслать необходимые наглядные материалы о Бортнянском. Смоленский незамедлительно откликнулся на просьбу и выслал копию одного из портретов композитора. В 1911 году памятник композитору был изготовлен в Нью-Йорке и установлен там же в одном из храмов. Автор памятника, который стоит в Нью-Йорке и по сей день, неизвестен.
Постановка же памятника на родине затянулась. А в 1914 году началась война, и стало уже не до Бортнянского. Позднее памятник так и не был поставлен...
Но пробуждение внимания к творчеству Бортнянского в предреволюционные годы не могло не сыграть своей важной культурно-исторической роли. Это отразилось на совершенно новом этапе изучения его наследия, который начался в 1920-е годы.
Все началось с выхода в свет книги А.В. Преображенского «Культовая музыка в России» в издательстве «Academia» в 1924 году. Преображенский, пытаясь дать объективную оценку творчеству Бортнянского, вновь уличал его в «итальянщине».
«Бортнянский – последний итальянец», – писал Преображенский. Но тут же оговаривался: «Но он – первый русский композитор – специалист, овладевший всеми средствами современной ему музыкальной техники, каких до него русское церковное пение, как мы видели, не имело за всю свою историю».
Автор книги снова припомнил все самые сомнительные упреки, брошенные еще столетие назад в адрес Дмитрия Степановича. В книге процитированы слова того же В. Одоевского: «Можно указать в операх Галуппи целые места, перенесенные его учеником Бортнянским в наше церковное песнопение», а также высказывание Ю. Арнольда: «Бортнянский склонен к мелодическо-лирическому стилю, напоминающему неаполитанскую школу, или стиль Дуранте до того, что в сочинениях Бортнянского иногда встречаются мотивы самого Дуранте». Не обошлось и без замечаний Глинки: «Бортнянский был итальянец, Львов – немец». К сожалению, и об этом сетует даже не слишком расположенный к нему Преображенский, вышеупомянутые авторы высказываний не приводят никаких доказательств своих мыслей, не указывают в сочинениях Бортнянского «заимствованные» места. Уже к этому времени, к 1920-м годам, становится ясно, что подобного рода выпады голословны и вполне устарели. Серовское замечание о Бортнянском, как «слабом отголоске итальянцев Моцартовского времени», ныне уже трансформировалось в ощущение моцартовской роли того же Бортнянского в истории русской музыки XVIII столетия.








