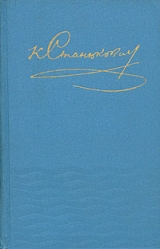
Текст книги "Том 1. Рассказы, очерки, повести"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Знаете ли, – прибавил он, вдохновляясь собственными словами, – я даже завидую вам, что дела заставляют вас оставить на некоторое время Петербург. Там, вдали от здешней сутолоки, на приволье, среди новых людей, в «ровном» климате, право, лучше! Охота, рыбная ловля какая! И наконец вам волей-неволей придется узнать настоящую жизнь, а не подделку ее, не ту, которую описывают нам, тенденциозно преувеличивая ее дурные стороны.
И, увлекаясь все более, молодой человек начал нахваливать те места даже по-французски и с такою убедительностью, что я осведомился: почему он сам не перейдет на службу в «те» места? К сожалению, он ведь не зависит от себя. Раз служить, надо «тянуть лямку», где придется… Он, так сказать, «раб обстоятельств», и наконец, прибавил он, «здесь он более полезен».
Ввиду таких приятных сообщений, я, признаться, позабыл многое, что читал и о чем слышал, и заранее восхищался перспективой приволья, ясного неба, постоянного солнца, хотя и при сильных морозах зимой, но зато почти нечувствительных при безветрии (все это сведущий человек вам обещает довольно авторитетно, так что вы и не ожидаете, что все это окажется порядочным враньем) и необыкновенно дешевой жизни. Когда мой словоохотливый сибиряк окончил описание свое «вообще», я стал допрашивать его, разумеется, детально.
Во-первых: как ехать, где сесть на пароход?
Оказалось, что от Екатеринбурга * , связанного с Пермью железной дорогой, надо ехать до Тюмени на лошадях. Тарантас можно найти, проходная дорога – прелесть! Везут… но кто не знает, как по Сибири возят? Эти 300 верст будут приятным воспоминанием.
Читатель впоследствии узнает, какое «приятное» воспоминание оставили эти триста верст адской дороги, а пока приходилось только радоваться ожидающей прелести и узнать затем, что из Тюмени вы садитесь на пароход и по Таре, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи плывете дней десять до Томска. Оттуда опять на лошадях на прииски, куда мне приходилось ехать, оставив семью в Томске.
К сожалению, мой живой путеводитель не мог сообщить, когда ходят пароходы и что стоит переезд, и посоветовал справиться об этом в Нижнем. Там, разумеется, известно. Зато очень хвалил сибирские пароходы, обещал много красивых видов и соблазнял знакомством с нельмой.
– А каков, например, город Томск?
– Превосходный. Лучший город Сибири, так сказать сибирская Москва. Вы там найдете все условия цивилизованной и притом дешевой жизни… Говядина лучшая шесть копеек… Стерлядь, осетрина, нельма дешевы… Дичь ни по чем… Ягод изобилие…
– А учебные заведения?
– Две мужские гимназии: классическая и реальная; женская гимназия, несколько школ… Скоро вот университет будет… Хорошая библиотека и книжный магазин… Театр. Недурные гостиницы…
– А как мне быть с мебелью? Не везти же ее с собой… Можно ли там найти какую-нибудь простую мебель?
В ответ презрительная усмешка.
– Что угодно найдете…
– Быть может, дорого?
– Всякая есть: и дорогая и дешевая, – успокаивает вас сведущий человек.
Но вы сделаете большой промах, если поверите, так как убедитесь горьким опытом, что в «сибирской Москве» нет ни одного мебельного магазина, и вам придется ожидать «случая», чтобы приобрести хотя письменный стол или же купить разный хлам на базаре, этом главном, общеизвестном месте Томска.
Точно такие же утешительные сведения вы получаете в ответ на вопрос о квартире. Оказывается, что квартиры очень дешевы.
– Да вот я вам скажу: за пятнадцать рублей в месяц я нанимал целый дом в шесть комнат. Правда, это было десять лет тому назад. Теперь квартиры подороже, но все-таки они дешевы.
Увы, и на этот счет вас ждет разочарование.
Наконец я, как человек, собирающийся в новые места не один, а в приятной компании нескольких «прелестных малюток», поинтересовался вопросом общественной безопасности, ибо вспомнил, что в газетах писали, будто в Томске грабежи часты, и слышал, что вообще там без револьвера по вечерам выходить на улицу небезопасно.
– Все это преувеличивают! – не без сердца возразил мой сибиряк.
– Однако и г. Ядринцев в своей книге Сибирь как колония приводит не особенно утешительные сведения насчет Томска: пятьдесят восемь краж и убийств в три месяца, по официальным данным.
– Ну, может быть… не спорю… были такие три месяца, но вообще… ничего нет особенно страшного. В маленьких городках случается, правда, иногда, что жители находятся как бы в осаде от варнаков. Ну, а в больших городах, слава богу, и полиции больше и солдаты есть. Конечно, не без того, пошаливают, а вы хорошенько запирайтесь на запор по ночам да собак хороших заведите, не лишнее, разумеется, и револьвер на случай иметь. Береженого бог бережет, так оно и безопасно… А чуть ежели что… заберутся к вам, вы – бац из револьвера… Этих мерзавцев, варнаков, жалеть нечего! – утешал сибиряк.
Но радость моя была омрачена, когда, несколько дней спустя, пришлось случайно встретиться с другим «сведущим» человеком, совершившим на своем веку немало разъездов по разным окраинам России. Начиненный более или менее утешительными сведениями, я, под впечатлением «сибирских» рассказов, начал было передавать ему свои надежды, но увидал на лице его ироническую улыбку. Сперва он слушал молча, но наконец не выдержал и стал рассказывать про Сибирь, где он прослужил года три. Он был немолод. Этот новый «сведущий» человек не особенно радостно смотрел вообще на мир божий, а на сибирский край в особенности. И, слушая этого, несколько угрюмого скептика, мне пришлось из рая, нарисованного милейшим сибиряком и любезным «рабом обстоятельств», перенестись, так сказать, прямо в самое жерло ада. Самые темные краски, казалось, были недостаточны, чтобы достойно заклеймить эту «подлейшую» трущобу. И природа, и климат, и люди, и нравы – все это в его рассказах получало мрачную окраску. Он, впрочем, жил более в Восточной Сибири, Томска не знает, проезжал только, и о нем не мог сообщить ничего положительного, но, по аналогии, хорошего ожидать и от него нечего.
– Вы, верно, наслышались от сибиряков, – продолжал он. – Это они вам так расписали… Они, в большинстве случаев, отчаянные патриоты своего отечества, «омулевые», так сказать… Нахваливают свое болото и даже своих великих людей создают… Самые образцовые между ними (хотя это и большая редкость) не свободны от такого китайского взгляда на вещи. Везде нынче, положим, не особенно сладко живется, везде дичь еще порядочная, но такой дикой, такой заскорузлой страны, как Сибирь, я не видал.
– Однако вы уж чересчур мрачными красками разрисовали сибирскую жизнь, – возразил я, когда мой сведущий человек в достаточной степени напугал меня.
– Мрачными?.. А вот сами увидите, какова эта жизнь для человека, не способного с утра и до вечера душить водку. Главное, – продолжал он, – запасайтесь-ка терпением и персидским порошком; это необходимейшие вещи и в дороге и на месте… Да не забудьте купить здесь самые высокие калоши, какие только найдете, а то, еще лучше, закажите, чтобы в сибирских городах ходить по улицам… Грязь везде такая, что потонуть можно! – заключил свои неутешительные напутствия этот бывалый скиталец по разным окраинам необъятного отечества.
Несколько сбитый с толку такими противоречивыми отзывами, я, однако, последовал совету «сведущего» человека пессимистического характера, запасся персидским порошком и высокими калошами, и в начале лета мы тронулись из Петербурга в дальние края.
Терпением запасаться не приходилось. Этим похвальным качеством всякий русский человек наделен, слава богу, в достаточной мере, – в такой достаточной, что мог бы, не погрешая против истины, повторить чичиковские слова генералу Бетрищеву: «Терпением, можно сказать, повит и спеленат, будучи, так сказать, одно олицетворенное терпение, ваше превосходительство!» *
IIПо России, как известно, редко путешествуют, а чаще ездят, сожалея о пароходах на железной дороге и о железных дорогах на пароходе. Нечего и говорить, что эти длинные переезды особенно затруднительны, когда приходится ехать с детьми, не рассчитывая на отдельные купе в первом классе. Я этим не хочу чернить ни наших железных дорог, ни пароходов. Кто путешествовал по Европе, хорошо знает, что наши вагоны гораздо просторнее и удобнее, например, французских, австрийских и итальянских, в которых буржуазное скаредство отводит пассажиру как раз столько места, сколько необходимо человеку, чтобы он, не шевелясь и не протягивая ног, мог не задохнуться от тесноты.
Но при всех этих неудобствах путешествие по европейским железным дорогам не сопряжено с тем нервным напряжением, в каком вы постоянно находитесь на наших (особенно путешествуя с дамами и детьми), если заблаговременно не вступили в интимное соглашение с обер-кондуктором насчет «местечка» или не имеете возможности, в качестве особы, занимать целый вагон.
Там, в Европе, вы просто едете, а у нас вы, так сказать, совершаете нечто вроде военной экспедиции, сопряженной со всевозможными случайностями и «историями», предвидеть которые так же трудно, как трудно не иметь их, хотя бы вы и обладали воловьими нервами и русским терпением.
В каком бы классе вы ни ехали по Европе, вы чувствуете себя среди граждан, тонко понимающих значение общественности. Вам не придется воевать из-за места, так как каждый понимает, что нельзя человеку занимать два или три, когда у другого нет никакого, из-за открытых окон с обеих сторон, из-за курения в некурильных вагонах и т. п. Все это мелочи, но мелочи, отравляющие путешествие и характерно отмечающие культурную разницу между публикой, особенно по мере удаления из Петербурга.
Среди нашей, так называемой, культурной публики, в вагонах первого и второго классов, вы зачастую можете наблюдать и этот недостаток знания азбуки общественности: невнимание к интересам другого, желание во что бы то ни стало обойти самые элементарные правила общежития, захватить себе два, три места, войти в пререкания, лгать самым наглым образом, говоря, что места заняты, и еще посмеиваться, глядя, как какой-нибудь пассажир или какая-нибудь пассажирка, словно обезумевшие, носятся из вагона в вагон, вотще обращаясь к ближним с вопросами о свободном месте, пока наконец не явится обер-кондуктор и после обычного пререкания не водворит нового пришельца на месте, рядом с ворчащим и негодующим соседом.
Обычные вагонные сцены грубости нравов и отсутствия всякого чувства альтруизма среди большинства культурных путешественников разнообразятся еще зрелищем неожиданных метаморфоз, мгновенно превращающих, точно на гуттаперчевой кукле, выражения этих непреклонных и геморроидальных лиц петербургских путешествующих чиновников или рыхлых, более добродушных физиономий провинциалов в выражение трогательного собачьего умиления и преданности, если вдруг среди пассажиров появится в вагоне какая-нибудь известная «особа» или, среди разговора, обнаружится как-нибудь инкогнито какого-нибудь известного лица. При таких случаях русский гражданин не умеет даже соблюсти постепенности перехода от непреклонности к умилению и, как бы опровергая теорию Дарвина, как-то мгновенно из человека превращается в собаку, да еще виноватую.
В вагонах третьего класса, среди серого пассажира, вы чувствуете себя как-то нравственно спокойнее, но продолжительное путешествие в третьем классе, особенно летом, когда вагоны набиты битком, требует некоторого мужества и привычки к тому специфическому запаху, который жаркою летнею ночью делает пребывание в душном вагоне несколько похожим на сиденье в помойной яме. Зато там, по крайней мере, вам не придется воевать из-за мест и ждать каких-нибудь историй с соседями. Там, напротив, чувство общественности инстинктивно развито гораздо более, там всегда готовы потесниться, даже слишком потесниться, если у вас фуражка с кокардой, и боятся каких-нибудь историй с тою приниженною боязливостью серого человека, которая особенно ярко бросается в глаза в вагонах и на пароходах, и чем дальше от столиц, тем больше, так сказать, нагляднее.
Он, этот «серый» пассажир, точно чувствует себя виноватым уже за то, что за свои деньги занимает место, и редко протестует, если ему прикажут «маленько потесниться»: вместо лавки, приткнуться как-нибудь в проходе или скорчиться на полу, и валяться на палубе в невозможной тесноте с кучей детей, которым грозит ежеминутная опасность быть придавленными в ночной темноте.
Этою безответностью, этим уменьем безропотно приспособиться к такому положению, которое любому иностранному крестьянину или рабочему показалось бы невозможным нарушением его права, пользуются, и широко пользуются, на железных дорогах и в особенности на волжских и сибирских пароходах. Вагоны и палубы зачастую набиваются живыми людьми, словно сельдями в бочках. Никто не находит возмутительной такую эксплуатацию. Никто из бесчисленного штата надзирающих не обращает внимания на такое нарушение права, хотя подобное скучивание людей и влечет за собой нередко болезни и смертность (особенно детей), как это и случается на сибирских пароходах, перевозящих переселенцев.
Если вы рискнете заметить о таком отношении к пассажиру, заплатившему деньги, какому-нибудь железнодорожному или пароходному начальству, то оно, разумеется, не только не обратит внимания на ваше замечание, но еще пренаивно выпучит глаза, спрашивая: «какое вам до этого дело?»
Такой именно вопрос и задал обер-кондуктор, когда на одной из станций между Петербургом и Москвой какой-то господин, скромно одетый, обратил внимание обер-кондуктора на то, что в двух вагонах третьего класса не хватает людям мест, что пассажиры сидят по трое на лавках, а некоторые принуждены стоять, и настойчиво просил дать им места.
– Да ведь пассажиры не жалуются.
– Но нельзя же так обращаться с людьми! – настаивал пассажир.
Слово за слово, и началась одна из обычных сцен, окончившаяся, впрочем, благодаря настойчивости протестанта и благоразумию травленого обер-кондуктора тем, что пустой задний вагон был открыт, и туда рассадили пассажиров, не имевших мест, преимущественно крестьян, возвращавшихся из Петербурга по деревням на полевые работы.
Что обер-кондуктор наивно удивился вмешательству постороннего человека, вступившегося за интересы людей, которые сами не протестовали в защиту их, в этом, конечно, нет ничего удивительного; но удивительнее было то, что среди кучки людей (и все из чистой публики), слушавшей это объяснение, никто не поддержал протестовавшего господина, и когда он обратился к стоявшим поблизости, как бы ища поддержки, то каждый отворачивался и уходил, выказывая отсутствие общественного чувства теми равнодушием и боязливою осторожностью вступиться в защиту ближнего, которые так часто проявляются при разных публичных случаях насилия и обиды слабого человека, несравненно более возмутительных, чем только что рассказанный.
Но любопытная черточка, и характерная черточка, присущая, как кажется, специально славянской натуре: многие из этих же самых людей, равнодушно отворачивавшихся, когда к ним обращались за поддержкой, по окончании этой «истории», возвратившись в вагон, хвалили вступившегося господина, находя образ действия его похвальным, громко бранили железнодорожные порядки и менее громко прохаживались насчет порядков «вообще». Но, случись с этим самым господином какая-нибудь неприятность за его «похвальное» вмешательство, можно держать пари сто против одного, что ни один из этих сочувствующих не пошевелил бы пальцем. В этом самом обыкновенном дорожном происшествии, как в малой капле воды, отразились общий характер и склад русского культурного человека, объясняющие многие явления современной жизни. И чем далее вы удаляетесь из Петербурга, тем чаще приходится вам наблюдать подобные «истории», встречаясь с еще большим равнодушием и большею боязнью путаться не в свое «дело», но зато слушая иногда ламентации * случайных спутников, несравненно более экспансивные и менее осторожные, чем те, которые приходится слышать среди пассажиров Николаевской дороги * , особенно среди петербуржцев, привыкших путешествовать с молчаливою сдержанностью и тою, чисто чиновничьей, брезгливостью в дорожных знакомствах, благодаря которым можно сразу отличить кровного петербуржца не по одному только бескровному лицу и кургузому пиджаку, обтянутым штанам и ботинкам с китайскими носками.
По мере удаления из Петербурга на восток увеличиваются в прямой пропорции и различные путевые неудобства и неожиданные приключения, и чувствуется все большая и большая потребность в терпении и персидском порошке. Путешествие принимает все более и более патриархальный характер, несколько напоминающий путешествие по девственным странам. Поезда двигаются медленнее и опаздывают чаще; часы отхода и прибытия пароходов находятся в большей связи с вдохновением и с милостью господней, чем с печатным расписанием. Поездная прислуга теряет свой столичный вид, казарменную вежливость и расторопность, принимая все более и более облик «мальчика без штанов» и обделывая с меньшей опаской свои маленькие гешефтики. Пароходные капитаны, в большинстве случаев попадающие в моряки по воле судеб и неокончания нигде курса, имеют вид добрых малых, старающихся задобрить гостей-пассажиров (разумеется, классных).
Приноравливаясь к местным нравам, они всегда готовы «закусить и выпить» с тем или другим охотником-пассажиром, чтобы скоротать однообразие плавания, и не прочь в часы вдохновения устроить иногда импровизированную гонку с каким-нибудь пароходом другой компании, к ужасу всех трезвых пассажиров (ведут, собственно говоря, пароход лоцманы; на долю капитана выпадает, главным образом, представительство и выпивка). Все чаще и чаще мелькают на головах чиновничьи фуражки с кокардой, заменяя собой шляпы и котелки. Чем больше вы подвигаетесь, тем более убеждаетесь, что гоголевские персонажи еще не исчезли, и вам предстоит видеть всю их серию; но предпочтительно, однако, объявляются классические Держиморды * , иногда не стесняющиеся даже и в публике показывать при случае «господам земледельцам» свои подчас страшенные длани.
Наблюдая в натуре то, о чем у вас давно составилось лишь теоретическое представление, вы начинаете сознавать не одним только умом, но и всем существом своим, что этот маленький «исполнитель», крошечное звено в общей бесконечной цепи, с таким пренебрежением третируемый в столицах, где он мелькает изредка в передних в образе скромнейшего, безответнейшего ничтожества, где-нибудь в глухом месте действительно может иногда играть роль какого-то «фатума», от которого иной раз обывателю становится несколько тесно жить на божьем свете. Побеседовав с таким джентльменом в дороге по душе (русский человек любит подобные беседы за закуской), вы скоро сообразите, что от его доброй воли, ума и сообразительности непосредственно иной раз зависят спокойствие и благополучие многих человеческих жизней, и вам станут понятны все эти однообразные «обывательские» рассказы и анекдоты, которыми обыкновенно коротаются долгие дни пароходного плавания, если не составился винт * .
В ответ на ваше замечание (если вы сделаете таковое), что закон, слава богу, существует не только для столиц, но и для всей империи, и что права жаловаться, по крайней мере, не лишен никто, вы по большей части сперва услышите веселые замечания насчет «кукушки и ястреба» * и затем резоны:
– Бесспорно, местное начальство сменит нерадивого подчиненного, если узнает, что он не оправдал доверия, но (без этих «но», как известно, у нас не кончается ни один разговор)… но, во-первых, «мужик» не всегда рискнет жаловаться, во-вторых, предположим, что пожаловался, и что жалобе дан ход – откуда, из какой Аркадии вы найдете другого «исполнителя», который бы «честно и благородно» исполнял свои начальственные функции? Обычный контингент – рассадник всех этих «мелких сошек», имеющих непосредственное отношение к мужику – представляет весьма ограниченный выбор (особенно в провинции), смущающий даже нередко самих выбирающих. Увы, и они жалуются в пустое пространство на недостаток людей, которые бы умели исполнить волю пославшего с чувством, с толком, с расстановкой и, получая в год шестьсот рублей, не старались бы проживать втрое.
Эти столь знакомые и надоевшие жалобы на недостаток людей увеличиваются к востоку с таким «crescendo», что вам начинает казаться, что чем дальше, тем реже будет попадаться «человек» и наконец, чего доброго, совсем исчезнет из обращения. Все будто сговорились. Везде, начиная со столиц и кончая захолустьями, теперь ищут «человека», ищут и, к удивлению, не всегда находят, словно бы и в самом деле он провалился куда-то в преисподнюю и не подает голоса, несмотря ни на какие призывы передовых статей, выкрикивающих: «объявись, человек!»
Было бы несправедливостью утверждать, что словоохотливый обыватель претендует лишь на недостаток одного какого-нибудь специального «вида» человека. При случае он не менее костит и своего избранника-земца и городского представителя, причем чаще всего жалуется не на учреждения, не на самый принцип, а на его применение. И сейчас же, в подтверждение, расскажет, как такой-то голова в таком-то захолустном городе «слопал» городскую землю, такой-то член «всучил» городу свой развалившийся дом, там «потревожили» банк и пр. и пр., – словом, повторит одну из тех бесчисленных историй, часть которых попадает на газетные столбцы в кратком извлечении: «украли», «разграбили».
С изменением долготы изменяются и типы «купца», «купеческого сына» и героя новейшего времени – кулака, являясь все более и более в натуральном виде, без того столичного соуса, который придает им некоторый лоск и своеобразную повадку. Вы встретите больше «откровенности», большую примитивность в приемах и костюме. И грабят, и безобразничают, и пьянствуют, так сказать, нараспашку, еще не просветясь насчет «святости» капиталистического строя и не всегда вводя в обиход разговора «жалких» слов об «основах» и т. п., а просто «рвут», где можно, и делу конец. «Пассажир» вообще встречается все более и более невзыскательный, покладистый и любопытный, первым делом осведомляющийся: «кто вы такие будете?» и расспрашивающий о Петербурге с некоторым чувством страха и благоговения, что однако не мешает питать к нему и долю недоброжелательства за то, что он слишком много сочиняет бумаг, а не знает совсем провинции и относится к ней свысока. И «дама» попадается не та, какую вы видели до Москвы и первое время за Москвой. Общий вид другой. Лица более рыхлые, румяные, сонные и «уравновешенные». Знакомый вам «нервный» тип русской интеллигентной женщины, к которому привык глаз в Петербурге, в дороге попадается все реже и реже, заменяясь пестрыми костюмами и разбитными, с претензиями на светскость, манерами провинциальных «чиновниц», цивилизованных купеческих дочек, или ветхозаветными платками молчаливых и степенных купчих «старого обычая», выскочивших как будто на палубу парохода прямо из пьес Островского. Дамские беседы все более и более принимают характер допроса, сплетни и кулинарных откровений, так что, проведя час-другой в разговоре с одной из таких дам, вы не только будете основательно допрошены о ваших родных до четвертого колена, но, в свою очередь, будете посвящены в «подноготную» родного «гнезда» рассказчицы и научитесь приготовлять соленья и маринады из разных ягод, обилием которых в Сибири вас утешает прекрасный пол. «Урядник» встречается более чумазый и юркости в нем как будто меньше, а «полицейский» на пристанях и совсем с виду богом обиженный. Пассажир-мужик теряет тот столичный, ернический вид, который заметен в возвращающихся домой питерцах, и за Москвой «сереет». С Нижнего * вы уже встречаетесь с массой переселенцев, направляющихся из разных концов России на привольные землей места далекого края, а из Тюмени плывете, имея на буксире арестантскую баржу, в которой скучена партия человек в семьсот будущих невольных жителей отдаленных и не столь отдаленных мест Сибири, плывущих на каторгу, поселение или в административную ссылку.
«Варнак», как называют ссыльных сибиряки, не оставляет уже вас ни на минуту, как только вы перевалили Урал. О нем говорят ямщики, его презирают и боятся, им наполнены уголовные летописи сибирских газет, вы его видите пробирающимся около большого тракта. И вы невольно запасетесь револьвером где-нибудь в попутном городе, если только не запаслись им раньше. Но только едва ли придется им воспользоваться. Не так страшен «варнак», как о нем говорят и как впоследствии узнает читатель из дальнейших очерков путешествия.








