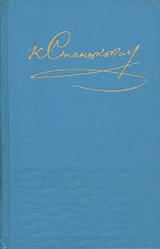
Текст книги "Том 7. Рассказы и повести. Жрецы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
Одно мгновение *
I
Однажды чудным тропическим вечером, когда корвет «Витязь» шел себе под всеми парусами узлов по восьми, направляясь в Рио-Жанейро, в кают-компании за чаем зашел разговор о самоубийстве.
Поводом к такой редкой среди моряков беседе послужил рассказ одного лейтенанта о своем товарище, который два года тому назад застрелился от несчастной любви к одной замужней женщине.
Рассказчик назвал эту женщину. Ее многие знали в Кронштадте. Это была жена одного инженера, изящная блондинка с рыжеватыми волосами, умная, милая и обворожительная, казавшаяся молодой, несмотря на свои тридцать девять лет.
Большинство моряков не выразило ни малейшего сочувствия самоубийце. Почти все находили, что стреляться из-за женщины глупо.
А пожилой старший штурманский офицер, отличный и неустрашимый моряк, и в то же время, как все знали, настолько трусивший своей высокой, полнотелой жены, бойкой и сварливой, что даже сам просился в дальнее плаванье, желая избавиться от домашних сцен, не без авторитетности произнес:
– Самое последнее дело пропадать из-за женского ведомства. Только шалые юнцы на это способны. Получил ассаже – инженерша дама строгая – и ба-бац! Думал, что эта самая инженерша только единственная на свете… В те поры не соображал, что есть и другие дамы. В затмении был…
Все принимавшие участие в разговоре согласились со штурманом и вообще не одобряли самоубийства от каких бы то ни было причин. Многие находили, что самовольное лишение жизни обличает трусливую душу и, во всяком случае, эгоиста, не думающего о страдании, которое он причиняет другим. Человек с характером и в здравом уме никогда не пойдет на самоубийство.
– Это все равно, что бросить судно в минуту опасности! – с убежденным спокойствием проговорил старший офицер, капитан-лейтенант лет под сорок, с Георгием в петлице белого кителя, прежний черноморец, пробывший всю севастопольскую осаду на четвертом бастионе и раненный во время последнего штурма. – Ни один порядочный моряк это не сделает за совесть, а не за страх ответственности. Надо бороться до последнего издыхания. Не правда ли?
Все согласились, что правда.
Только один из присутствующих в кают-компании не ответил на вопрос старшего офицера.
Он не принимал участия в разговоре и, словно бы нисколько не интересуясь им, молча отхлебывал чай, нервно выкуривая папироску за папироской.
Это был мичман Стоянов, смугловатый брюнет лет двадцати пяти, с курчавыми черными волосами и шелковистыми усами, небольшого роста, сухощавый, серьезный, с тонкими чертами красивого, мужественного и умного лица, в выражении которого сразу чувствовалась сила воли недюжинного характера. В задумчивом взгляде темных глаз, опушенных длинными ресницами, было что-то смелое, открытое и несколько надменное, словно во взгляде молодого орла.
Много читавший, независимый в своих суждениях, нередко расходившийся во взглядах с сослуживцами, Стоянов держался особняком, не подчеркивая, впрочем, этого, и ни с кем особенно близко не сходился. И несмотря на это Стоянова все уважали за его прямой рыцарский характер, полный благородства и чуткой деликатности, за соответствие его слов с делом, за ум и добросовестное отношение к служебным обязанностям. Он считался всеми лихим морским офицером и лучшим вахтенным начальником. В то же время он был ревизором [3]3
Офицер, заведующий хозяйственной частью. (Прим. автора.)
[Закрыть], аккуратность и щепетильная честность которого были вне всяких сомнений!
Матросы тоже уважали Стоянова, но едва ли понимали и любили этого странного, по тогдашним временам, морского офицера.
Хотя никогда он никого не наказывал, не дрался и даже не ругался, был ровен, мягок и справедлив, тем не менее матросы словно бы чувствовали в нем совсем чужого человека. Он никогда не разговаривал с матросами, не шутил с ними и, казалось даже, как будто брезгал ими. Он не искал популярности среди них, как делали многие другие, и точно конфузился, попадая в матросскую толпу; и в то же время был самым горячим представителем за них.
Никто и не знал, скольких он избавлял от позорных телесных наказаний, до которых старший офицер был большой охотник, убеждая, упрашивая, умоляя сурового моряка пожалеть людей и не унижать их человеческого достоинства. Ведь скоро телесные наказания будут отменены официально. Об этом уже писали в «Морском сборнике».
И старший офицер, с которым Стоянов обыкновенно в таких случаях говорил глаз-на-глаз в его каюте, нередко снисходил к просьбам молодого мичмана, невольно поддаваясь обаянию его страстной речи, заменял порку каким-нибудь другим наказанием и – сам в сущности не злой человек – в душе питал благодарное чувство к Стоянову, останавливавшему его от жестокостей.
И старшего офицера команда любила, а Стоянова нет.
Он это чувствовал, он видел, что и в кают-компании он далеко не любим. Он понимал, что стоит только несколько приспособляться к людям – и все изменится, но он чуждался такой фальши, не менял своих отношений и по-прежнему был одинок.
Со дня выхода из Шербурга Стоянов стал искать еще большего одиночества и, казалось, чуждался всех. В нем заметна была какая-то перемена. Несмотря на его спокойствие на людях, многие замечали, что Стоянов часто бывал мрачен и видимо что-то угнетало его.
Приписывали это разлуке с невестой. Многим было известно, что Стоянов любит и горячо любим этой прелестной девушкой, приезжавшей на корвет в день ухода его из Кронштадта.
– А вы что ни слова не скажете, Борис Сергеич? – обратился к Стоянову старший офицер.
– Я слушал, Иван Николаич.
– Вы, по обыкновению, не согласны с общим мнением?
– Не согласен, Иван Николаич.
– И оправдываете самоубийство?
– Вполне.
– Из-за какой-нибудь несчастной любви? Вы, Борис Сергеич?
– Из-за любви нет. Но бывают такие случаи в жизни, после которых жить нельзя! – Как-то решительно и вместе с тем грустно проговорил Стоянов.
– Например?
– После какой-нибудь подлости… после позора…
– А искупить его лучшей жизнью разве нельзя?.. Человек, сознающий весь ужас позора, уже наполовину исправившийся человек.
– Люби кататься, люби и саночки возить. Сделал пакость, так имей характер и отдуться за нее! – вставил штурман.
– Все это легко говорить, а пережить позор, я думаю, невозможно! Лучше смерть!
– Ну и самому прописать себе отпуск на тот свет тоже не особенно легко, Борис Сергеич! В ошалелом состоянии, из-за любви, как это ни глупо, а еще можно понять самоубийство, но чтобы покончить с собой сознательно, обдумавши…
– Я только и понимаю такое самоубийство.
– А расстаться с жизнью разве так легко, вы думаете? Нет, батенька, не легко. Я испытал это раз, когда мы на «Змейке» наскочили на камни и думали, что всем нам тут крышка. Ох, и как же жутко было! – заметил старший офицер.
– Не спорю, что легко… Но…
Стоянов запнулся, точно у него что-то застряло в горле, и через секунду с каким-то убеждающим спокойствием в тоне продолжал:
– Но ведь это одно мгновение… Одно только мгновение! – повторил он.
И смолк, видимо не желая продолжать этот разговор.
Через несколько минут он вышел наверх и стал у борта. Он смотрел то на чудное, усеянное звездами небо, то на тихо рокочущий сонный океан, волны которого ласково лизали бока корвета, отсвечивая фосфорическим блеском.
Он долго стоял наверху, и слезы лились из его глаз.
– Всего одно мгновенье! – чуть слышно произнес он и спустился вниз, в свою маленькую опрятную каюту, где над койкой висела большая фотография прелестной девушки.
Он сел к письменному столику, подписал какие-то две ведомости, предварительно проверив их, написал своим мелким четким почерком рапорт командиру и стал писать письмо невесте.
Когда, в исходе четвертого часа, рассыльный пришел в каюту будить мичмана на вахту, Стоянов уже окончил письмо и вложил его в конверт. Затем он сложил аккуратно рапорт, запер шифоньерку на ключ и с последним ударом колокола, отбивавшего восемь склянок, выбежал наверх и принял вахту.
II
Стоянов мерно шагал по мостику, жадно вдыхая свежий воздух моря. Он поглядывал на паруса, подходил к компасу взглянуть, по румбу ли правят рулевые, спускался на палубу проверить часовых на баке и снова ходил своей обычной легкой и грациозной походкой.
Когда солнце, медленно освобождаясь от своих пурпурно-золотистых риз, поднялось над горизонтом, Стоянов жадно устремил глаза на горизонт, любуясь прелестью восхода. Лицо его было мертвенно-бледно и решительно-спокойно. Только в его прекрасных глазах стояло выражение мучительной тоски.
Он еще раз обвел этим тоскливым жадным взглядом и чудное бирюзовое небо, и далеко раскинувшийся океан, сверкавший под лучами ослепительного солнца, и палубу корвета со спавшими на ней матросами, и все это казалось ему чем-то особенным, новым, имеющим невыразимую прелесть. И жажда жизни охватила все его молодое существо, и слезы брызнули из глаз.
– Пора! – прошептал он.
И с усилием, словно бы еще борясь с самим собой, наконец произнес:
– Сигнальщик!
Подремывавший матросик явился к нему.
– Поди… разбуди мичмана Варламова… Скажи, что я болен… прошу сменить меня.
Он говорил прерывисто, словно бы не находил слов.
И когда сигнальщик пошел исполнять приказание, ему хотелось вернуть его и в то же время он обрадовался, что сигнальщик уже исчез.
Через пять минут явился заспанный, недовольный Варламов.
– Извините, Андрей Андреич… Я болен… Примите от меня вахту… Я должен уйти…
Варламов взглянул на Стоянова и был поражен каким-то страшным спокойствием его осунувшегося мертвенного лица.
– Идите, идите, Борис Сергеич… Что с вами?
– Скоро узнаете… Прощайте, Андрей Андреич.
Он крепко стиснул руку мичмана, как-то жалобно заглянул ему в глаза и произнес:
– Еще раз простите, что обеспокоил.
– Помилуйте… какие извинения!.. Идите скорей… Вы совсем больны, Борис Сергеич.
– Иду… иду… Ведь одно мгновенье…
И с этими словами он занес за перила мостика ноги и бросился в океан.
Мичман ахнул. Ахнули и матросы, видевшие падение. Кто-то успел бросить спасательный круг.
– Фок и грот на гитовы! Марса-фалы отдать! – командовал отчаянным голосом мичман.
Через минуту капитан и старший офицер были наверху.
– Что случилось?
– Стоянов бросился за борт!
И капитан и старший офицер были поражены.
Минут через пять корвет лежал на дрейфе, и баркас отправился на поиски.
Все офицеры и матросы выскочили на палубу. Все со страхом ждали возвращения баркаса, предчувствуя, что он вернется без Стоянова.
И через час баркас вернулся; бывший на нем офицер рассказал, что видел, как Стоянов утонул, хотя спасательный круг и был вблизи. Но мичман не хотел его взять.
Корвет снова пошел далее, и все разошлись угрюмые.
Старший офицер утирал слезы.
III
Через четверть часа капитан, взволнованный, со слезами на глазах, пришел в кают-компанию и проговорил:
– Вот рапорт Бориса Сергеевича… Прочтите, господа. А я снова читать не могу…
С этими словами он торопливо ушел.
И старший офицер прочел рапорт следующего содержания:
«Честь имею донести вашему высокоблагородию, что я совершил поступок, недостойный честного человека. В Шербурге я проиграл пятьсот рублей казенных денег. Хотя я пополнил часть их причитающимися мне за месяц жалованьем и столовыми, а остальная часть будет пополнена товарищем, которому я написал из Шербурга, тем не менее после такого позора я жить не могу. Могли не узнать о моей растрате товарищи, но я-то ее знал и следовательно не считал себя в праве воровски пользоваться общим уважением и оставаться жить на свете.
Донося об этом вашему высокоблагородию, прошу переслать прилагаемое письмо по адресу».
Старший офицер потрясенный ушел к себе в каюту. У всех на глазах стояли слезы.
Два моряка
I
Отставной вице-адмирал Максим Иванович Волынцев только что поднялся с жестковатого дивана, проспавши свой положенный час после обеда.
Откашлявшись, Максим Иванович снял халат, бережно повесил его в шкап и облекся в старенький, но опрятный сюртук с адмиральскими поперечными, как у отставных, погонами, прошелся щеткой по седой, коротко остриженной голове, расчесал белую пушистую бороду и усы, закурил толстую папиросу и присел в плетеное кресло у письменного небольшого стола.
Не спеша вынул он из футляра очки и взял со стола аккуратно сложенную газету.
Несмотря на потертую обивку старомодной мебели и старенькие вещи, бывшие в кабинете, все в этой небольшой комнате имело необыкновенно опрятный и даже приветливый вид, сияя тою умопомрачающею чистотой, какая только бывает на военных кораблях.
Пол сверкал, точно зеркало. Дверные ручки, оконные задвижки и медные кнопки гвоздиков, на которых висели, занимая сплошь всю стену, фотографии в черных простых рамках, – блестели под лучами редкого петербургского солнца, светившего в течение целого августовского дня. Занавески на окнах были ослепительной белизны: фикусы, аралии и пальмочки вымыты и выхолены – одним словом, решительно все в комнате свидетельствовало о привычке хозяина к порядку и щепетильной чистоте, и все, казалось, дышало приветливостью.
Даже хорошенькая «Верушка», как звал Максим Иванович маленькую канарейку, и та, заливавшаяся во все горло, казалась необыкновенно чистенькой и веселой, а клетка, которую адмирал собственноручно чистил два раза в день, просторная, белая клетка, усыпанная песком, содержалась в безукоризненном порядке.
Кабинет напоминал каюту, и в нем даже пахло немного кораблем от острого смолистого запаха мата, лежавшего вместо коврика под ногами адмирала.
И сам он своим внешним видом производил впечатление той же опрятности и приветливости, которыми отличались кабинет и вся скромная его обстановка.
Это был небольшого роста, сутуловатый и сухощавый старик лет шестидесяти, крепкий и бодрый на вид. Вся его небольшая фигура с первого же раза внушала к себе невольную симпатию. И в выражении его старого, морщинистого лица, отливавшего здоровым румянцем, и особенно в выражении небольших, еще живых и острых темных глаз было что-то необыкновенно хорошее: доброе и ласковое и в то же время застенчивое, говорящее о душевной чистоте и о честно прожитой жизни.
И действительно, вся его жизнь была лямкой добросовестного морского служаки, который даже и в прежние суровые времена отличался добротой и был любим матросами за то, что обращался с ними по-человечески. Честный до щепетильности, он никогда не пользовался казенной копейкой, никогда не подлаживался к начальству, не знал протекции и, считаясь одним из лучших моряков, много плавал, но особенной карьеры не сделал. Напротив, испортил ее своею независимостью, принужденный выйти в отставку уже контр-адмиралом вследствие того, что не поладил с высшим морским начальством. Он, конечно, ничего не имел и скромно жил с семьей на скромную пенсию.
Максим Иванович принялся за газетный фельетон, чтение которого он всегда откладывал до вечера. Утром адмирал прочитывал все остальные отделы и читал их сплошь, от первой строки до последней, начиная с передовой статьи.
Это был один из тех редких читателей, которые не пропускают ни одного известия и не просто читают, а, так сказать, священнодействуют.
Максим Иванович привык к своей газете, но не верил ей безусловно и частенько-таки не соглашался с ее мнениями. Прочитывая иногда в передовой статье о том, что «Россия не допустит» того-то и того-то, и, вникая в смысл вымышленных quasi! [4]4
Мнимых (лат.).
[Закрыть]– патриотических фраз, полных бесшабашного шовинизма, старый адмирал, пробывший всю осаду Севастополя на одном из бастионов и получивший за храбрость еще в лейтенантском чине Георгиевский крест, белевший в петлице его сюртука, неодобрительно покачивал головой и, случалось, говорил вслух:
– Тоже пишет! Молода, во Саксонин не была! Послать бы тебя, строкулиста, самого на войну!
Но особенно старика возмущало, когда газета, не жалея красок, восхваляла какого-нибудь вновь назначенного сановника.
И тогда его обыкновенно добродушное лицо выражало нескрываемое презрение, и он приговаривал, обращаясь, по-видимому, к автору хвалебной статейки:
– И кто тебя, льстеца, за язык дергает? Раненько, брат, хвалишь… Нехорошо!..
Зато, если Максиму Ивановичу статейка нравилась и он находил мысли ее «правильными и благородными», он с увлечением прочитывал вслух особенно понравившиеся ему выражения и восклицал:
– Ай да молодчага! Ловко!.. Так и надо писать, коли бог тебе талант дал!..
И, случалось, писал в редакцию газеты письмо, в котором выражал благодарность неизвестному автору статьи за доставленное им удовольствие.
За завтраком Максим Иванович обыкновенно передавал в более или менее коротких извлечениях все интересное, прочитанное в газете, своей жене и дочери.
И хотя и жена и дочь сами уже прочли после адмирала газету, но обе они, обожавшие старика, внимательно слушали, пока он не спохватывался и не говорил со своею добродушною улыбкой:
– Да вы уж читали…
– Ничего, ничего, рассказывай…
Но Максим Иванович не продолжал, а переходил к обсуждению прочитанного и нередко критиковал газету.
Сегодня адмиралу, по-видимому, не понравился фельетон. Во время чтения он дергал плечами и наконец проговорил:
– Тоже фанаберия… Скажи пожалуйста! А у самого-то на грош амуниции!
В эту минуту в кабинет вошла легкой, слегка плывущей походкой, с подносом в руках, дочь адмирала Наташа, или, как звал ее отец, Нита, высокая и худощавая, стройная и грациозная в своих движениях блондинка, лет двадцати пяти, с большими ясными серыми глазами. В ее лице, светившемся умом и тою одухотворенною красотою, какую можно встретить лишь у избранных натур, было то же выражение душевной чистоты и мягкости, что и у отца, но лицом она совсем на него не походила. Одета она была очень скромно, но с тем изяществом, которое свидетельствовало о вкусе не одной только портнихи. На ней была шерстяная черная юбка, открывавшая маленькие ноги, и светло-серый лиф с высоким воротником, закрывавшим шею. И все это на ней сидело так ловко и так шло к ее свежему лицу молочной белизны с нежным румянцем. Ни серег в ее маленьких ушах, ни колец на ее красивых, тонких руках с длинными породистыми пальцами не было. Только маленькая брошка с тремя брильянтиками – подарок отца – блестела у шеи.
– Ты кого это, папа? – спросила она, улыбаясь, когда поставила на стол стакан чая и блюдечко с вареньем.
– Да этого «Виго»… Не люблю я его… Ломается… Читала сегодняшний фельетон?
– Читала, папа.
– И тебе не нравится?
– Не нравится.
– У нас с тобой одинаковые вкусы, Ниточка! – проговорил отец и взглянул на дочь взглядом, полным любви и обожания.
Вместо ответа Нита поцеловала старика.
– Славная ты моя! – промолвил умиленно старик. – Скоро вот и другой наш славный вернется, – оживленно прибавил Максим Иванович.
– А когда?
– Дня через три, я думаю, они придут в Кронштадт, если ничто их не задержит. В море ведь нельзя, Ниточка, точно рассчитывать. Верно, Сережа протелеграфирует о выходе из Копенгагена, а из Кронштадта мне дадут знать телеграммой, как только «Витязь» покажется у Толбухина маяка. Уж я просил об этом… Мы все и поедем встречать Сережу… Ведь я голубчика шесть лет не видал! – прибавил Максим Иванович.
Действительно, отец в последний раз видел сына перед выпуском его из корпуса, восемнадцатилетним юношей, и, назначенный начальником эскадры Тихого океана, уехал на три года, а когда вернулся в Россию, не застал сына. Тот ушел в дальнее плавание.
Старик помолчал и прибавил:
– Надеюсь, Сережа бравый морской офицер и не забыл советов отца, как надо служить. Он ведь славный мальчик всегда был, только Морской корпус его несколько портил. Нынче там больше на манеры обращают внимание… Это тщеславие… Эта дружба с богатенькими князьками… Помнишь, как мы ссорились с ним из-за этого?.. Но да тогда он был юнцом, и все это, конечно, прошло с годами… Он ведь умный и честный мальчик! – горячо прибавил старик.
– Еще бы! – так же горячо воскликнула Нита и, словно бы чем-то обеспокоенная, порывисто прибавила: – Но только знаешь ли что, папа?
– Что, Нита?
– Сережа иногда напускает на себя больше фатовства, а он не такой. И ты не обращай на это внимания, если тебе покажется в нем что-нибудь такое… наносное…
Она старалась заранее приготовить отца к тому, что он увидит. Письма, которые она изредка получала от брата, не нравились ей; в них чувствовалось что-то такое, что глубоко огорчало ее и, конечно, огорчит старика. Да и раньше жизнь брата в отсутствие отца не отвечала ее вкусам, а – главное – его взгляды, его убеждения казались ей такими несимпатичными. И Нита, любившая своего единственного брата до безумия, не раз горячо с ним спорила, стараясь переубедить его.
И теперь, при мысли о скорой встрече брата с этим честным, безупречным отцом, предчувствие чего-то тяжелого невольно закрадывалось в ее сердце. О, как ей хотелось, чтобы предчувствие это оказалось ложным и чтобы Сережа не был таким практическим человеком, каким выставлял себя в письмах.
– Ну, конечно, наносное… Нынче это в моде. И моряки щеголяют тем, чего мы в молодые годы стыдились… Такой уж дух нынче во флоте, к сожалению… Идеал гроша царит… Какое-то торгашество… Да, Ниточка, моряки теперь не те, что были прежде! Прежде мы не думали поражать франтовством да по модным ресторанам шататься… Прежде мы были хоть и замухрышками, но зато, знаешь ли, на сделки разные с совестью не пускались, по передним у начальства не торчали, к тетенькам за протекцией не ездили, а тянули себе лямку по совести… А теперь… Ну, да что говорить… Я уверен только, что наш Сережа – сын своего отца и никогда не заставит его краснеть за себя… Не так ли, моя голубушка?.. Ты ведь у меня славная девочка и умница!
Нита поспешила согласиться с отцом, но, когда пришла в свою маленькую светлую комнатку, мысли о Сереже заставили ее снова задуматься. И ей было почему-то бесконечно жаль отца.
II
– Анна Васильевна! Нита! Готовы ли вы? Через четверть часа пора ехать, чтоб поспеть на пароход! – говорил, стуча в начале девятого часа утра поочередно в двери комнат жены и дочери, веселый и радостный старик, бодрый и свежий, приодевшийся в новый сюртук и надевший на шею большой крест Владимира второй степени, спрятавшийся под густою бородой адмирала.
Он то и дело посматривал на свои старинные золотые часы и, никогда не опаздывавший в своей жизни, за пять минут до отъезда снова стучался в комнаты своих.
Дамы были готовы; два извозчика уже стояли у подъезда, и вся семья за десять минут до девяти часов была на кронштадтском пароходе.
Утро стояло хорошее, солнечное и теплое, и Волынцевы сидели на палубе, радостно взволнованные в ожидании свидания с Сережей.
Наконец и Кронштадт.
Волынцевы с пристани отправились в Купеческую гавань, и там адмирал нанял ялик до Малого рейда.
– А не страшно на ялике, Максим Иванович? – спрашивала адмиральша, женщина лет пятидесяти, высокая и статная, сохранившая еще в своем лице остатки былой красоты, боязливо поглядывая на маленький ялик.
– Не извольте беспокоиться, барыня. И в погоду ездим, а не то что в тишь, как теперь! – проговорил старик яличник.
– Садись, садись, Анна Васильевна, не бойся! – успокоивал адмирал. – Ты привыкла все на катерах ездить, да на больших, ну а теперь мы в отставке, катеров нам не полагается! – шутливо прибавил адмирал.
– Сережа мог бы прислать за нами катер! – заметила адмиральша, усевшись при помощи мужа в ялик.
– Почем он знает, что мы с первым пароходом едем к нему. Он, быть может, и не ждет нас… Эка погода-то славная!.. Хорошо сегодня на море! – воскликнул адмирал, вдыхая полной грудью свежий морской воздух.
Действительно, было хорошо. Стоял мертвый штиль, и море расстилалось зеленоватой гладью. С безоблачного неба весело глядело солнце.
Вдали, на Большом рейде, виднелось несколько броненосцев, грозных, но неуклюжих, а поближе, на Среднем рейде, стоял крейсер «Витязь», весь черный и красивый со своими высокими тремя мачтами, паутиной снастей и с двумя белыми дымовыми трубами.
Ялик ходко шел, приближаясь к «Витязю».
Адмирал так и впился в него своими зоркими глазами лихого моряка, гордившегося, бывало, образцовым порядком и щегольским видом судов, которыми он командовал в течение своей службы, и тою любовью, какую питали к нему матросы и офицеры. Он любил и эту службу, полную борьбы и опасностей, любил и эти дальние плаванья на океанском просторе, любил и матросов, этих славных, добрых тружеников моря, готовых из кожи лезть, если только с ними обращаются по-человечески и признают в них людей, а не одну только рабочую силу. И Максим Иванович пожалел, что он в отставке и уже не в той родной среде, с которою так сжился. Но не он виноват, что его удалили из флота… Он слишком ценит чувство человеческого достоинства, чтобы оставаться во флоте ценою подлаживания к высшему начальству.
По-видимому, Максим Иванович остался доволен внешним видом «Витязя». Рангоут выправлен безукоризненно, реи тоже. Посадка судна превосходная.
– Славное суденышко, молодцом глядит! – нежно, почти любовно, произнес старый моряк. – Полюбуйся-ка, Нита.
– Уж я и то любуюсь, папочка!
– Я рад, что Сережа сделал кругосветное плавание не на броненосце, а на крейсере. По крайней мере, знает, как ходят под парусами, а то теперь молодые офицеры совсем не знают парусов… Все только под парами гуляют!
Чем ближе подходил ялик к крейсеру, тем нетерпеливее становились пассажиры ялика.
Еще несколько минут, и ялик пристал к парадному трапу «Витязя». Фалгребные матросы в синих рубахах с откидными воротниками, открывавшими загорелые шеи, стояли по бокам трапа, отдавая честь отставному адмиралу.
Молодой вахтенный мичман встретил прибывших у входа на палубу.
– Я хотел бы видеть лейтенанта…
Но старик не докончил.
Лейтенант, которого он так страстно хотел видеть, уже целовал руки и лицо матери, а Анна Васильевна, вся всхлипывая, осыпала поцелуями коротко остриженную белокурую голову и молодое красивое лицо, которое в первое мгновение показалось Максиму Ивановичу незнакомым, чужим, – до того оно возмужало и мало напоминало то нежное, безбородое лицо юнца, какое помнил отец.
Еще минута, и Сережа, осторожно освободившись из объятий матери, целовался с отцом и потом с сестрой… У всех на глазах сверкали слезы…
Всем хотелось говорить, и все говорили не то, что хотелось.
– Здесь у нас еще идет чистка, папа. Пойдем лучше в каюту! – проговорил наконец Сережа низким приятным баритоном, бросая быстрый взгляд на костюм Ниты и отводя глаза с довольным выражением.
– Веди куда хочешь, Сережа! – взволнованно отвечал отец.
– Вот наш капитан, папа… Позволь тебе его представить.
И, не дожидаясь согласия отца, он подвел капитана, пожилого приземистого брюнета, заросшего волосами, и представил его отцу, матери и сестре.
После нескольких минут разговора, в котором капитан очень хвалил молодого лейтенанта, все спустились в кают-компанию. Офицеры, сидевшие там, встали и поклонились. Сережа опять представил своим двух молодых офицеров, в том числе одного с княжеской фамилией.
– Познакомь уж со всеми, Сережа! – проговорил тихо адмирал, заметивши, что сын хотел вести его в каюту.
Все были представлены, и после того Сережа ввел своих в просторную, светлую, щегольски убранную каюту.
– А ведь я тебя, Сережа, не узнал в первую минуту… Так ты изменился… возмужал с тех пор, как мы не видались. Ну-ка, дай я на тебя погляжу.
И с этими словами старик крепко сжал в своей худой, костлявой, но сильной руке мягкую, пухлую холеную руку сына и глядел на него долгим любовным, полным бесконечной нежности взглядом.
– Экой ты молодец какой! – наконец проговорил он, отводя глаза, и стал разглядывать Сережину каюту.
Высокий, хорошо сложенный, свежий и румяный, с тонкими чертами красивого и умного, слегка загоревшего лица, опушенного светло-русой бородкой, подстриженной по-модному, a la Henri IV, молодой человек, недавно только что произведенный в лейтенанты, действительно глядел молодцом и притом имел тот несколько самоуверенный, хлыщеватый и в то же время солидный вид, каким в последнее время стали, по примеру серьезных молодых франтов из светского общества, щеголять и многие моряки молодого поколения, совсем не похожие на прежний средний тип моряка, отличавшийся отсутствием всякого хлыщества, скромностью и даже застенчивостью в обществе и некоторою, словно бы умышленною небрежностью костюма. Дескать, моряку стыдно заниматься такими глупостями, как франтовство!
Молодой Волынцев, напротив, был франтоват до мелочей и, видимо, тщательно занимался и своей особой, и своим туалетом.
Щегольской сюртук, сшитый не совсем по форме – длиннее, чем следовало, – сидел на нем как облитой. Стоячие воротники, с загнутыми впереди кончиками, сияли ослепительной белизной, а креповый черный галстук, завязанный от руки морским узлом, был безукоризнен. На ногах были модные остроносые ботинки без каблуков. От бороды и усов, чуть-чуть закрученных кверху, шел тонкий аромат духов. На мизинце одной из рук была красивая бирюза, и золотой браслет – porte bonheur [5]5
Браслет без застежки (франц.).
[Закрыть]– виднелся из-под рукава сорочки.
Сережа походил на сестру, но выражение его лица и карих глаз было совсем не то, что у отца и сестры. И в лице и в глазах Сережи было что-то самоуверенное, жестковатое и холодное. Чувствовалось, что, несмотря на молодость, это человек с характером.
Обрадованный свиданием, Максим Иванович в первые минуты не заметил ни изысканного франтовства, ни самоуверенного, полного апломба, вида Сережи и, оглядев каюту, промолвил:
– Однако и ящиков тут у тебя. Много же ты навез вещей, Сережа.
– Тут еще не все, папа… Еще в ахтер-люке есть.
– Куда столько?..
– И для вас, и для себя…
– Но ведь это денег стоит, и больших… Или ты, голубчик, себе во всем отказывал, чтобы навезти столько?..
Сережа чуть-чуть покраснел и торопливо проговорил:
– На все хватало, папа… А для тебя, Нита, есть и крепоны китайские для нарядных платьев, и веера, и бразильские мушки для серег, и хорошие изумруды для браслета… Хочешь посмотреть?
– Не надо, потом, потом… Нам хочется на тебя поглядеть, Сережа. Спасибо тебе, но только зачем мне. Я ведь не выезжаю.
– Она у нас домоседка, Ниточка! – вставил отец. – Все больше за книжками сидит.
– Напрасно. Ты стала такая хорошенькая, что могла бы выезжать и сделать хорошую партию! – смеясь проговорил Сережа.
Нита вспыхнула. Этот тон не нравился ей. Поморщился и адмирал.
– Ну, ну, не сердись, Нита… Хочешь быть монашкой и ученой – твоя княжая воля.
И он обнял сестру.
Анна Васильевна не сводила глаз с Сережи – такой он казался ей красивый и элегантный. Она рассказывала о родных, о знакомых, смеясь говорила, что многие барышни ждут его не дождутся. Сережа весело улыбался и покручивал свои выхоленные усы.
А Максим Иванович слушал, приглядывался и только теперь заметил, какой Сережа франт, и его, старика, особенно неприятно поразил этот браслет на руке сына.








