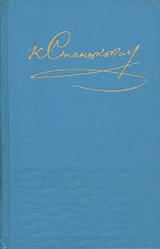
Текст книги "Том 7. Рассказы и повести. Жрецы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Зато вся остальная обстановка говорила о том, что хозяйка не только деловая женщина.
Полный книг большой библиотечный шкап, бюсты Шелли, Байрона, Тургенева и Толстого на мраморных колонках, марина Айвазовского, два жанра Маковского, фотографии с автографами разных «известностей» на мольберте и по стенам, уютный уголок с светло-серой мягкой мебелью вокруг маленького японского столика-этажерки, стол посредине с журналами и газетами, висячий фонарик и теплившаяся в углу лампадка пред образом божией матери – таково было убранство этой клетушки.
В ней было тепло и уютно. Тонкий аромат цветов приятно щекотал обоняние.
– Присаживайтесь сюда, Маргарита Васильевна, – указала хозяйка на маленький булевский диванчик и, отодвинув японский столик, на котором лежал желтый томик нового романа Золя, опустилась сама в кресло. – Снимите лучше шапочку, а то голове жарко будет. Прикажете угощать вас чаем? Вы ведь знаете, у нас, по купечеству, никаких дел без чая не делается! – прибавила в шутку Аглая Петровна, улыбаясь ласковою, широкою улыбкой и показывая ряд жемчужин-зубов.
Маргарита Васильевна от чая отказалась.
Она сняла шапочку и, встретив восхищенный взгляд Аглаи Петровны, любующейся тонкими чертами изящного, словно бы точеного, личика, смущенно и вместе с тем весело улыбалась.
– Так позвольте о деле? – проговорила она.
– Пожалуйста.
Несколько смущенная своим первым обращением за помощью к малознакомой женщине, Маргарита Васильевна сперва не совсем твердо, торопясь и конфузясь, начала излагать сущность дела, о котором хлопотала. Но скоро это смущение прошло, тем более что Аглая Петровна слушала ее с большим вниманием, серьезно и деловито, слегка склонив голову и по временам ласково улыбаясь глазами, словно бы поощряя гостью не стесняться.
«Как с ней просто и легко!» – подумала Заречная.
И, вполне овладевши собой, она не спеша, толково и несколько горячо развивала свою мысль о необходимости устроить в Москве для бедного люда большой дом, в котором были бы хорошая библиотека, зал для устройства лекций и концертов, столовая и чайная.
– Мне кажется, я уверена, что это было бы хорошее дело. Конечно, такой дом не панацея [16]16
Всеисцеляющее средство (греч. panakeia).
[Закрыть]от нищеты, пьянства и разврата, но все-таки… Пример Москвы вызовет и другие города. Вы сочувствуете этой мысли, Аглая Петровна? – закончила вопросом молодая женщина и снова покраснела.
– Как не сочувствовать! Очень даже сочувствую вашей идее, Маргарита Васильевна, устроить у нас то, что в Европе давно есть. В Лондоне целый народный дворец завели. У меня есть последний отчет, дело идет хорошо. Вот и на моей фабрике рабочие стали меньше ходить по кабакам и меньше бить жен и ребятишек с тех пор, как мы завели там читаленку и открыли чайную. Управляющий говорил мне, что и прогулов меньше. И им и нам, хозяевам, лучше. Мысль ваша хорошая, что и говорить.
– Я была уверена, что найду в вас сочувствие! – воскликнула просиявшая от радости Заречная.
– Ну, это что! – промолвила с тихой усмешкой Аглая Петровна. – Ведь вы же не за одним сочувствием ко мне пожаловали, а за деньгами. Зачем же к нам, к богатым купчихам, и ездят, как не за деньгами! – прибавила она.
Маргарите Васильевне показалось, что грустная нотка прозвучала в этих словах. Ей сделалось неловко, но она все-таки храбро проговорила:
– Вы правы, Аглая Петровна. Я приехала, рассчитывая на вашу помощь.
Эта откровенность видимо понравилась Аносовой, по крайней мере прямо, без подходов.
И она заметила:
– Дело только затеяли вы большое… Оно пахнет сотнями тысяч. И наконец, разрешат ли такой дом?
– Отчего не разрешить? Мне кажется, что в этом препятствия не будет.
– Оптимистка вы, как посмотрю, Маргарита Васильевна!.. Ну, разумеется, попытаться следует.
И, с деловитостью практической женщины, неожиданно прибавила:
– А покупать дом невыгодно. Лучше самим выстроить. И непременно на Хитровом рынке.
– У меня и смета и устав есть! – весело проговорила гостья, вынимая из мешочка несколько листков.
– Вот как… Значит, горячо принялись. Сколько же по смете выходит?
– Много, Аглая Петровна… Двести тысяч.
Но цифра эта нисколько не испугала Аносову.
Она пробежала глазами смету и протянула:
– Не мало ли?
– Архитектор говорит: довольно.
– Уж если затевать дело, так основательно. Архитекторы часто ошибаются. А вы смету и устав позвольте оставить… Я подробно ознакомлюсь… И принять участие в этом деле я не прочь… Одной только мне трудно… На этот год у меня уж почти все деньги, назначенные на благотворительные дела, распределены. Тысяч пятьдесят могу.
Она проговорила эту цифру спокойно, точно дело шло о пяти рублях.
Заречная глядела на Аглаю Петровну восторженными и благодарными глазами. Эта цифра изумила ее. Она словно вся засияла и порывисто воскликнула:
– Вот начало уже и есть!
– Ишь вы засияли вся, Маргарита Васильевна. Видно, очень уж дорога вам ваша мысль?..
– Еще бы!
– И сами вы, конечно, надумали ее… Или муж?
– Сама. Читала, что делают в Европе. Думаю: отчего не попробовать и у нас.
– А супруг одобряет?
– Я с ним подробно не говорила еще об этом! – ответила Маргарита Васильевна и невольно покраснела.
Аглая Петровна как будто еще ласковее взглянула на гостью после этих слов и весело сказала:
– Да и не надо путать мужчин. Бог с ними! Они и без того все захватили. Мы и без них обойдемся. Не правда ли?
– Конечно.
«А я-то думала: счастливая парочка!» – пронеслось в голове Аглаи Петровны, и она, словно подвергая экзамену свою гостью, спросила:
– А вы, Маргарита Васильевна, разве не побоитесь черной работы?..
– То есть какой?..
– А с этим домом!.. Например, заведовать им.
– Я этого только и желаю.
– Вот и отлично. Значит, и хозяйка дела будет хорошая.
– Прежде надо узнать, какая буду, а потом хвалить, – засмеялась Заречная.
– Да я ведь знаю, как вы в своем попечительстве работаете, и слышала, как вы два года тому назад на холере работали… Слышала. И как же мне нахваливал вас один господин!
– Кто это?
– Невзгодин, Василий Васильич. Ведь вы вместе на холере были?
– Да. А вы с ним знакомы?
– Этим летом в Бретани познакомились… Вместе в Сан-Мало на купанье были. Умный и интересный человек, только уж очень он представителей капитала не любит. Так громил меня, что страх. Однако не убедил меня раздать все свои богатства! – улыбнулась Аглая Петровна. – А вы знаете, ведь он женился. Я видела его жену. Студентка в Париже. Приезжала к нему на неделю.
– И уж разошелся с женой.
– Да? Он, кажется, не очень-то годится для семейного очага. Слишком независим и правдив… И она, его жена, мне не понравилась… Очень важничает своей медициной… Так Василий Васильич разошелся? Это верно? Откуда вы слышали, Маргарита Васильевна? – с живостью спрашивала Аносова.
– Он вчера мне сам говорил.
– Так он приехал? – вырвалось невольное восклицание у Аглаи Петровны.
И при этом неожиданном известии румянец алее заиграл на ее щеках, и радостный огонек блеснул в ее глазах.
Это не укрылось от Маргариты Васильевны.
«Невзгодин ей нравится!» – подумала она и ответила:
– Третьего дня приехал!
– И был у вас? – уже спокойно спросила Аносова.
– Да. Мы ведь старые приятели.
– Как же… Он говорил, каким был горячим вашим поклонником, Маргарита Васильевна.
– То было так давно… Два года тому назад, когда я не была еще замужем…
– А ко мне и не показался, хоть и обещал навестить, как вернется в Москву… Интересный человек… Не ломаный… Не боится говорить, что думает, и… такого не купить миллионами…
– Да… Хороший человек. Я его очень люблю! – спокойно проговорила Заречная.
– Он надолго сюда?
– Сам не знает… Богема.
– Да… Непутевый какой-то… Ну и язычок!.. – засмеялась Аглая Петровна.
Наступило молчание.
– Вот мужчина и отвлек нас от дела, – заговорила, смеясь, Аглая Петровна. – Ну их! Так я, говорю, не прочь дать пятьдесят тысяч, а остальные деньги надо собрать. Вы обращались еще к кому-нибудь?
– К вам к первой, Аглая Петровна. Других я никого не знаю, то есть не знакома…
– Это не беда; прямо поезжайте. И вас и мужа вашего знают в Москве.
– Я готова. Научите только, к кому ехать…
Аглая Петровна на минутку задумалась и потом назвала Измайлову и Рябинина.
– Эти, быть может, дадут. И деньги у них должны быть свободные. Особенно у Дарьи Степановны Измайловой. Богата очень и все свои капиталы непроизводительно держит в бумагах и только купоны режет! – не без снисходительного презрения вставила Аносова. – Можно ей сказать, что я даю, тогда она вдвое даст. Завистливы мы на все… На этом часто попадаются неосновательные люди! – усмехнулась Аносова. – Только к ней вы лучше не ездите сами, а пошлите мужа…
– Отчего?
– Скорее даст, если попросит мужчина, да еще такой красавец, как ваш муж. Любила их много в молодости и теперь, на старости лет, любит на них поглядеть. Распущенный человек, хоть и доброго сердца, – пояснила Аглая Петровна. – В узде не умела себя держать… Ну, да это и нелегкое дело, особенно для таких богачек… Не трудно сломать себе шею, если бог ума не дал и нет правил в жизни, – строго прибавила она.
«Ты-то своей прелестной головы не сломаешь!» – невольно подумала Маргарита Васильевна, любуясь Аносовой.
– А к Рябинину непременно поезжайте сами…
– И этот распущенный? – брезгливо проронила Маргарита Васильевна.
– Любит старик красивых женщин… Но только не бойтесь… Он совсем приличный человек.
Заречная надела шапочку и поднялась.
– Быть может, и не по делу когда заглянете, Маргарита Васильевна? – ласково пригласила Аносова.
– С большим удовольствием! – горячо проговорила гостья.
– Мы, кажется, сойдемся… Но только, конечно, не с визитом, а так… побеседовать… По вечерам я всегда дома и почти всегда одна. А вы когда свободны?
– Тоже по вечерам и тоже почти всегда одна.
Обе грустно улыбнулись.
Аглая Петровна проводила гостью через анфиладу комнат и, еще раз целуя Заречную, сказала:
– Сегодня, конечно, вы будете на юбилее?
– Буду.
– Так до вечера.
Аглая Петровна приветливо кивнула головой и, вернувшись в свою клетушку, присела за письменный стол и подавила пуговку электрического звонка два раза.
На зов явился старик артельщик, худощавый, опрятный, благообразный.
– Сейчас же поезжайте, Кузьма Иваныч, в адресный стол и справьтесь, где остановился дворянин Василий Васильич Невзгодин. Он третьего дня приехал из-за границы, верно, уже прописан. Фамилию, имя и отечество запишите. Да никому об этом не болтать! – толково, ясно, ласково и в то же время властно отдавала приказание Аглая Петровна.
– Слушаю-с! – отвечал артельщик и так же бесшумно ушел, как явился.
Аглая Петровна на минуту задумалась и, подавив вздох, принялась за поверку отчета по фабрике.
Костяшки так и прыгали под ее крупными белыми пальцами, нарушая тишину, царившую в клетушке.
IV
Для самолюбия мужчины в высшей степени больно и оскорбительно, когда в глазах любимой и притом умной женщины он теряет свой прежний ореол и представляется ей далеко не в том великолепии, в каком представлялся еще недавно.
В таком именно положении развенчанного героя и очутился, совершенно для себя неожиданно, молодой профессор после разговора с женой.
Если, впрочем, Николай Сергеевич по скромности и не претендовал на титул героя, – хотя, случалось, и не прочь был, грешным делом, погеройствовать на словах и пожалеть, что отечество не представляет благоприятной почвы для героических поступков, – то, во всяком случае, считал себя цивически безупречным общественным деятелем, разумеется, в пределах, не переступавших бесполезного донкихотства.
И, сравнивая себя с большинством своих коллег, Заречный не без некоторого права мог, как Нарцисс, любоваться собственною персоной и не находить серьезных оснований быть недовольным собой, подобно многим смертным.
Не напрасно же в самом деле он пользовался в Москве такою популярностью!
Его по справедливости считали блестящим профессором. Диссертация Заречного в свое время была признана ценным вкладом в науку и составила ему в ученом мире имя. Затем он не опочил, по примеру товарищей, на лаврах, а писал, как все знали, большую книгу, несколько глав которой были напечатаны в одном из журналов и вызвали в свое время лестные отзывы. В интеллигентных кружках и среди молодежи на него смотрели как на одного из тех стойких и независимых жрецов науки, которые, по красноречивому выражению самого же Николая Сергеевича, «высоко держат светоч знания». Ни для кого не было секретом, что Заречный не разделяет взглядов большинства товарищей и держится в стороне от всяких дрязг и интриг. Он и сам не скрывал этого и, намекая на трудность своего положения, говорил о змеиной мудрости и о долге порядочного человека быть и одному воином в поле. Студенты, и особенно первокурсники, из более впечатлительных, превозносили Заречного и в его горячих тирадах, сопровождавших иногда лекции, слышали голос человека твердых принципов, слова которого не расходятся с делом. Его любили как необыкновенно мягкого, доступного и всегда приветливого профессора, принимавшего близко к сердцу студенческие беды. Публичные лекции Заречного, которые он читал с благотворительною целью, всегда привлекали массу публики и вызывали овации. Его звали в разные филантропические общества и кружки, считая участие Николая Сергеевича необходимым для успеха дела. Он признавался первым оратором в Москве, где, как известно, любят и умеют красиво говорить, и его речи и в собраниях и на торжественных обедах слушались с благоговейным вниманием. Особенно носились с Заречным дамы. Они пропагандировали его славу, преклонялись перед ним, влюблялись в него, писали ему восторженные письма. В Москве ходили слухи, будто несколько лет тому назад, когда Николай Сергеевич еще был холостым, одна молодая интеллигентная купчиха, с огромным состоянием, покушалась на самоубийство, ввиду полнейшего равнодушия Николая Сергеевича к любви и миллионам этой хорошенькой психопатки декадентского пошиба, желавшей во что бы то ни стало сделаться женою модного красавца профессора.
Одним словом, Николай Сергеевич становился одним из тех излюбленных московских людей, которых обыкновенно называют не по фамилиям, как простых смертных, а лишь по имени и отечеству, и не знать которых так же предосудительно, как не знать Ивана Великого, Иверской, Царь-пушки и трактира Тестова.
Чувствительный к успехам и избалованный ими, Николай Сергеевич старался быть на высоте своей репутации и, отдавая всего себя на «общественное служение», как называл он свою разнообразную и действительно суетливую деятельность, отнимавшую много времени, не задумывался ни о том, насколько она плодотворна и полезна, ни о том, насколько ценна и заслуженна его популярность.
Да и некогда было.
Николая Сергеевича просто-таки «разрывали», и он, польщенный общим вниманием и вдобавок мягкий по натуре, не отказывался и всюду поспевал, везде играл видную роль. Решительно не было в Москве такого ученого, благотворительного или даже увеселительного общества, в котором не участвовал бы Заречный в качестве председателя, члена комитета или просто члена. И везде он читал рефераты, делал сообщения, возражал и говорил речи: и в ученых собраниях, и в благотворительных комитетах, и в обществе грамотности, и в родительском кружке, и в педагогическом, и в артистическом, и даже в обществе велосипедистов.
Деятельность его, вызывавшая общие восторги, никогда не подвергалась серьезной критике, и Николай Сергеевич мог, казалось, с горделивым сознанием своих общественных заслуг, пребывать на высоте положения, на которую его вознесли.
И вдруг эти насмешливо-ядовитые слова, эти холодные взгляды сурового обвинителя.
И кто же этот обвинитель?
Самый дорогой для него на свете человек – боготворимая жена, сочувствием которой он особенно дорожил и так долго его добивался, бывши ее поклонником.
Положение было донельзя обидное и мучительное. Оно осложнялось еще грустным открытием, что эта женщина, в которую профессор до сих пор влюблен со слепым безумием чувственной страсти, – так мало любит его. Она так спокойно сказала, что бросила бы его не задумываясь, при известных обстоятельствах, – и он знал, что это не пустая угроза. Если бы она любила, то, разумеется, не была бы так беспощадна к мужу, будь он даже дурным человеком. Любимым людям женщины все прощают.
Правда, она не скрывала, что выходит замуж далеко не влюбленная и – как она выразилась – «взвесивши все обстоятельства». И она их перечислила с мужественной прямотой, так что для Заречного не могло быть сомнения в том, что он для нее лишь умный, интересный и порядочный человек, которого она уважает и к которому расположена – не более. Потеряй он в глазах жены свой ореол, и она для него потеряна.
И он принял эти объяснения с восторгом влюбленного, несмотря на их обидную для мужчины условность, – принял, желая обладать любимым существом и надеясь, что заслужит и любовь. Он всеми силами добивался ее, был необыкновенно внимателен к жене, стараясь в то же время не надоедать ей своею навязчивостью, и ему казалось, что в эти два года и Рита полюбила его. По крайней мере, она была всегда ровна и ласкова, принимала к сердцу его интересы и не чувствовала себя оскорбленной, отдаваясь горячим ласкам мужа. Они жили согласно. Никаких недоразумений, никаких супружеских сцен. Рита по-прежнему уважала его и, по-видимому, вполне сочувствовала его деятельности.
«Уж не полюбила ли она кого-нибудь?»
Это было первой мыслью, которая пришла в голову профессора, когда он, после разговора с женой, шел в университет, взволнованный и удрученный, весь поглощенный думами о причине неожиданных упреков любимой жены. Подобно многим бесхарактерным людям, внезапно застигнутым бедой, он словно бы боялся взглянуть ей прямо в глаза и непременно хотел найти объяснение не там, где его следовало искать. Он стал перебирать в памяти знакомых мужчин, припоминал, с кем из них Рита чаще видится, и никто из них не мог возбудить подозрения даже в ревнивых глазах влюбленного профессора. И наконец, Рита безупречна в этом отношении: она не ищет авантюр. Она слишком горда, чтоб унизиться до обмана, и, конечно, не побоится сказать, если бы полюбила.
– Не то, не то! – как-то растерянно проговорил вслух профессор, сознавая, что только малодушно хотел сам себя обмануть, приискивая объяснение, между тем как оно так очевидно.
Презрительные слова жены о «праздноболтающих» стояли в его ушах. Он ощущал теперь всем своим существом оскорбительность их значения, догадывался, по поводу чего именно они сказаны Ритой, и знал, чего ждала от него Рита. Но ведь это было бы безумием? Ставить на карту свое положение – ненужное, бессмысленное донкихотство, против которого возмущается здравый смысл.
И всевозможные доводы, начиная с доблести и кончая учеными цитатами, необыкновенно услужливо приходили в голову профессора в виде протеста против обвинения жены в трусости.
Но, несмотря на это, Николай. Сергеевич в глубине души чувствовал, да и понимал, что жена до известной степени права и что имеет основания предъявлять к нему требования, перед которыми он бессилен.
«Права!» – мысленно произнес он и припомнил многое.
Не он ли говорил Рите, ради ее прелестных глаз, и раньше, когда был женихом, и потом, когда сделался мужем, не он ли сам говорил и ей, и перед ней, и перед многими те красноречивые, блестящие слова о правде, долге и борьбе, которым он, конечно, и сам верил и сочувствовал, но больше теоретически, как известным понятиям, а не правилам жизни. Взгляды, которые он развивал нередко в приподнятом тоне, особенно в присутствии Риты, не были выстраданы жизнью, не были откликом цельной натуры и сильного темперамента, для которого слово и дело неразлучны, а являлись – как у многих, – так сказать, дипломом на звание порядочного человека, чем-то не органически связанным с практической деятельностью – недаром же жизнь Заречного чуть ли не со студенческих дней не омрачалась никакими осложнениями, столь обычными для учащихся. И эти речи, завоевавшие ему уважение любимой женщины и всего общества, звучавшие так горячо и так сильно, казались и ему самому и другим искренними. Рита первая прослышала в них фальшивую ноту, придавая им более серьезное, обязывающее значение, чем придавал он сам, и может теперь подумать, что он сознательно ей лгал.
Мысль, что Рита считает его лжецом, привела в отчаяние профессора, осветив перед ним ту бездну, в которой он очутился благодаря себе самому.
А разве он лгал? Разве он лжет?
Николай Сергеевич возмутился, что может даже явиться подобный вопрос, и в то же время понимал, что такой вопрос возможен. И как жестоко наказан он за то, что другим даже не ставится в вину. Действительно, он, быть может, и говорил больше, чем следовало человеку в его положении, но он все-таки не лгал…
Бедный профессор, глубоко взволнованный и уязвленный, переживал неприятные минуты. Благодаря обвинениям жены в нем, едва ли не первый раз в жизни, шевельнулась мысль: не вводит ли он в заблуждение и себя и людей, пользуясь безупречной репутацией, и не защищает ли он, в сущности, свое личное благополучие, оправдывая компромиссы и горячо доказывая, что один в поле не воин.
Но чем назойливее лезли сомнения, готовые, казалось, сбросить Заречного с того пьедестала, на котором он так прочно и удобно стоял, тем сильнее оскорблялось самолюбие избалованного успехами человека и тем неодолимее являлось желание оставаться на прежней высоте. И опять на помощь являлись аргументы, один убедительнее другого, доказывающие, что он прав, что обвинения жены неправильны, что он поступает, как следует порядочному человеку, и даже не без доблести.
«Надо делать дело, а не геройствовать бессмысленно!» – подумал он.
Профессор несколько приободрился, найдя оправдание себе. В нем появилась надежда убедить Риту в своей правоте и вернуть ее уважение.
О, если б он не любил так безумно эту женщину!
V
Отдавая быстрые общие поклоны, Николай Сергеевич торопливо прошел мимо ряда почтительно расступившихся студентов, стоявших в проходе, поднялся на кафедру, привычным жестом бросил на пюпитр листки конспекта и сел, окидывая взглядом аудиторию.
Большая актовая зала, вмещающая шестьсот человек, была переполнена. Толпились в проходах; сидели на подоконниках. Слушать Заречного приходили с других факультетов.
– В последней лекции я изложил вам, господа…
С первого же слова воцарилась мертвая тишина. Студенты жадно внимали словам любимого профессора. Он читал действительно превосходно: громко, отчетливо, щеголяя литературным изяществом и сыпля блестящими сравнениями, остроумными характеристиками, меткими цитатами. Речь, вначале несколько вялая и бесцветная под влиянием еще не пережитых неприятных впечатлений, скоро полилась с обычной плавностью, полной какой-то чарующей музыкальности гибкого приятного голоса, живая, сильная и выразительная, невольно захватывающая слушателей. Несомненно, эта масса напряженных, вытянувшихся вперед молодых лиц с выражением чуткого, почти восторженного внимания, электризовала профессора, приподнимая и, так сказать, просветляя его настроение.
Он испытывал счастливое чувство той высшей удовлетворенности, которую дает кафедра, и, отдаваясь власти своего таланта, отрешался в эти минуты от мелочей и дрязг жизни, забывая себя и свои обиды, нанесенные любимой женщиной, и сам как бы внутренне хорошел и, увлеченный, не любовался своею речью. И его красивое лицо становилось одухотвореннее и словно бы мужественнее. Глаза, устремленные куда-то вдаль, искрились огнем увлечения. Талант творил свое дело преображения.
Заречный почти не заглядывал в конспект. Он знакомил своих слушателей с одной из героических эпох и сам, казалось, жил ею, оживляя ее в ярких картинах с талантом художника и освещая и обобщая факты с диалектическим мастерством блестящего эрудита с широкими общественными взглядами. Сам далеко не смелый и мягкий, он теперь восхищался смелостью в исторических личностях и превозносил с кафедры то, что в жизни считал бессмысленным геройством.
Гром рукоплесканий раздался в зале и не смолкал в течение минуты-другой после того, как Николай Сергеевич, проговоривши сорок минут, окончил лекцию. Лица студентов светились восторгом. Для некоторых из них слова профессора были не одними скоро забывающимися красивыми словами, а глаголами, которые жгли молодые сердца.
Видимо довольный бурным одобрением и в то же время стараясь скрыть свою радость под личиной напускной серьезности, Заречный несколько медленнее, чем можно было бы, собирал листки конспекта и, собравши, когда аплодисменты стали затихать, поднял руку, требуя слова.
Когда рукоплескания смолкли и воцарилась тишина, он проговорил:
– Господа! Лучшая оценка моих лекций – это переполненная аудитория и внимание, с которым вы их слушаете. Другая форма оценки излишня… Она к тому же не разрешается правилами, и я покорнейше прошу вас, господа, не употреблять этой другой формы…
Проговоривши эти слова, которые Николай Сергеевич всегда говорил после взрыва одобрений, он поклонился студентам, спустился с кафедры и вместе с тем как будто спустился с той высоты настроения, на которой только что был, точно актер, возвратившийся от иллюзии сцены за кулисы.
И мысли об обвинениях жены опять взволновали Заречного. Они отравляли хорошее впечатление после лекции, оскорбляя самолюбие и нарушая привычный душевный покой, которым до сих пор пользовался жизнерадостный и довольный собою Николай Сергеевич.
«О, если б Рита видела, как его любят студенты и какие устраивают овации!» – думал он и досадовал, что Рита не может быть на его лекциях.
Он торопливо проходил через расступавшуюся толпу, когда его нагнали два студента-«издателя», записывавшие и издававшие его лекции.
Один из них, довольно пригожий, чистенький и свежий блондин с голубыми глазами и кудрявой бородкой, пользовавшийся расположением Заречного как способный и серьезно занимавшийся студент и изредка бывавший у него как знакомый, обратился к нему с деловым, озабоченным и в то же время восторженно-почтительным видом человека, благоговейно влюбленного в своего профессора:
– Николай Сергеевич! Разрешите побеспокоить вас на одну минутку.
И во всей подавшейся стройной фигуре, и в выражении глаз, и в тоне свежего, молодого голоса чувствовалась некоторая аффектация.
– Охотно разрешаю! – с приветливой шутливостью проговорил Николай Сергеевич, останавливаясь. – Что вам угодно, господин Васильков?
– Когда позволите принести вам лекции на проверку?
– Когда? Да хоть завтра! – рассеянно ответил Заречный.
– Завтра ведь юбилей Андрея Михайловича Косицкого! – почтительно подчеркнул студент имя и отчество юбиляра.
– Ах, да… я и забыл. Я буду, конечно, на юбилее. Кажется, и студенты подносят ему адрес?
– Как же, все курсы. Если угодно, я вам принесу сегодня же текст адреса, Николай Сергеич, – предупредительно промолвил белокурый студент.
– Нет, зачем же… Так завтра нельзя… В таком случае послезавтра…
– В котором часу прикажете?
– Я, кажется, свободен от шести до восьми вечера. В девятом часу заседание. Так послезавтра. Мы вместе просмотрим лекции, и я вас отпущу с миром… До свидания! – сказал Заречный, протягивая студенту руку, и пошел далее к выходу в библиотечную залу, где собирались во время перерыва лекций профессора.
Один низенький черноволосый студент, худой и бледный, с возбужденным, болезненным лицом, все время не отстававший от Заречного и видимо желавший, но не решавшийся к нему подойти, наконец решился приблизиться к профессору, когда тот уже был у дверей, и, полный смущения, произнес чуть не с мольбою в глухом своем голосе:
– Господин профессор, господин профессор!
Заречный приостановился, останавливая рассеянный взгляд на незнакомом студенте.
– Что вам угодно?
– Мне очень нужно… необходимо поговорить с вами, господин профессор.
– Сделайте одолжение… Только говорите короче… Мне некогда.
– Нет, не здесь… Позвольте прийти к вам на квартиру… Мне хочется о многом спросить вас… И насчет книг и… и вообще. Я понимаю, что слишком нахален, обращаясь к вам с такой просьбой… Время у такого человека, как вы, драгоценно… Но не откажите… Пожертвуйте десятью-пятнадцатью минутами… Ведь вы не откажете? – возбужденно и слегка задыхаясь, видимо смущенный, говорил этот болезненный, невзрачный студент с задумчивыми и большими, точно глядящими внутрь глазами, одетый в очень ветхий сюртук.
– Охотно приму вас… Как ваша фамилия?
– О, благодарю вас, господин профессор, – радостно воскликнул студент. – Я был уверен, что вы не откажете… А моя фамилия Медынцев.
– Вы на первом курсе?
– На втором, господин профессор.
– Так приходите как-нибудь на неделе… В пятницу, например, около пяти часов… С удовольствием побеседую с вами, господин Медынцев… и постараюсь дать вам указания насчет книг и ответить на ваши вопросы, насколько я в них компетентен! – ласково ответил Николай Сергеевич, отводя участливый взгляд со впалых щек, на которых горел лихорадочный румянец.
«Бедняга совсем плох на вид!» – подумал Заречный и, приветливо кивнув головой студенту, скрылся в дверях.
VI
В небольшой комнате перед библиотечной залой было три профессора. Двое из них о чем-то оживленно беседовали, а третий – высокий худощавый старик, с узкой, коротко остриженной, начинавшей седеть головой, гладко выбритый, без бороды и без усов, с умным и несколько саркастическим взглядом небольших острых и холодных глаз, – он сидел в стороне с высокомерным спокойствием олимпийца, не обращая, по-видимому, ни малейшего внимания на двух своих коллег и на их разговор.
Это был заслуженный профессор Аристарх Яковлевич Найденов, известный ученый и знаток своей специальности, пользовавшийся большим влиянием благодаря своему недюжинному уму, связям в административном петербургском мире и замечательному уменью приспособляться ко всяким веяниям в течение тридцатилетней своей службы и в то же время не пользоваться заслуженной репутацией совсем наглого по беспринципности человека. Напротив, он умел, когда нужно, быть двуликим Янусом, посмеиваясь в душе над каждой из партий, считавшей его по временам своим. Он занимался наукой и в то же время ухитрился как-то устроиться еще при нескольких министерствах, так что получал в общем довольно много денег и, как говорили, имел небольшое состояние. Читал он лекции сухо, как-то нехотя, словно бы не желая спускаться с научных высот до уровня своих слушателей, и студенты посещали его курс больше по обязанности, и на лекциях у него бывало не более двадцати человек. А лет двадцать тому назад Найденов был едва ли не самый популярный профессор в Москве и читал в те времена блистательно…








