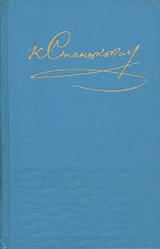
Текст книги "Том 7. Рассказы и повести. Жрецы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
В последнее время Найденов даже перестал быть и Янусом, – не стоило, – и с нескрываемым цинизмом оплевывал то, чему прежде считал нужным поклоняться, и даже самую науку умел приспособить к собственной карьере. Давно уж он держался вдалеке от своих коллег и жил замкнуто, сохранив отношения с очень немногими профессорами.
Заречный был учеником Найденова и в значительной степени обязан был ему и своими знаниями и своею кафедрой. Несмотря на циничные взгляды и несимпатичное поведение своего бывшего учителя, Николай Сергеевич поддерживал с ним отношения, изредка бывал у него и по старой памяти даже несколько побаивался его ядовитых и подчас злых насмешек, особенно в научных спорах.
– По-прежнему, любезный коллега, срываете аплодисменты, пожиная плоды своей популярности? – самым серьезным тоном проговорил старый профессор, слегка кивая головой и протягивая сухую, тонкую руку подошедшему к нему Заречному.
Тот вспыхнул, но ничего не ответил. Он прежде поздоровался с двумя коллегами и, вернувшись к Найденову, сказал:
– Я не ищу ни аплодисментов, ни популярности, Аристарх Яковлевич.
– Ну еще бы. Она сама идет к счастливцам, подобным вам… Да вы не сердитесь, Николай Сергеевич. Я ведь ничего не желаю сказать неприятного своему бывшему ученику. Право. Я мог бы только радоваться вашим успехам, если б не знал, как непостоянна волна человеческого счастья, дорогой мой.
Лицо старика по-прежнему было серьезно, когда он говорил свою ироническую тираду, только бескровные, тонкие губы его чуть-чуть перекосились да в серых глазах играла едва заметная лукавая улыбка.
– Я по опыту знаю все это, Николай Сергеевич. И от популярности в свое время вкусил, и имел честь быть освистанным, за что, впрочем, не в претензии, ибо свист этот много помог мне в дальнейшей жизни. А вы знаете, за что я был освистан? – понижая голос, спросил старик.
Заречный слышал об этой давнишней истории, но из деликатности сказал, что не знает.
– Молодым дуракам, которые теперь наверное уж сделались почтенными дураками, не понравилось то, что я им однажды прочел на лекции. Им показалось нелиберально, и они меня быстро разжаловали из излюбленных в подлецы. У нас ведь так же быстро производят, как и разжалывают, в чины. Сегодня излюбленный, а завтра подлец, и наоборот.
Найденов примолк и, когда из комнаты вышли два профессора, заговорил, конфиденциально понижая голос:
– А все-таки позвольте мне вам дать дружеский совет, Николай Сергеич.
– Какого рода?
– Среднего, собственно говоря… Не претендуйте на плохую остроту, – усмехнулся Найденов… – Не позволяйте аплодировать себе. Я знаю: вы умный человек. Я понимаю: положение излюбленного обязывает. Но ведь и жалованье остается жалованьем, а дальше ординатура, добавочные и так далее. Не так ли? Так уж вы завтра на юбилее Косицкого не очень-то давайте волю вашему блестящему ораторскому таланту. Сообщаю это вам к сведению.
Слова старого циника производили впечатление ударов бича, невольно напоминая слова Риты. Но Заречный решил выслушать все до конца и сдерживал свое негодование.
– Ну, а затем мне, кажется, пора и отбывать повинность! – продолжал Найденов, взглядывая на часы.
Поморщившись, Найденов лениво поднялся с кресла.
Длинный, худой и прямой, с приподнятой головой, с бесстрастным, казалось, выражением желтоватого, морщинистого, гладко выбритого лица, он в своем вицмундире совсем не походил на профессора, а напоминал скорей какого-нибудь значительного чиновника.
Глядя в упор пронизывающими глазами на Заречного, он самым любезным тоном проговорил, складывая свои тонкие блеклые губы в приветливую улыбку:
– А ведь вы, Николай Сергеич, совсем редко заглядываете к бывшему своему профессору. Это не совсем мило с вашей стороны.
Заречный был удивлен. Никогда раньше Найденов не звал к себе Николая Сергеевича и не упрекал за редкие посещения.
– Я очень занят, Аристарх Яковлевич, да и боюсь вам помешать! – уклончиво отвечал Заречный, несколько смущенный…
Насмешливая улыбка мелькнула в глазах Найденова.
– Я не такой занятой человек, как вы, Николай Сергеич… Меня не разрывают на части, как вас, и, следовательно, ваша боязнь помешать мне несколько преувеличена. Я почти всегда у себя в кабинете, любезный коллега… Копаюсь в архивных бумажках… вот и все мое дело. Так уделите часок вашего драгоценного времени и навестите меня на днях. Кстати, у меня к вам и дельце есть. При свидании объясню… Хоть мы и числимся в противоположных лагерях – вы в либералах, а я в обскурантах, – но это, надеюсь, не послужит препоной заехать ко мне. В Европе этим не смущаются… Не правда ли? – усмехнулся старик.
– Я заеду.
– Пожалуйста. Побеседуем… А вы мне расскажете, как отпразднуют юбилей Андрея Михайловича. Газеты хоть и дадут сведения, но сухие…
– А разве вы не будете завтра на обеде, Аристарх Яковлевич?
– Нет. Я вообще, видите ли, небольшой охотник до театральных зрелищ и, во всяком случае, предпочитаю Малый театр колонной зале «Эрмитажа».
– Но адрес Косицкому вы подписали?
– Кто вам сказал? И адреса не подписал. Разумеется, не по тем глубоким соображениям, по которым, говорят, затруднялся подписать один наш умный коллега. Вы тоже, конечно, слышали, что этот коллега находил неприличным подписать свою знаменитую фамилию не во главе списка… И так как впереди места не было, то бедняга оказался в большом затруднении… Напрасно ему не посоветовали подписаться сбоку и обвести свою фамилию рамкой… Тогда он совсем бы выделился… Но только я не подписал адреса по другим соображениям.
Заречному, знавшему, как скептически вообще относится Найденов к коллегам, и в особенности к тем, которые стараются по возможности сохранить свое достоинство, хотелось позлить старика, и он спросил:
– Почему же вы не подписали, Аристарх Яковлевич? Разве вы находите, что деятельность Косицкого не заслуживает адреса?
Лицо Найденова перекосилось от злости. Глаза заискрились. И он, медленно растягивая слова, произнес своим тихим, скрипучим голосом:
– А какая такая деятельность Косицкого? Я, признаться, о ней не знаю.
– Профессорская, ученая и вообще общественная, Аристарх Яковлевич.
– Профессорская?! Вызубрил когда-то две-три книжонки и с тех пор по ним читает свой курс. Не очень-то полезны такие профессора университету… а две статейки, напечатанные в журналах, вот все плоды его ученой деятельности… Впрочем, вы, конечно, не согласны со мной? – неожиданно оборвал старик, видимо сдерживая себя.
– Не согласен, Аристарх Яковлевич. Косицкий, конечно, не великий ученый, но…
– Но, – перебил Найденов, смеясь, – в шестьдесят лет все еще подает надежды… И разумеется, один из независимых, честных и безупречных служителей науки… Так, что ли, изображено в адресе?.. Или еще чувствительнее?
– Приблизительно так.
– Ну и на здоровье… А в речах вы его хоть в угодники произведите. Опровергать ходячее мнение не стоит… Да и некогда! И то мои студенты, пожалуй, уже ласкают себя надеждой, что я не буду им сегодня читать.
Старик снова взглянул на часы и уже совсем спокойно промолвил:
– А приветственную телеграмму Косицкому я все-таки пошлю.
– Пошлете? – удивленно спросил Заречный.
– Обязательно.
– За что же?
– А за то, что Андрей Михайлович хоть и прикидывается добродушным простачком, а в сущности умный и осмотрительный человек. Тридцать лет прослужить в звании российского профессора, да еще при разных курсах, тридцать лет слыть и знающим, и честным, и безупречным и быть на отличном счету и у начальства, и у коллег, и у студентов, и у общества, это, во всяком случае, свидетельствует об уме… А я прежде всего почитаю ум. Ну, и, кроме того, не хочу ссориться с Андреем Михайловичем. Однако я заболтался с вами. До свидания. Привет вашей супруге… Не забудьте же дружеских советов вашего благоприятеля, любезный коллега, если только хотите со временем праздновать свой юбилей. И помните, что я жду вас! – властным тоном, словно приказывая, прибавил старик.
Он слегка пожал руку Заречного и неспешной, размеренной походкой направился к дверям. Он выше и надменнее поднял голову и принял еще более суровый вид, когда вошел в аудиторию и увидал там всего десятка два слушателей.
А когда-то к нему на лекции сбегались студенты со всех факультетов.
VII
Заречный читал еще одну лекцию, потом ездил по разным делам, частью общественным, частью личным, и в седьмом часу вечера возвращался домой усталый, голодный и в отвратительном настроении.
В другое время он отнесся бы с молчаливым презрением к тому мнению о нем, какое так недвусмысленно слышалось в словах Найденова. Николай Сергеевич знал, что эта «озлобленная каналья» судит людей по себе и считает всех либо беспринципными циниками, как он сам, либо лицемерами, либо дураками. Только последние, по его мнению, могут быть порядочными людьми и верить в идеалы.
Немудрено, что он и на своего бывшего любимого ученика смотрит со скептицизмом старого циника. Но прежде, по крайней мере, он не говорил ему откровенностей прямо в глаза и с таким презрительным высокомерием, как сегодня. Сегодня старый авгур словно бы поощрял молодого.
И Заречный досадовал, что не оборвал старика и вообще был слишком терпим к нему и раньше. Но все-таки нельзя не ценить в нем крупного ученого и нельзя забыть учителя, которому многим обязан. И наконец, резкость не в характере молодого профессора!
Так, по крайней мере, объяснял себе Заречный свою сдержанность перед Найденовым, не думая или стараясь не думать, что, кроме этих причин, были еще и другие: боязнь навлечь на себя злобу влиятельного в университете профессора, который всегда мог напакостить, и приобретенная еще во время студенчества привычка: почтительно выслушивать насмешки ядовитого профессора в качестве одного из его любимцев.
Но самое оскорбительное для самолюбия Николая Сергеевича, самое убийственное для него заключалось в том, что унизительные комплименты Найденова и суровые обвинения Риты выражали собою одно и то же.
И любимая женщина и умный старик профессор не верили его искренности.
Вообще весь разговор с Найденовым производил на Николая Сергеевича скверное впечатление, напоминая ему слова Риты и смущая его.
«И что ему от меня нужно? Какое такое дело?» – задавал он себе вопрос, хорошо понимая, что Найденов так настойчиво его зовет исключительно по делу, а не для приятных бесед.
Сперва Заречный было подумал, что не поедет, но затем решил ехать. Свидание ведь ни к чему не обязывает – ни в какие дела, кроме специально-научных, он с Найденовым, разумеется, не войдет, – а между тем визит этот поможет уяснить ему свое положение.
Его несколько беспокоили эти «дружеские предупреждения» относительно осторожности. Вероятно, Найденов предостерегал не без каких-нибудь оснований – недаром же он дружен с властями и первый узнаёт обо всем.
Размышляя об этом, молодой профессор испытывал тревогу хорошо устроившегося, любящего известный покой человека, неожиданно узнавшего, что положение его, которое он считал прочным, оказывается далеко не таким. И одновременно с этим чувством тревоги он подумал, что в самом деле надо быть осторожным, и кстати припомнил и евангельское изречение о змеиной мудрости. Надо не давать ни малейшего повода к формальным придиркам… Непременно следует прекратить аплодисменты и сказать студентам, чтобы они берегли своего профессора. Ведь глупо же, в самом деле, из-за какого-нибудь пустяка бросить любимое занятие и лишить студентов хороших лекций. Нелепо рисковать местом и остаться без куска хлеба. Эта перспектива всегда была больным местом Николая Сергеевича. И без того его озабочивали запутанные денежные дела и долги. Сегодня только что пришлось переписать вексель и занять сто рублей.
Конечно, на его глазах творится немало скверного и глупого, и он бессилен помешать этому скверному и глупому…
Это только Рита всюду находит поводы и не хочет понять, что в жизни неизбежны некоторые компромиссы. Лучше делать возможно хорошее, чем ничего не делать.
Эта мысль увлекла его, и в голове молодого профессора складывался стройный ряд блестящих положений, убедительных доказательств. И как это все ясно! Какая могла бы выйти чудная речь и вместе с тем какое неотразимое оправдание всей его деятельности.
И Заречного внезапно осенила идея: сказать завтра на юбилее речь на эту тему. Эта речь произведет на Риту впечатление. Она поймет свою вину перед ним и, правдивая, подойдет к нему и скажет: «Николай! Я виновата!»
«Может быть, она и теперь сознает, что была несправедлива ко мне, и ждет моего возвращения!» – радостно мечтал Заречный, поторапливая извозчика.
Но когда он подъехал к маленькому особнячку и позвонил, эти радостные мечты мгновенно исчезли, и Николай Сергеевич вошел в прихожую далеко не с тем радостным видом, с каким входил обыкновенно, возвращаясь домой.
– А барыни разве дома нет? – спросил он у горничной, когда, войдя в столовую, увидел один прибор на столе.
– Барыня дожидались вас до шести часов, откушали и ушли…
– Давно?
– Только что.
Он взглянул на часы. Было без пяти семь. Он действительно сильно запоздал, но, случалось, Рита терпеливо поджидала его, зная, что не любит обедать один.
«А теперь не захотела. Ушла!» – тоскливо подумал Заречный, чувствуя себя обиженным, и проговорил:
– Давайте скорей обедать. Я есть хочу!
Несмотря на печальное настроение, Николай Сергеевич уписывал обед с жадным аппетитом сильно проголодавшегося человека, но, покончив обед, пил пиво, бокал за бокалом, с таким мрачным видом, что возбудил к себе искреннее участие в молодой пригожей горничной. Она слышала одним ухом разговор между супругами и, принимая сторону красавца профессора, находила, что он уж слишком обожает жену.
Вставая из-за стола, профессор спросил у Кати:
– Был кто-нибудь?
– Один господин был.
– Кто такой? Оставил карточку?
– Господин Невзгодин. Они у барыни были.
Заречного точно что-то кольнуло. Он знал, что Невзгодин был горячим поклонником Риты и что она расположена к этому шалопаю, как он его называл.
«Зачем он явился сюда из Парижа?»
– Невзгодин? – переспросил Заречный. – Вы не перепутали фамилию, Катя?
– Что вы, барин?.. Такая нетрудная фамилия… Такой маленький, аккуратненький господин… Из-за границы приехали! – докладывала Катя, прибирая со стола.
Ревнивое чувство охватило профессора, и он чуть было не спросил: долго ли сидел у жены Невзгодин. Стыд допроса горничной удержал его. Однако он не уходил из столовой.
И Катя сама поспешила удовлетворить его любопытство и в то же время доставить себе маленькое удовольствие произвести опыт наблюдения и с самым невинным видом болтушки прибавила:
– Барыня собирались было уходить, уж и шапочку надели, когда приехал господин Невзгодин, – но остались… И этот барин просил доложить, что на минутку, а сами целый час просидели.
– Я вас не спрашиваю об этом! – резко проговорил Заречный, чувствуя, что краснеет.
– Простите, барин… Я думала…
– Разбудите меня, пожалуйста, в восемь часов! – перебил, смягчая тон, Заречный и направился в кабинет.
Этот небольшой кабинет, почти весь заставленный полками, набитыми книгами, с большим письменным столом, на котором, среди книг, брошюр и мелко исписанных листков рукописи, красовалось несколько фотографий Маргариты Васильевны, показался теперь Николаю Сергеевичу каким-то гробом – тесным и мрачным…
Он снял вицмундир, надел фланелевую блузу и прилег на оттоманку, надеясь отдохнуть хоть полчаса. В восемь ему непременно надо ехать на заседание общества, в котором он председателем. Не быть там никак нельзя… Он читает реферат, и заседание наверное затянется.
Но заснуть Заречный никак не мог. Ревнивые мысли переплетались с воспоминаниями об обиде, нанесенной ему утром женой, и наполняли мучительной тоской его душу, возбуждая мозг до галлюцинаций.
Ему представлялось теперь почти несомненным, что Рита для него потеряна. В Невзгодине она найдет не только влюбленного поклонника, но и единомышленника. Этот донкихотствующий зубоскал, конечно, постарается отличиться перед Ритой радикальным скептицизмом. Он и раньше щеголял этим. Ничего не делал и только подсмеивался – это ведь так легко и ни к чему не обязывает.
При мысли о том, что Рита может его бросить, Заречный чувствовал себя глубоко обиженным и несчастным, и какая-то самолюбивая злоба отвергнутого самца охватывала его, когда он представлял себе Риту в объятиях Невзгодина. И ему хотелось унизить этого человека в глазах Риты. Он при первой же встрече это сделает…
Нет… он так не поступит. Он останется джентльменом. Он не будет мешать им… Если она полюбила… если она…
Мысли путались в возбужденной голове профессора. Он точно вдруг очутился в какой-то бездне противоречий и не находил выхода.
Тук-тук-тук!
– Восемь часов, барин!
– Хорошо.
Он торопливо оделся и, выходя, как-то застенчиво проговорил:
– Я, вероятно, поздно вернусь и не хочу беспокоить барыню. Сделайте мне постель в кабинете.
– Слушаю-с.
Заречный действительно вернулся поздно. Когда на другой день он встал в девять часов, чтоб поспеть на лекцию, а оттуда ехать к юбиляру, Маргарита Васильевна еще не выходила из спальни.
– Передайте барыне, что если она хочет быть на юбилее, то пусть приезжает одна. Мне никак нельзя заехать за ней! – сказал Заречный, осматриваясь в трюмо.
В хорошо сшитом фраке и белом галстухе, он глядел совсем красавцем. Несколько осунувшееся, побледневшее лицо и слегка ввалившиеся глаза, вследствие бессонной ночи, придавали ему еще более интересный вид.
VIII
За четверть часа до шести Невзгодин подъехал с Неглинной к небольшому подъезду отдельных кабинетов «Эрмитажа». Озябший на сильном морозе, он торопливо сунул извозчику деньги и вошел в ярко освещенные сени. Приятное ощущение тепла и света охватило его.
Два видных швейцара, остриженные в кружок и, по московской моде, в черных полукафтанах и в высоких сапогах, приветливо поклонились гостю.
– Вы на обед в честь Андрея Михайлыча? – осведомился один из них, помоложе, снимая с Невзгодина его, несколько легкое для русской зимы, парижское пальто с маленьким барашковым воротником.
– Да…
Невзгодин невольно улыбнулся и несколько торжественному выражению лица молодого востроглазого ярославца, и значительному тону, каким отчеканил он имя и отчество юбиляра, с московскою почтительностью не называя его по фамилии.
– А вы знаете, кто такой Андрей Михайлыч?
– Помилуйте-с… Как не знать-с Андрея Михайлыча! – обидчиво заметил молодой швейцар. – Известные ученые и профессоры… Я их не раз видел… Бывают у нас.
«Вот она, популярность!» – подумал Невзгодин и спросил:
– Собралось еще немного?
– Человек ста полтора, пожалуй, уже есть! – отвечал швейцар, помахивая черноволосой головой на вешалки, полные шуб.
– Ого! – удивленно воскликнул Василий Васильевич, хорошо знавший привычку москвичей опаздывать.
– А ждем свыше двухсот персон-с! – не без гордости продолжал швейцар. – Извольте получить нумерок!
Оправившись перед зеркалом, которое отразило небольшую статную фигуру в отлично сидевшем парижском новом фраке, Невзгодин поднялся наверх и остановился на площадке, у столика, где собирали за обед деньги. Заплативши семь рублей и написавши на листе свою фамилию, он хотел было двинуться далее, как его окликнул чей-то высокий, необыкновенно мягкий тенорок…
В этом маленьком толстеньком пожилом господине во фраке и в белом галстухе, – выскочившем с озабоченной физиономией из коридора к столику, – Невзгодин сразу узнал Ивана Петровича Звенигородцева – всегдашнего устроителя юбилеев и распорядителя на торжественных обедах, известного застольного оратора и знакомого со всей Москвой присяжного поверенного.
Выражение озабоченности внезапно исчезло с его лица. Румяненькое, заплывшее жирком, с жиденькой бородкой и маленькими блестящими глазками, полными плутовства и вместе с тем добродушия, оно теперь все сияло радостною улыбкой, словно бы Звенигородцев увидал перед собою лучшего своего друга. И, несмотря на то, что Иван Петрович был очень мало знаком с Невзгодиным и считал его, как и многие, пустым зубоскалом, он, как коренной москвич, широко раскрыл свои объятья и троекратно облобызал Невзгодина необыкновенно крепко и сочно.
– Давно ли, Василий Васильевич, к нам из Парижа? – ласково и певуче спрашивал Звенигородцев, задерживая руку Невзгодина в своей пухлой потной руке.
– Вчера.
Осторожно высвободив руку, Невзгодин отер губы.
– Как раз на юбилей попали… Увидите, дорогой Василий Васильевич, как у нас хороших людей чествуют… Двести пятьдесят человек записались на обед… Было бы и вдвое больше, но мы отказывали… Нельзя же всех пускать, без строгого выбора… Ну и устал же я сегодня. Хлопот, я вам скажу, с этими юбилеями! И наверное в назначенный час публика не соберется. Уж скоро шесть, а всего только сто шестьдесят человек. Надо дать знать, чтобы юбиляра привезли не раньше половины седьмого…
И Звенигородцев тут же распорядился об этом.
– Разве юбиляра привезут?
– Обязательно, и в четырехместной карете. Или вы забыли московский юбилейный чин? А еще москвич!
– Кто же привезет Косицкого?
– Двое. Представитель старого поколения профессоров: Лев Александрович Цветницкий и представитель молодой науки: Николай Сергеич Заречный.
– А Маргарита Васильевна здесь?
– Не видал. Кажется, еще не приезжала. А вы что же?.. Все еще поклоняетесь гордой англичаночке?.. А хорошеет с тех пор, как замужем… Прелесть что за женщина. Вот увидите! – оживленно и щуря глаза прибавил Звенигородцев.
– Давно не поклоняюсь, Иван Петрович… И я недавно женился…
Звенигородцев горячо поздравил Невзгодина и, заметив, что тот собирается отойти, остановил его словами:
– На одну минутку, Василий Васильич!
Отведя Невзгодина в сторону, он проговорил, слегка понижая свой тенорок и принимая значительный вид человека, озаренного счастливою мыслью.
– Челом вам бью, Василий Васильевич! Не откажите.
– В чем?
– Вы ведь, я слышал, занимались в Париже науками?
– Занимался.
– Так знаете ли что? Скажите, голубчик, за обедом речь Косицкому в качестве представителя от русских учащихся в Париже. Это будет, я вам скажу, эффектно и очень тронет старика…
Невзгодин рассмеялся.
– Да как же я буду говорить, никем не уполномоченный?
– Так что за беда! Разве на вас будут в претензии за то, что вы почтите хорошего человека? Косицкий ведь не Найденов… Он сохранил традиции и вполне наш… Право, скажите, Василий Васильич, несколько теплых слов… Сделайте это для меня… Я вас запишу. Вы будете говорить пятнадцатым… идет?
– Нет, не идет, Иван Петрович. Не записывайте… я говорить не стану.
– Экий вы какой! Ну в таком случае скажите что-нибудь от своего имени… Вы ведь хорошо говорите.
– Совсем не умею…
– Полно, полно… Я помню, вы раз говорили на каком-то обеде… Сколько остроумия, сколько…
Звенигородцев вдруг оборвал речь и, засиявший, с замаслившимися глазками, бросился, словно ошалелый кот, к поднимавшейся по лестнице молодой хорошенькой даме.
«Все тот же юбочник!» – подумал, улыбаясь, Невзгодин и быстрыми шагами пошел по коридору, мимо отдельных кабинетов, встречая бесшумно снующих половых в их ослепительно белых рубахах и шароварах.
Отворив белые с золотом двери, он вошел в знаменитую колонную залу «Эрмитажа», в которой Москва дает фестивали и упражняется в красноречии.
В большой белой зале, ярко освещенной светом громадной люстры, три длинные стола, расположенные покоем, были уставлены приборами, сверкая белизной столового белья и блеском хрусталя. Длинный ряд бутылок и массивные канделябры дополняли сервировку.
Мужчины, большею частью во фраках и белых галстухах, дамы в светлых нарядных туалетах наполняли пространство у колонн и между столами. У всех были праздничные лица. Шел оживленный говор, и до ушей Невзгодина часто доносилось имя юбиляра. Видимо, он сегодня был главным предметом разговоров собравшейся публики.
Невзгодин торопился занять два места рядом, стараясь найти их поближе к среднему столу, где должен был сидеть юбиляр. Ему хотелось рассмотреть поближе разные московские знаменитости и лучше слышать речи. Но мест вблизи почетного стола уже не было – во всех стаканах или рюмках торчали карточки, так что Невзгодин нашел два места рядом в конце одного из боковых столов.
Взглянув на изящное меню с портретом юбиляра, лежавшее у каждого прибора, он направился к выходу, чтобы встретить Маргариту Васильевну.
Это было не так-то легко. Публика все прибывала, и на пути Невзгодину приходилось останавливаться, чтобы удовлетворять более или менее праздное любопытство знакомых, отвечая на одни и те же вопросы и восклицания удивления, что он в Москве, что женат, что занимался химией и написал повесть.
Оказалось, что про него уж все было известно, хотя сам он еще и не был известностью.
Наконец он выбрался к дверям.
Через несколько минут он увидал Маргариту Васильевну. Она вошла одна и была очень изящна и мила в своем черном шерстяном платье, оттенявшем ослепительную белизну ее красивого строгого лица.
Она тихо подвигалась среди толпы, щуря близорукие глаза и слегка наклоняя голову в ответ на поклоны знакомых.
Невзгодин подошел к ней.
– Вы давно здесь? – спросила она, радостно улыбаясь, и по-приятельски пожала руку Невзгодина.
– Приехал к шести, как назначено… по-европейски.
– А я по-азиатски опоздала… И какой же вы нарядный во фраке, Василий Васильевич! – прибавила молодая женщина, оглядывая Невзгодина.
– И какая же вы интересная в своем черном платье, Маргарита Васильевна! – тем же тоном отвечал Невзгодин.
– Будто? – кокетливо уронила Маргарита Васильевна, оживляясь и видом нарядной толпы, и комплиментом Невзгодина.
– Уверяю вас, что говорю без малейшего пристрастия! – подчеркнул он.
– Здесь все в светлых нарядах, а я – монашкой.
– И все-таки вы одеты лучше всех.
– А Аносова?
– Великолепная вдова? Я ее не видал. Она разве будет? Что, в сущности, ей Гекуба и она Гекубе? А впрочем, московские дамы от скуки ездят не только на юбилеи, но даже и на заседания юридического общества… Так Аносова будет?
– Непременно. По крайней мере утром говорила, что будет.
– Вы разве с ней знакомы?
– Сегодня познакомилась. Была у нее по делу. Очень она мне понравилась.
Они на минуту остановились. Заречная поздоровалась и обменялась несколькими словами с какой-то дамой.
– И вы, Василий Васильевич, кажется, знакомы с Аносовой? – продолжала Маргарита Васильевна, когда они двинулись далее.
– Как же, сподобился нынешним летом в Бретани. Так вам великолепная Аглая Петровна даже очень понравилась? Верно, удивила чем-нибудь по благотворительной части?
– Именно… удивила. Обещала пятьдесят тысяч на одно дело, о котором мы с вами еще будем беседовать. А вам разве Аносова не нравится? – спросила Заречная, останавливая пытливый взгляд на Невзгодине.
Он нисколько не смутился от этого взгляда и спокойно ответил:
– Нравится, как хороший экземпляр роскошной женской красоты.
– И только? – с живостью кинула Маргарита Васильевна.
– Ну и неглупая, характерная женщина, изучавшая даже Шелли… А вообще не моего романа.
– Не вашего? – весело промолвила Заречная, внезапно обрадованная эгоистически-радостным чувством женщины, прежний поклонник которой не сотворил себе нового кумира.
Помолчав, она прибавила:
– А вы, Василий Васильич, кажется, могли бы быть героем ее романа?
Невзгодин несколько смутился и не без раздражения спросил:
– Откуда сие, Маргарита Васильевна?
– Плоды моих наблюдений над Аглаей Петровной, когда мы говорили о вас! – смеясь ответила молодая женщина.
– Так они ошибочны. По крайней мере, я не замечал этого.
– А я заметила! – настаивала Заречная.
– И, признаться, я не особенно был бы польщен благоволением красавицы вдовы, если б у нее и явился такой невероятный каприз…
– Отчего невероятный?.. Разве вы не можете понравиться?
– Только не Аносовой. Поверьте, что она с ее красотой и миллионами давно нашла бы себе героя, – и, конечно, не такого невзрачного, как ваш покорнейший слуга, – если б чувствовала в том потребность…
– Но она вас все-таки заинтересовала. Вы часто с ней виделись в Бретани?
– Еще бы! Эта современная московская купчиха с отличным английским выговором, с ласковым взглядом бархатных глаз, скрывающим холодную жестковатость натуры, крайне любопытна и стоит изучения. В самом деле, в ней как-то уживаются вместе расточительная благотворительница и самая отчаянная сквалыга… Наклонность к умственным отвлечениям и кулачество. Восхищение Шелли и обсчитывание рабочих…
– Будто?
– Наверное. Я знаю. Мой приятель был техником на одной из аносовских фабрик. Он кое-что мне порассказал. Рабочим там очень скверно, а управляющий-англичанин просто-таки скотина.
– И Аносова все это знает?
– Превосходно. Она баба-делец и сама во все входит. Она и Маркса читала, недаром же говорит, что капитализм – необходимая стадия развития… Герой ее – нажива.
– Вы, Василий Васильич, кажется, чересчур сгущаете краски… Разве Аносова при всем этом не женщина?.. Разве она не способна увлечься?
– Не способна. Слишком трезвенна и темперамент спокойный.
– Ну, так вы недостаточно ее изучили. Надо продолжать.
– Что ж, я не прочь… Здесь, в Москве, на своей почве она будет виднее, чем за границей! – засмеялся Невзгодин… – Ну, вот и наши места… Далеконько от юбиляра, но лучших не нашел, Маргарита Васильевна!
– И отлично, что далеко…
– А я недоволен. Пожалуй, и не расслышишь всех речей, а их будет много. Четырнадцать уж обеспечено!
– Четырнадцать? Это ужасно! Несчастный Косицкий!
– Ну и публика не особенно счастливая! Я, впрочем, намерен все речи слушать… Ведь два года не слыхал московского красноречия.
– А я постараюсь не слушать ни одной… Надоели они. И все одни и те же…
– Звенигородцев и меня просил сказать пятнадцатую речь.
– Что ж, скажите… Вас я буду слушать.
– Благодарю, но я речи не скажу.
И, объяснив просьбу Звенигородцева, Невзгодин прибавил:
– И ведь Звенигородцев не находит ничего странного, предлагая говорить речь от имени других… Меня же будет костить за то, что я отказался… Впрочем, нынче мало что считается предосудительным… читали в газетах объяснение одного петербургского профессора, уличенного в фабрикации анонимного письма?.. Какая развязность у этого профессора!.. Какой медный лоб!
– Ну и у здешних есть медные лбы.
– Не смею спорить, но все-таки наши до анонимных писем не доходили…
– А кто нашими соседями будут за обедом? Вы знаете, Василий Васильич?
– Сейчас узнаю.
Невзгодин взглянул на карточки, вложенные в стаканы по бокам занятых им приборов, и проговорил:
– Ваш сосед: молодой беллетрист Туманов… Вы его знаете?
– Знаю…
– Так познакомьте меня с ним. Он талантливые вещи пишет.
– А рядом с вами кто?
– Анна Аполлоновна Вербицкая. Кто такая?








