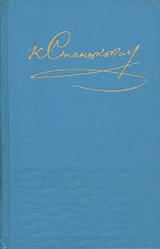
Текст книги "Том 7. Рассказы и повести. Жрецы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
И тогда, когда этот момент наступил, когда бугшприт «Вихря» был в нескольких саженях от острова, он нервно и громче, чем бы следовало, скомандовал, внезапно охваченный жутким чувством опасности:
– Право! Больше право!
Григорий в то же мгновение завертел штурвалом изо всей мочи.
И «Вихрь», немедленно быстро покатившись носом влево, пронесся между островов, по самой середине прохода, и, салютуя из своих маленьких пушек контр-адмиральскому флагу, раздувавшемуся на верхушке мачты, вошел на гельсингфорский рейд и стал на якорь вблизи от эскадры, стоявшей там.
Григорий закрепил штурвал руля, вычистил медь на нем, вытер его, потом навел глянец на компас и, справивши все свои дела, пошел на бак.
Притулившись у борта, он посматривал на город, на корабли и мысленно перенесся в Кронштадт.
«Что-то Груня? Как она поживает, родная? Чай, скучает одна, бедная!» – думал Григорий.
Он нередко тосковал по жене и с самого выхода из Кронштадта не имел о ней никаких известий. Бриг не заходил ни в один из портов, и нельзя было спросить о ней у матросов с тех кораблей, которые побывали в Кронштадте. И ему ни разу не пришлось написать ей.
Тем временем капитанский вельбот, на котором командир ходил на флагманский корабль с рапортом к адмиралу, вернулся, и гребцы, явившись на баке, рассказывали, что эскадра только вчера как пришла из Кронштадта. Пять ден там стояла. Вот так счастливые матросики, которые побывали в Кронштадте, не то что они с «Вихря».
– Ни тебе в баню, ни погулять! – жаловались гребцы.
– Ну, а Кронштадт, братцы, на своем месте стоит! – говорил молодой, здоровый вельботный старшина. – Бабы все знакомые заскучили по нас и велят всем кланяться! – прибавил со смехом матрос, обращаясь к толпившейся кучке.
– А про мою матроску ничего не слыхал, Чекалкин? Жива? Здорова? – как будто спокойно спросил, подходя к Чекалкину, Григорий и считая ниже своего достоинства обнаружить перед товарищами свое душевное волнение.
Молодой матрос как-то смущенно отвел глаза и проговорил:
– Как же, слыхал… Здорова… Матросы видели ее на рынке… – и как-то неловко замолчал.
Григорий заметил это смущение, и сердце в нем так и екнуло.
Однако он не показал и вида, что заметил что-то странное и в глазах и в тоне Чекалкина, и отошел прочь.
«Что это значит? Уж не пустили ли про Груню какие-нибудь подлые слухи? От подлых кронштадтских баб это станет. Злятся на Груню, что на их не похожа!» – думал Григорий и решил, как отпустят на берег, повидать одного старого знакомого матроса с корабля и дознаться от него, в чем дело.
Несколько взволнованный, Григорий хотел было спуститься вниз, чтоб приняться за письмо к Груне, как его нагнал судовой писарь и, подавая ему конверт, проговорил:
– Вместе с казенными пакетами с флагманского корабля и тебе пакетец есть, Кислицын. Верно, от дражайшей супруги!
– Должно быть! – смущенно ответил Григорий, обрадованный и вместе с тем изумленный письму от жены, которого не ждал, так как не хотел, чтоб кто-нибудь посторонний был посредником между ними.
Сама Груня кое-как читала, но писать не умела.
Григорий спустился вниз на кубрик и, усевшись на рундуке, вскрыл конверт, и едва только прочел первые строки анонимного произведения Иванова, как сердце упало в нем и лицо его исказилось выражением ужаса, злобы и страдания.
Он дочитал внимательно это письмо, столь обстоятельное и подробное, упоминавшее даже о заложенных двух платьях и шубке, спрятал его в карман, и на него словно бы напал столбняк. Он стоял недвижно, с застывшим, помутившимся взглядом, с беспомощно опущенными руками.
Появление какого-то матроса заставило его прийти в себя, почувствовать прилив бешеной ревности и сознать, что какое-то ужасное, тяжкое горе внезапно мучительно обрушилось на него, и в то же время какая-то смутная надежда, что все, что написано, неправда, клевета, мгновениями проникала в его душу и несколько облегчала его.
Он был словно в каком-то тумане и чувствовал только, что ему больно, невыносимо больно и что надо узнать поскорей всю правду.
Переживая эти страдания глубоко любящего и ревнивого человека, Григорий, однако, имел мужество скрывать их от посторонних глаз. Лицо его было только напряженнее и суровее и глаза возбужденнее.
В душевных страданиях, то веря, то не веря тому, что написано о жене, то готовый перервать горло подлому писаришке, то с презрением отгонявший мысль, будто он мог быть полюбовником жены, провел Григорий утро, и когда после пополудня команду отпустили на берег, он тотчас нанял финку и поехал на корабль, где служил его знакомый старый матрос.
Через полчаса Григорий вернулся на бриг мрачнее ночи.
Старый матрос подтвердил, что слухи о подлеце Ваське ходили и что он видел Аграфену, сильно заскучившую и исхудавшую.
XV
На бриге все скоро заметили, что Кислицын осунулся и сделался мрачен и неразговорчив, и догадывались о причине. Вся команда уж знала, что Кислицына Грунька «связалась» с писарем, и все матросы, любившие и уважавшие Григория, жалели его, хотя в то же время и осуждали за то, что он, кажется, умственный матрос, а так убивается из-за бабы.
– Из-за их не стоит убиваться-то. Потому, известно, баба – самая обманная тварь, какая только есть на свете! – авторитетно говорил по этому поводу пожилой матрос Гайка, жена которого действительно могла внушить ему такие нелестные понятия о женщинах вообще. – Скажем теперь так: ты из-за нее убиваешься, а она в тую ж пору перед кем-нибудь зенками, подлая, вертит или подолом, вроде как угорь, повиливает… А по-моему, братцы, так: чуть начала пошаливать – избей ты ее до последнего дрызга и плюнь…
– Грунька Кислицына не такая… За ей прежде ничего не было слышно худого… Правильная была матроска… – заступился тот самый вельботный старшина Чекалкин, который первый привез на бриг известие о том, что Аграфена «свихнулась».
– Не такая? – повторил черный, как жук, Гайка, глядя насмешливыми маленькими умными черными глазами из-под взъерошенных бровей на молодого матроса. – А ты лазил, что ли, ей в душу? Бабья душа известно, что бездонная прорва… Угляди-ка, что в ей! Может, песок, а может, с позволения сказать, и грязь… Не такая?! Все они, братец ты мой, такие! Одного шитья. Недаром-то бог бабу всего-то из одного ребра сотворил… Другого материалу она и не стоит… Не то в ей звание – шалишь! Адам был сотворен по образу и по подобию божию, а она прямо-таки из ребра… Понял ты разницу, братец ты мой?..
– Все это, может, и верно, но только Грунька Кислицына совестливая матроска… Это впервые грех с ней случился, коли правда, что Васька-писарь ее облестил! – снова горячо вступился Чекалкин.
– Все они впервые!.. Моя матроска так каждый раз, когда после лета вернешься в Кронштадт, говорит, что впервые… Вот теперь, как вернемся в Кронштадт, она, наверно, бою от меня ждет, – со смехом заметил Гайка.
– Что ж, ты и будешь бить? – спросил кто-то.
– А то как же? это уж такие правила… А я бы еще из-за такой убивался!.. Давно уж меня и звания бы не было. А мое дело: вернулся в Кронштадт и избил ее как следует по всей форме… Смотришь, на следующий день – как встрепанная кошка… И жареное, и вареное, и водка на столе… Так и ублажает! Как есть самая увертливая тварь. А Кислицын из-за такой твари как сыч какой ходит… Вовсе даже довольно глупо!
– И попадет же теперь бедной Груньке! – участливо вымолвил Чекалкин, давно уж неравнодушный к красавице матроске.
– Это как пить. Первым делом. Однако до настоящего боя не доведет! – заметил не без сожаления Гайка.
– Почему?
– Добер он слишком к своей бабе. Обожает!
«Вихрь» простоял в Гельсингфорсе неделю и неожиданно получил от адмирала приказание идти за почтой в Кронштадт.
Все обрадовались.
Только Григорий, казалось, не только не обрадовался, а, напротив, как будто сделался еще угрюмее и угнетеннее.
– Что с тобой, Кислицын? – спросил капитан, останавливаясь у штурвала, у которого стоял Григорий и правил рулем, направляя «Вихрь» к Кронштадту. – Ты здоров?
– Точно так, вашескородие!
– А мне показалось, что ты нездоров? Такой мрачный стоишь, вместо того чтобы радоваться, что завтра увидишь свою Аграфену. Небось рад? – говорил капитан, знавший, какие примерные супруги были Кислицыны.
– Точно так, вашескородие! – отвечал Григорий. Но лицо его не выразило ни малейшей радости.
Капитан пристально взглянул на своего любимца рулевого и поднялся наверх.
На другой день, после полудня, открылся Толбухин маяк. Ветер чуть засвежел, и «Вихрь» ходко приближался к Кронштадту.
Григорий, стоя у руля, с каким-то страхом ожидал прихода на рейд и съезда на берег.
XVI
– Груня, а Груня… ты дома?
Ответа не было.
И Ивановна, удивленная, что Груня не откликается, прошла за полог.
Распростертая на полу, матроска молилась перед образами, у которых горели свечи.
– Груня! – окликнула громче старуха.
Та поднялась бледная, совсем исхудавшая за последние дни, с большими, ввалившимися, кроткими и потухшими глазами. Ее красивое лицо стало еще красивее и словно бы одухотвореннее и светилось выражением какого-то удовлетворенного тихого покоя.
Казалось, что Груню уж не тяготят никакие скорбные думы, не мучат никакие сомнения и она, примиренная, нашла выход из того мрака, которым окутана была ее душа.
– И что это ты, Груня, все молишься да молишься? Кажется, давно уж замолила все грехи! – ласково упрекнула Ивановна. – Я окликала тебя, а ты и не слыхала… А двери-то отперты, того и гляди обкрадут… А я нарочно к тебе с рынка прибежала… Сейчас матросик с брандвахты был, сказывал, что «Вихрь» с моря в Кронштадт идет… Готовься мужа принимать… Вечор будет.
Груня вздрогнула.
– Будет? – переспросила она.
– То-то будет… Готовь закуску какую да шти, что ли, свари, да чтобы чай с булками, одним словом, что следует, чтобы честь-честью принять мужа… Да есть ли у тебя деньги?.. А то возьми у меня…
– Спасибо, Ивановна… Не надо мне денег…
– Ну, а я опять к ларьку… Ужо раньше приду… Да смотри, Груня, помни, что я тебе говорила… Нишкни! А уж если ты так хочешь, я с мужем обо всем поговорю…
– Спасибо, Ивановна, за ласку! – дрогнувшим голосом промолвила Груня. – Ты ему, милая, все, все скажи, а я говорить не буду… Скажи, какая я великая грешница, как я мучилась, как молилась, как жалела, что огорчила его, доброго, хорошего… Все скажи… Он, наверно, простит… Он поймет…
И с этими словами Груня крепко поцеловала Ивановну.
– Да ты что ж это… словно опять замучилась, голубка?
– Нет, Ивановна, конец мучениям!
– И слава богу!.. Ну, прощай пока, ласточка!
– Прощай!
Как только что старуха ушла, Груня надела платок на голову, заперла двери на замок, положив ключ на полку в прихожей, куда всегда его клала, когда уходила и думала, что в ее отсутствие придет муж, и, поклонившись на крыльцо, твердой походкой пошла к Купеческой гавани.
День стоял мрачный. Ветер так и завывал, проносясь по улицам и поднимая пыль.
На Господской улице кто-то сзади окликнул Груню. Она обернулась, увидела Ваську, и по лицу ее пробежала судорога.
Она продолжала идти, но Васька догнал ее и сказал:
– Смотри, Груня, мужу ни слова, а то – крышка и мне и тебе!
Она ни слова не ответила и только прибавила шагу.
Навстречу шла кучка матросов. Поравнявшись с нею, матросы хихикнули.
Она слышала, как кто-то сказал:
– Матроса своего бежит встречать да виниться! Лето-то гуляла с писарьком! А небось форсила… Я-де мужняя жена…
Еще какой-то офицер пристал было к ней, но, не получив никакого ответа, пустил ей вслед:
– Писарей, видно, любишь, а офицеров нет!
Она только ежилась от этих оскорблений и шла все скорей и скорей.
Вот и стенка. Она поднялась на деревянную стенку, отделяющую гавань от рейдов, и пошла по ней, придерживая руками раздувающееся платье.
Дойдя до угла у Малого рейда, она остановилась и взглянула на море. Знакомый ей «Вихрь» быстро приближался к рейду… Она видела, как убрали паруса и бриг стал на якорь. Она заглянула вниз. Свинцовые волны с шумом разбивались о стенку и обдавали брызгами матроску. Ей сделалось холодно, и тоска охватила все ее существо. Тоска и отчаяние. Но лицо ее по-прежнему было спокойно и полно решимости.
Она взглянула на серое небо. В одно мгновение перед ней пронеслась вся ее жизнь, чистая и безупречная до последнего времени… Потом она вспомнила Ваську, позор, грех, мужа – и совсем подвинулась к краю стенки.
«Господи, прости!» – прошептали ее уста.
И, перекрестившись, она с жалобным тихим криком бросилась в море.
Какой-то матросик, проходивший мимо, увидал ее падение и побежал на брандвахту.
Послали шлюпку, но тела не нашли.
XVII
В седьмом часу вечера Григорий пришел домой и, увидав, что дверь на замке, бросился к Ивановне.
– Где Аграфена? – спросил он.
Ивановна, вся в слезах, молчала.
– Где, говорю, жена? сказывай! Или она совсем к полюбовнику сбежала? Говори, старая!
– Бога в тебе нет, Григорий!.. Сбежала… Она к богу сбежала, голубка… Она утопилась в море сегодня… Вот где твоя жена!
Григорий рыдал, как малый ребенок.
Ивановна, всхлипывая от слез, подробно рассказала ему все, что случилось, как подлый писарек ее облестил, как она мучилась, каялась и как сегодня еще утром просила передать мужу, чтоб он ее простил…
– А мне и невдомек, что она уж даве решилась извести себя, бедная… Совесть-то, совесть ее замучила!..
Григорий всю ночь просидел у себя в комнате, не смыкая глаз.
Наутро он оделся и вместо того, чтобы отправиться на бриг, пошел в казарму, где жили писаря.
Когда Васька увидел Григория, медленно подходившего к нему, он мгновенно понял весь ужас своего положения и хотел было бежать, но Григорий загородил выход. Страх несчастного животного исказил красивые черты писарька. С каким-то недоумевающим, растерянным и умоляющим взглядом широко раскрытых глаз смотрел он в спокойное и неумолимое лицо матроса и только слабо ахнул, когда Григорий всадил ему в грудь свой матросский нож по самую рукоятку.
Затем Григорий вышел из казармы и, явившись в свой экипаж, доложил, что убил писаря Василия Антонова…
Побег
I
Солнце быстро поднималось в бирюзовую высь безоблачного неба, обещая жаркий день.
Оно заливало ярким блеском и эти зеркальные, совсем заштилевшие, приглубые севастопольские бухты, далеко врезавшиеся в берега, и стоявшие на рейде многочисленные военные корабли, фрегаты, бриги, шхуны и тендера прежнего Черноморского флота, и красавец Севастополь, поднимавшийся над морем в виде амфитеатра и сверкавший своими фортами, церквами, домами и домиками слободок среди зеленых куп садов, бульваров и окрестных хуторов.
Был шестой час на исходе прелестного августовского утра.
На кораблях давно уже кипела работа.
К подъему флагов, то есть к восьми часам, все суда приводили в тот обычный щегольской вид умопомрачающей чистоты и безукоризненного порядка, каким вообще отличались суда Черноморского флота.
С раннего утра тысячи матросских рук терли, мыли, скоблили, оттирали или, по выражению матросов, наводили чистоту на палубы, на пушки, на медь – словом, на все, что было на палубах и под ними, – до самого трюма.
Давно работали в доках, адмиралтействе, и разных портовых мастерских, расположенных на берегу. Среди грохота молотков и лязга пил порою раздавалась дружная «Дубинушка», при которой русские люди как-то скорее поднимают тяжести и ворочают громадные бревна.
Опустели и мрачные блокшивы, стоявшие на мертвых якорях и, словно прокаженные, вдали от других судов, в самой глубине корабельной бухты.
Это – плавучие «мертвые дома».
Подневольные жильцы их, арестанты военно-арестантских рот, с четырех часов уже разведены по разным работам.
В толстых холщовых рубахах и таких же штанах, в уродливых серых шапках на бритых головах, они прошли, звякая кандалами, несколькими партиями, в сопровождении конвойных солдат, по пустым еще улицам и возвратятся домой только вечером, когда наступит прохлада и весь город высыплет на бульвары и Графскую пристань.
И тогда во мраке чудной южной ночи эти блокшивы замигают огоньками фонарей, и среди тишины бухты раздадутся протяжные оклики часовых, каждые пять минут один за другим выкрикивающих: «Слушай!»
Проснулись и слободки, окаймлявшие город, с их маленькими, белыми, похожими на мазанки, домами, населенными преимущественно семьями отставных и служащих матросов, артиллерийских солдат, казенных мастеровых и вообще бедным, рабочим людом.
Рынок – этот клуб большинства населения, расположенный у артиллерийской бухты, – давно кишел народом.
Шумные и оживленные кучки толкались между ларьками, среди мясных, телячьих и бараньих туш, кур, уток и разной дичи, среди массы зелени и разнообразных овощей юга, гор арбузов и пахучих дынь и множества фруктов, привезенных из ближних садов. Торговали, кричали и сердились. Тут же делились последними новостями и сбывали поношенное платье и старую обувь.
У самого берега бухты стояли рыбачьи суда соседнего городка Балаклавы со свежею рыбой. Какой только не было! И камбала, и скумбрия, и жирная кефаль, и бычки, и маленькая золотистая султанка, которую лакомки считают за самую вкусную рыбу Черного моря. Только что наловленные устрицы лежали в корзинах и предлагались поварам и кухаркам.
Тут же, рядом с рыбным рынком, в прозрачной, словно хрусталь, воде заливчика бухты, отливавшей изумрудом, купалась толпа мальчишек. С веселым смехом бросались они в воду, плескались, обдавали один другого брызгами, плавали и ныряли, словно утки, соревнуясь в своем искусстве друг перед другом и перед глазеющей публикой.
Над рынком, залитым блеском веселого южного солнца, стоял непрерывный говор толпы. Речь изобиловала неправильностями языка южных городов и звучала мягким тоном малороссийского акцента. Среди этой речи порой выделялось торопливое, громкое и в то же время вкрадчивое сюсюканье продавцов рыбы и устриц, халвы и рахат-лукума – этих увлекающихся балаклавских греков, с их смуглыми, мясистыми лицами, горбатыми носами, черными с поволокой глазами, напоминающими крупные маслины, и с быстрыми жестами оголенных мускулистых рук цвета темной бронзы. Слышались и гортанные звуки татар, сидевших на корточках у корзин с грушами, виноградом и яблоками, с выражением горделивого бесстрастия на своих красивых лицах с классическими чертами, напоминающими о чистой арийской крови их предков – генуэзцев и греков, когда-то живших в Крыму. Порой разносились, покрывая говор толпы, отчаянные клятвы «дам рынка» – бойких, задорных торговок-матросок – и их энергичная брань, приправленная самыми великорусскими импровизациями, которым мог бы позавидовать любой боцман, и вызывавшими громкий и сочувственный смех рыночной публики.
Все здесь жило полной жизнью большого и оживленного морского города.
Никто, разумеется, в этой шумной толпе и не предвидел, что скоро Севастополь будет в развалинах, и что эти прелестные и оживленные бухты опустеют, и на поверхности рейда, где стоит теперь Черноморский флот, будут торчать, словно кресты над могилами, верхушки мачт потопленных кораблей.
II
В начале восьмого часа этого веселого, светлого утра, в детской большого казенного дома командира порта и севастопольского военного губернатора худенький мальчик, лет восьми или десяти, с необыкновенно подвижным лицом и бойкими карими глазами, торопливо оканчивал свой туалет при помощи старой няни Агафьи.
– Да ну же, скорей, няня! Ты всегда копаешься! – нетерпеливо и властно говорил мальчик в то время, как низенькая и коренастая Агафья расчесывала, не спеша, его кудрявые, непокорные густые каштановые волосы.
– Ишь ведь, попрыгун!.. Ни минуты не постоит смирно. Всегда торопится точно на пожар, – ворчала няня, любовно посматривая в то же время на своего любимца. – Да не вертись же, говорят. Так тебя и не причесать. Будешь нечесанный, как уличный мальчишка.
Но мальчик, видимо, не особенно тронутый такими замечаниями и испытывающий неодолимую тоску от долгого чесания, когда солнце так весело играет в комнате и в растворенное окно врывается струя свежего воздуха вместе с ароматом цветов сада, уже выдернул не вполне причесанную кудрявую голову из рук няни и, улыбающийся, жизнерадостный и веселый, стал быстро надевать курточку.
– Дай хоть пригладить вихры, Васенька.
– И так хорошо, няня.
– Нечего сказать: хорошо!.. Адмиральский сын, и торчат вихры. Небось, папенька заметит – не похвалит.
Вася уже не слыхал последних слов няни Агафьи, которую любил и не ставил ни в грош, зная, что она вполне в его руках и исполнит все его прихоти. Он выскочил из детской, на ходу застегивая курточку, и, пробежав анфиладу комнат, остановился у запертых дверей кабинета.
Веселое лицо мальчика тотчас же приняло тревожное выражение. Он несколько секунд простоял у дверей, не решаясь войти, и в голове его пробежала обычная мысль о том, что ходить каждое утро к отцу для того, чтобы пожелать ему доброго утра, – весьма неприятная обязанность, без которой можно бы и обойтись.
«А все-таки нужно», – мысленно проговорил он и, тихо приотворив двери, вошел.
В большом кабинете у письменного стола сидел, опустив глаза на бумаги, худощавый, высокий старик в летнем халате, с гладко выбритыми морщинистыми щеками, отливавшими здоровым румянцем, причесанный по-старинному, с высоким коком темных, чуть-чуть седеющих волос, который возвышался посредине головы вроде петушиного гребня. Короткие подстриженные седые усы торчали щетинкой.
Эти колючие «тараканьи» усы всегда особенно пугали мальчика, наводя на него трепет, когда они нервно и быстро двигались, обнаруживая вместе с подергиванием плеч и движением скул дурное расположение духа сурового и непреклонного адмирала, которого решительно все в доме, начиная с адмиральши, боялись как огня.
– Доброго утра, папенька! – тихо, совсем тихо проговорил дрогнувшим от волнения голосом Вася, приблизившись к письменному столу и не спуская с отца замирающего, словно бы очарованного взгляда, полного того выражения, какое бывает в глазах у маленькой птички, увидавшей перед собой ястреба.
Слыхал ли отец приветствие сына и нарочно, как это случалось не раз, не обращал на него ни малейшего внимания, заставляя мальчика недвижно стоять у стола бесконечную минуту-другую, или, занятый бумагами, действительно не замечал Васи, – трудно было решить, но он не поворачивал головы.
Так прошло несколько долгих секунд.
А в раскрытые окна кабинета, полного прохлады, глядели густые акации и тенистые раскидистые орешники, не пропускавшие лучей солнца, с крупными грецкими орехами в зеленой скорлупе, и невольно напоминали Васе о том, что там, в верхнем саду, вдали от дома, его ждут многие удовольствия, радости и приятные встречи, о которых никто из домашних и не догадывался.
А усы отца стояли неподвижно, и скулы морщинистых щек не двигались.
И мальчик, ощутив прилив мужества, решился снова проговорить, несколько повышая свой мягкий высокий тенорок:
– Доброго утра, папенька!
Быстрым, энергичным движением адмирал вскинул голову и остановил серьезный, сосредоточенный и, казалось, недовольный взгляд на своем младшем сыне.
И что-то мягкое и даже нежное на мгновение смягчило эти суровые черты и засветилось в этих маленьких серых глазах, властных и острых, сохранивших, несмотря на то, что адмиралу было шестьдесят лет, живость, энергию и блеск молодости.
– Здравствуй! – отрывисто и резко проговорил адмирал.
И, против обыкновения, вместо того, чтобы кивнуть головой, давая этим знать, что мальчик может уйти, он сегодня потрепал своей костлявой рукой по заалевшей щеке сына и продолжал тем же резким повелительным тоном:
– Здоров, конечно? Скоро в Одессу… учиться. Первого сентября поедешь на пароходе. Ну, ступай!
Вася не заставил себя ждать.
Он быстро исчез из кабинета и облегченно и радостно вздохнул, точно освободившись от какой-то тяжести, когда очутился в диванной, рядом с спальней матери, которая, как и сестры, еще спала.
Наскоро выпив стакан молока, приготовленный няней Агафьей, он сунул в карман незаметно от няньки несколько кусков сахара и бросился в сад.
Миновав цветники, оранжереи и теплицы нижнего сада, он торопливо перепрыгивал ступеньки небольших лестниц, отделявших террасу от огромного сада, длинные аллеи которого окаймлялись густыми шпалерами винограда, а на грядах, расположенных по самой середине террас и обложенных красиво дерном, росли правильными рядами всевозможные фруктовые деревья, полные крупных пушистых персиков, сочных груш, больших желтых и зеленых слив, янтарных ранетов, миндаля, грецких орехов и белой и красной шелковицы.
Этот громадный, возвышавшийся террасами сад, выходивший на три улицы и обнесенный вокруг каменной стеной, с его роскошными цветниками у дома, с оранжереями, теплицами, с его беседками, обвитыми пахучими цветами, и большим деревянным бельведером, откуда открывался чудный вид на Севастополь и его окрестности и откуда год спустя Вася в подзорную трубу смотрел, как двигались французские войска длинной синеющей лентой через Инкерманскую долину, направляясь к южной стороне города, – этот сад содержался в образцовом порядке и сиял чистотой, пленяя глаза, главным образом, благодаря работе арестантов.
Партия их, человек в двенадцать – пятнадцать, ранним утром, как только солнце поднималось над городом, входила в большую калитку верхнего сада с задней улицы и работала в нем часов до трех или до четырех, пока двое конвойных солдатиков дремали, опершись на ружья, у калитки или где-нибудь в саду.
Арестанты, приходившие ежедневно, кроме праздников, на работу в сад командира порта, обыкновенно были одни и те же. Они таскали откуда-то ушаты с водой, поливали цветники и гряды, пололи траву, подстригали деревья, мели дорожки, посыпали аллеи свежим гравием и потом утрамбовывали их, – одним словом, делали все, что приказывал главный садовник, вольнонаемный немец, аккуратный Карл Карлович.
Работа была не из тяжелых, и арестанты, по-видимому, были довольны, что им приходилось заниматься садом, и старались изо всех сил.
Вот к этим людям, отбывающим суровое наказание за свои вины, и торопился Вася.
III
Несмотря на суровое приказание матери и сестер не только не разговаривать с этими отверженными людьми, но даже и не подходить к ним близко, мальчик весело взбегал с террасы на террасу и окидывал зорким взглядом длинные аллеи, предвкушая удовольствие поболтать с арестантами и попользоваться частью их завтрака – хорошим куском красного сочного арбуза, заедая его, как арестанты, ломтем черного хлеба, круто посыпанного солью. И тем и другим они радушно делились с барчуком, наперебой угощая его.
Он находил этот завтрак самым лучшим на свете – куда вкуснее всяких изысканных блюд, подаваемых у них за обедом, – а в компании этих бритых людей, позвякивающих кандалами, чувствовал себя несравненно приятнее, веселее и свободнее, чем дома, особенно во время обедов, когда все домашние сидели молчаливые и подавленные, а он сам насильно глотал ложки противного супа, чтобы не навлечь гнева почти всегда сурового отца, и с нетерпением ждал конца обеда безмолвный, не смея шевельнуться.
Познакомился он и сошелся с арестантами только нынешним летом, благодаря тому, что бегал в сад один и что вообще за ним не было никакого надзора. До этого времени он их очень боялся и, забегая в верхний сад, чтобы полакомиться фруктами, старался прошмыгнуть мимо них в почтительном отдалении и обязательно бегом. Тогда он считал всех этих людей в серых шапках, роющих в саду землю или развозящих в тачках песок, способными на всякие злодейства, готовыми даже, как уверяла его еще давно няня Агафья, когда он капризничал, унести мальчика и потом его зажарить и съесть, хотя бы он был и адмиральский сын. Эти слова няни в свое время произвели глубокое впечатление на Васю, несмотря на то, что другие лица, как, например, мать, сестры и братья, не заходили в своих обвинениях так далеко. По крайней мере, он ни от кого не слыхал подтверждения Агафьиных слов. Но во всяком случае отзывы, которые иногда, как бы мимоходом, бросались при мальчике об арестантах, не оставляли ни малейшего сомнения в том, что эти люди совмещают в себе столько пороков, что и не сосчитать, и если бы их выпустить на волю, то они дали бы себя знать! Недаром же им бреют головы и держат в кандалах.
Так однажды говорил старичок генерал, приехавший с визитом к матери Васи, возмущенный по поводу какой-то жалобы, поданной арестантами на то, что их плохо кормят и не дают всего, что им по закону полагается. Этот старичок, прикосновенный, кажется, к делу о растрате арестантских сумм, разумеется, и не думал, что в скором времени, когда Севастополь будет в опасности перед неприятелем, всех этих арестантов выпустят на волю и снимут с них кандалы, они сделаются такими же доблестными защитниками осажденного города, как и остальные.
Все эти рассказы еще сильнее подстрекали любопытство мальчика, и, несмотря на страх, внушаемый ему этими ужасными людьми, он, однако, иногда решался наблюдать их, но, разумеется, на таком расстоянии, чтобы, в случае какой-либо опасности, дать немедленно тягу.
Их разговоры самого мирного характера, долетавшие до ушей Васи, добродушное мурлыкание какой-нибудь песенки во время работы и, наконец, многие другие наблюдения совсем не соответствовали тому представлению об арестантах, которое имел мальчик с чужих слов, и несколько поколебали его веру в справедливость показаний няни Агафьи.
Особенно поразили его два факта.
Однажды весной он увидел, как один из арестантов, пожилой, высокий брюнет с сердитым взглядом больших глубоко сидящих глаз, с нависшими черными всклокоченными бровями, которого Вася считал самым страшным и боялся более других, заметив выпавшего из гнезда крошечного воробышка, тотчас же подошел к нему, взял его и, бережно зажав в руке, полез на дерево и положил на место, к радости беспокойно вертевшейся около и тревожно чирикавшей воробьихи. И когда он слез с дерева и принялся снова рассыпать из тачки на аллею песок, лицо его, к удивлению Васи, светилось лаской и добротой.
В другой раз арестанты нашли в саду заброшенного щенка – маленького, облезлого, худого, и отнеслись к нему с большой внимательностью и даже нежностью. Вася видел, как они совали ему в рот разжеванный мякиш черного хлеба, как положили его в укромный уголок, заботливо прикрыв его какой-то тряпкой, и слышал, как они решили взять его с собой, и это решение, видимо, обрадовало всех.
– А то пропадет! – заметил тот же страшный арестант с нависшими бровями. – А я, братцы, за ним ходить буду, заместо, значит, няньки! – прибавил он с веселым смехом.
По соображениям Васи, эти факты во всяком случае свидетельствовали, что и этим страшным людям не чужды проявления добрых чувств.








