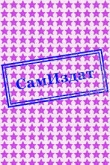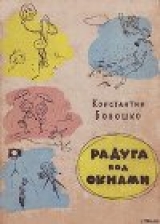
Текст книги "Радуга под окнами"
Автор книги: Константин Бобошко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Приключения чужестранцев
Посреди московской суеты
на бульваре продают мимозу.
Инеем покрытые цветы
робко удивляются морозу.
Страшно им, – светла и широка
холода бездонная река.
М. Алигер
Мало кто знает, наверное, что эта самая мимоза, а правильнее, австралийская акация, попала к нам, так сказать, частным образом.
Один сухумский помещик как-то решил щегольнуть. Устроил и своей усадьбе нечто вроде ботанического сада. Начал он выписывать пальмы и диковинные декоративные деревья из различных стран. Однажды пришли на его имя ящики из далекой Австралии. Среди других растений там оказались и черенки австралийской акации, цветущей золотистыми шариками.
Деревца поместили в оранжерею, чтобы они не погибли в сухумском климате, более холодном, чем их жаркая родина. Но когда они подросли, зацвели и дали семена, обнаружилось, что и в открытом грунте эти чужестранцы растут не хуже, чем их родители за оранжерейными стеклами.
И вот неприхотливая австралийская акация стала расселяться по парку. А когда ветки подросших деревьев очутились за забором и начали выглядывать на улицу, дождевая вода разнесла семена и разбросала их по пустырям. Помогли расселению акации и птицы.
Словом, чужестранка очень быстро выбралась за город и расселилась по горным склонам, образовала целые заросли, стала «своим», обычным растением.
Все бы хорошо. Да летом 1927 года к одной из акаций подошел молодой человек, позванивая склянками, наставленными в сумку, надетую через плечо. Он хотел было схватить стальным пинцетом какого-то жучка, бежавшего по стволу, но замер от удивления. Быстро достав из грудного кармана лупу, принялся внимательно рассматривать через нее ветку дерева.
– Что увидел? – подошел спутник.
– Ицерию…
– Не может быть!
– Все может быть. Смотри сам.
И оба стали разглядывать беловатые бугорки на коре австралийской акации.
Энтомологи – а это были они, специалисты по насекомым, – встревожились. Ицерии—опасного вредителя цитрусовых культур – у нас в Союзе не было. Как попала она в Сухуми, в один из лучших районов возделывания апельсинов и мандаринов?
И вот зазвенели топоры, под корень срубая мимозы. В городском парке и на склонах гор задымили большие костры – вместе с деревьями жгли и опасного врага цитрусовых культур.
На следующий год осмотрели заросли австралийской акации в дальних ущельях – и там оказались колонии зловредной ицерии. Тогда решили изменить способ борьбы с этим вредителем – завезти особый вид божьей коровки – единственного на земле хищника, уничтожающего ицерии.
А дальше произошло очень интересное событие.
Ицерии на австралийских акациях обнаружили не только люди, но и сухумские муравьи. Они случайно, может быть, попробовали сладковатые выделения этих червецов и сразу же оценили их. И под деревьями акаций, на которых поселились заморские вредители, стали появляться муравейники.
Поэтому, когда привезенные божьи коровки были выпущены и атаковали вредных ицерий, муравьи поднялись на защиту. А чтобы совсем обезопасить своих «дойных коров» от налетов крылатых хищников, возвели над колониями ицерии земляные галереи с такими узкими входами и выходами, через которые ни жучки, ни их личинки не могли пролезть.
Пришлось объявить войну и муравьям-защитникам.
Вот уже много лет, как ицерия у нас полностью уничтожена. На местах старых вырубок появились новые густые заросли австралийской акации. И каждый год ранней весной из Сухуми во все стороны уходят самолеты, груженные ветками первой вестницы весны, цветущей мохнатыми золотистыми шариками.
И родственники бывают разными
Результат кораблекрушения
По морю плыл корабль. Он не был безымянным морским скитальцем – кто-то снаряжал его в дальнее плавание, кто-то ждал в порту назначения, кто-то волновался на его палубе, видя, как надвигаются темные тучи и вздуваются белогривые волны. И когда взбесившийся ветер сломал его мачты, а волны развалили его на куски, где-то оплакали его гибель…
Море успокоилось. Много дней потом оно ласково шепталось с песчаным берегом. А после снова вздулось волнами и начало злобно бить своего собеседника, сотрясая воздух мощными ударами. Потом затихло и стало нашептывать, вкатываясь на песчаные отмели, свои бесконечные сказки…
На тихий ласковый берег выбежали поиграть дети рыбаков и матросов. Они лепили из сырого песка пирожки, строили крепости, а когда надоело строить, они стали ловить друг друга с криками и смехом. И вдруг одна маленькая девочка увидела почти у самой воды яркий красный фонарик. Она подбежала и остановилась: перед нею рос удивительный цветок, словно пересаженный на морской берег из чудесной сказки.
– Идите сюда, – позвала она, – смотрите, какой красивый цветок! И пахнет как!
Узнав о находке, на берегу собрались все, кто был в рыбачьей деревушке. Не иначе, как это цветок с погибшего корабля. Невдалеке нашли еще несколько проросших луковиц, пустивших корни в соленый морской песок.
Среди жителей оказались любители цветов. Они выкопали их и посадили под окнами своих хибарок. Случилось это в 1734 году. И с этого времени в Голландии появились гиацинты.
Но откуда же взялись эти удивительные цветы?
* * *
Прекрасный, равный красотой самим богам-олимпийцам, юный сын царя Спарты, Гиацинт, был другом бога-стреловержца Аполлона. Часто являлся Аполлон на берега Эврота, и они вместе охотились по склонам гор или развлекались гимнастикой.
Однажды, когда приближался жаркий полдень, Аполлон и Гиацинт состязались в метании тяжелого бронзового диска. Все выше и выше взлетал он в небо. Вот, напрягши все силы, метнул его могучий Аполлон. Высоко к облакам взлетел диск и, сверкая, как звезда, падал на землю. Подбежал Гиацинт к тому месту, где должен был упасть диск. Он хотел поскорее поднять его и бросить в небо, чтобы показать, что не уступает Аполлону в силе и умении бросать диск. Упал тяжелый диск на твердую землю, отскочил и со страшной силой ударил в голову Гиацинта. Со стоном рухнул Гиацинт на землю. Хлынула кровь из раны и окрасила темные кудри юноши.
Испугался Аполлон. Склонился над другом, приподнял его, положил окровавленную голову на колени и рукой зажал рану. Но все напрасно. Бледнеет Гиацинт. Тускнеют его ясные глаза. Бессильно склоняется его голова, подобно увядшему на палящем полуденном солнце полевому цветку. В отчаянии восклицает Аполлон:
– Ты умираешь, мой милый друг! Ты погиб от моей руки. Зачем я бросал в небо диск! О, если бы я мог искупить свою вину и сойти вместе с тобою в безрадостное царство умерших! О горе, горе!
Крепко держит Аполлон в объятиях умирающего друга, и падают его слезы на окровавленные кудри Гиацинта.
Умер Гиацинт. Отлетела его душа в царство Аида. Стоит над телом умершего Аполлон и тихо шепчет:
– Всегда ты будешь жить в моем сердце, прекрасный Гиацинт. Пусть же память о тебе вечно живет и среди людей…
И по слову Аполлона из крови Гиацинта вырос алый ароматный цветок – гиацинт.
* * *
В Греции гиацинты распускаются после теплых весенних дождей. И название их в переводе означает «цветы дождей».
А кто дал цветку имя сына царя Спарты? Догадались, конечно! Поэтическая народная фантазия.
Вниз головой
В 1734 году на берегу моря нашли несколько луковиц гиацинтов, имевших только один цвет – красный. А в 1768 году – ровно через 34 года – в Голландии было уже 2 тысячи различных сортов гиацинтов. Выходит, что каждый год в этой стране выводили по 56 новых сортов.
Теперь цвели синие, белые, желтые и голубые гиацинты. Но садоводы не успокаивались. Они стремились увеличить размеры цветков, получить новые оттенки.
В те времена не знали еще, что у каждого цветка есть «дверка», через которую можно проникнуть внутрь растения и изменить его свойства по своему желанию. Цветоводы применяли так называемую вегетативную гибридизацию. Брали две луковицы. Одну от растения, дававшего красные цветы, а другую—от того, что выгнало синие. Каждую из них разрезали пополам сверху донизу, и разные половины сращивали. Когда же такую «комбинированную» луковицу высевали – на одном стебле появлялись и красные и синие цветы. Иногда оба эти цвета сливались и цветки получали окраску, которая не поддавалась никакому определению.
Кроме того, садоводы подметили еще особенность, которой не имеет, пожалуй, никакой другой цветок на земле. Гиацинт может расти «вниз головой».
Садоводы придумали даже специальный сосуд для цветка-фокусника. Это ваза, суживающаяся кверху. В нее, как пробка, вставляется донышко второй вазы. А в донышке небольшое отверстие.
В нижнюю вазу наливается вода, а в верхнюю помещаются две луковицы корнями друг к дружке и насыпается земля. Луковицы в положенное время прорастают и выгоняют стебли. Один из них растет нормально, кверху, а второй через отверстие в донышке верхнего сосуда – книзу и оказывается в воде, заполняющей нижний сосуд.
И если на такой цветок посмотреть, создается впечатление, что верхний цветок отражается в воде.
* * *
И гиацинты стали модными цветами, вроде тюльпанов. Заплатить за луковицу нового цветка 500, а и то и 1000 гульденов среди голландских богачей и спекулянтов было довольно обычным делом. Известно, например, что за луковицу ярко-желтого сорта «офир» платили 7650 гульденов, за сорт «адмирал Лифкен» – 20 тысяч гульденов.
Апполон ли тут виноват?
Эти корабли атакуют не крепости, не эскадры линкоров или дредноутов, а… родственника гиацинта – эйхорнию. Они воюют с голубым цветком, одним из самых красивых среди когда-либо распускавшихся в бассейне реки Конго. Называют их еще и водяными гиацинтами.
Как же получилось, что красивый голубой цветок стал опасным врагом и против него пришлось выставить целый флот?
Все началось с самых обычных вещей. Водяной гиацинт – обитатель Бразилии. Но любители экзотических цветов завезли его во многие жаркие страны, в том числе во Флориду и Бельгийское Конго.
И вот в июле 1956 года (каждая война имеет свое начало) эйхорния стала пышно разрастаться на притоках реки Конго. Сначала на это никто не обратил внимания. Растут голубые цветы, ну и пусть растут.
Однако вскоре отдельные плавучие островки соединились между собой и заполнили целые реки. В газетах и журналах появились снимки этого бедствия. На одном из них, например, была изображена длинная лодка, да носу и корме которой стоят с большими шестами два человека. Это рыбаки, живущие на одном из островов реки Конго. Еще вчера они свободно плавали по могучей реке. А утром встали и не увидели реки: от берега до берега подымались зеленые стебли, украшенные крупными голубыми цветами. Рыбаки попали в плен к водяному гиацинту и с трудом пробиваются через их заросли на своей тяжелой лодке.
Но что лодки? Крупные речные пароходы, снабженные мощными паровыми машинами, останавливались на половине пути. Стебли водяного гиацинта клубками навивались на пароходные винты и тормозили движение. Приходилось стопорить машины и начинать очистку винтов.
А эйхорния все разрастается и разрастается. Тогда люди забили тревогу. Начали протягивать в фарватерах судоходных рек стальные канаты, чтобы они сдерживали натиск голубых цветов. И эйхорния отступила. Она перебралась в мелкие бухты и протоки, переметнулась на пруды и болота. Забралась и на рисовые поля и душила нежные всходы.
Эйхорнии объявили войну. На расчистку рек были посланы мощные пароходы и целые отряды рабочих. Они получали строгие приказы: уничтожать все цветки эйхорнии до единого. Но попробуйте это сделать, если голубые водяные гиацинты прячутся в воде, отсиживаются в малозаметных водоемах и протоках.
На реке Конго были установлены специальные контрольные посты и наблюдательные пункты. Все суда, идущие вверх по течению, останавливали и их подводные части тщательно очищали. Врага нельзя пускать в районы, уже освобожденные от него.
На реке Конго шла настоящая война с цветами, забирающая, как и все военные действия, десятки миллионов рублей.
А это – чаю сестра родная
Пленники Буэн-Ретиро
В королевских замках томились не только опасные политические противники, – редкие заморские растения тоже содержались королями взаперти. Этой участи подверглась и камелия.
В 1738 году монах Камел привез с Филиппинских островов новое растение с блестящими листьями и прекрасными цветами. И преподнес его в подарок супруге испанского короля Фердинанда V.
– Ах, какая прелесть! – заламывала руки королева. – Как прекрасен этот цветок Камела…
Королю тоже понравился безымянный монашеский подарок, и в загородный королевский дворец, взметая дорожную пыль, полетела карета с золоченными гербами… Их величества немедленно требовали к себе старшего садовника. Испуганный таким неожиданным вызовом, тот прибыл во дворец и получил и строжайший приказ приложить все усилия, чтобы сохранить заморское растение и обязательно заставить его цвести.
Садовник не только сохранил подаренные монахом кустики, но и размножил их. В пору цветения королевский сад вокруг замка Буен-Ретиро представлял диковинную картину. Но любоваться этим красивым цветением могли очень немногие. Толстые крепостные стены скрывали цветы камелии от посторонних глаз.
Фердинанд V и его супруга строго оберегали заморских пленников. Им, очевидно, льстило, что другие короли не имели таких цветов. Их наследники оказались достойными продолжателями королевской традиции. И если при смене королей некоторые узники получали свободу, то камелия так и оставалась в стенах Буен-Ретиро.
Только через 60 лет она выбралась на свободу и стала заселять сады и парки.
Заработок на сенсации
Не только о пленении в Буен-Ретиро могла бы поведать камелия, умей она говорить. Рассказала бы и множество других историй, услышав которые, трудно даже поверить, что они не выдуманы, а были на самом деле…
Многие садоводы в разных странах разводили камелии. И в Америке разводили их. И вот один американский садовод каким-то образом списался с парижским любителем камелий, выискивавшим по свету сорта с небывалыми по окраске и форме цветами. Когда тот получил от американца рисунки таких цветов, он дал обещание заплатить за них 11 тысяч франков.
И вот из-за океана прибыли ящики. В них лежали тщательно упакованные саженцы. Парижанин осторожно вынул камелии и рассадил по кадкам. А потом все его семейство и знакомые на цыпочках ходили в оранжерею посмотреть: не зацвели ли?
Камелия не цвела – она никак не могла оправиться с дороги. А когда выбросила долгожданные цветы, у парижанина чуть разрыв сердца не случился. Они совсем не походили на изображения, присланные из Америки.
– Обман. Это же чистейший обман, – стонал парижанин, приближая к цветкам камелии листки с рисунками ее предполагавшихся цветов. – Что же это такое, а?..
Словом, парижский обожатель необычных камелий отказался платить. Американец подал в суд. Начался процесс, который газеты и журналы, падкие до всего необычного, смаковали и расписывали на все лады.
И парижанин лишился покоя…
Только сядет он за утренний кофе, как раздается долгий, настойчивый звонок и кто-то требует непременно хозяина.
– Извините, мосье, – учтивый незнакомец приподымает шляпу над лысиной. – Но ваши камелии так нашумели, что не позволите ли…
– Взглянуть на них? – перебивает неудачник.
– Вот именно – взглянуть…
И так до позднего вечера…
Что же ему делать? Убежать из Парижа? Обливать любопытных кипятком или натравливать на них собак?
Он перевез ставшие знаменитыми цветы на Елисейские поля и поместил их в зимнем саду. А у входа поставил здоровенного детину и приказал не пропускать желающих, пока они не уплатят деньги.
И тогда на Елисейские поля устремился весь Париж. Ехали и шли примерно так же, как идут и едут теперь на футбольные матчи. Увидев это, догадливый парижанин удвоил плату. А когда кто-то осторожно осведомился, не продаст ли он цветок на память, запросил большие деньги. Ведь цветы-то не простые, а спорные, подсудные…
И пока камелии цвели, ловкач ухитрился оправдать расходы, понесенные по суду.
«Королева Виктория» делает деньги
В 1840 году некто Вершафельт купил в городе Генте за тысячу франков камелию «королева Виктория». Цветы у этой «королевы» были красивыми – совершенно круглые, махровые, темно-красного цвета, как бы перехваченные посредине белой ленточкой.
Вершафельт не стал продавать цветы. Он придумал более «солидное» предприятие – своего рода лотерею.
Для начала он выпустил десяток билетов, каждый стоил 250 франков. Купивший такой билет приобретал право на 10 сортов камелии, причем один из отводков среди них обязательно был от «королевы Виктории».
Все билеты расхватали. Тогда предприимчивый делец выпустил еще 100. Расхватали и их. И нужно сказать, что 33 билета купил тот самый город Гент, из которого Вершафельт вывез свою «дойную коринку», дающую золотые монеты…
Через год отводки камелии можно уже было купить за три франка. Но Вершафельт успел выручить на махинации в 20 раз больше, чем заплатил за редкое растение…
И такой он, и сякой…
На курорт ли, в служебную ли командировку или просто по личным делам, но богиня цветов Флора должна была отлучиться на какое-то время. Не могла же она оставить подчиненные ей цветы без руководства на время своего отсутствия. Кто же будет утверждать запроектированные расцветки лепестков, устанавливать сроки зацветания и проверять аромат – такой ли он, каким должен быть?
Одним словом, объявила она цветам, чтобы выбрали они ей заместителя, и дала двое суток на размышление. А сама отправилась в свое жилище на Олимп – укладываться в дорогу.
Через двое суток снова спустилась она на землю, села на замшелый пень, и к ней стали собираться цветы. Пришли все. Опаздывала одна только роза – та самая, которую решено было избрать заместительницей убывающей богини.
Все цветы терпеливо ждали. Еще бы – ведь она без пяти минут повелительница всего цветущего на земле. И только один пион нервничал. Он был почему-то убежден, что если роза не явится, цветы выберут своим временным правителем именно его, пиона.
Но вот пришла запоздавшая роза. Все цветы расступились и притихли, пораженные ее красотой и величием. И только один пион не уступил ей дорогу и вызывающе смотрел на нее. Его лепестки налились кровью, и весь он напыжился, как индюк, стараясь перещеголять розу красотой и гордой осанкой.
Однако это ему не удавалось. Роза держала себя просто и естественно, но каждое ее движение приводило в восторг смотревших на нее. Пион же старался изо всех сил, и это сразу бросалось в глаза. Все искусственное, нарочитое так же не спрячешь, как и шила в мешке…
Когда все цветы отдали свои голоса розе, пион закричал:
– Я не согласен! Я не согласен!
Но никто его не слушал. Все смотрели, затаив дыхание, как Флора снимала с себя венок царицы цветов и возлагала его на розу.
– Я не согласен! – закричал пион еще громче.
– Ах ты, глупый цветок, – сказала Флора, услышав крик пиона. – В наказание за свое самодовольство ты останешься таким же толстым и надутым, как сейчас, навсегда. И ни одна бабочка не прилетит к тебе с новостями, ни одна пчела не возьмет у тебя сладкого сока.
И с тех пор пион так и остался толстым и надутым…
* * *
Цветы, как известно, оберегают от намокания пыльцу, и для этого почти у каждого из них имеются специальные, иногда довольно хитроумные приспособления.
Если в дождливое время цветы белого сибирского пиона не накрыть, они быстро чернеют и загнивают.
Всем хороши эти цветы. Красивые и пахнут очень приятно. А вот дождя боятся. Если их высадить, то рядом с клумбами нужно ставить чуть ли не наблюдательный пункт – за дождевыми тучами следить…
Но можно обойтись и без этого – переделать цветы, вывести сорта, которые бы не боялись дождя, а радовались ему.
* * *
Пионы немного похожи на солдат.
Если они посажены группой на расстоянии метра один от другого, то к ним ни один сорняк не подступится. Они затемняют почву под собой своими листьями, на лету перехватывают солнечный свет и тепло, не пропуская их к земле. А в тень, как вы знаете, ни один сорняк и палкой не загонишь…
Вот что значат чувство локтя, взаимная выручка. Недаром же говорится, что одна головня и в печке не горит, а две и в поле курятся…
Память о родине
Не рвите на клумбах китайского сада
Торжественных роз: их солдату не надо.
И юного лотоса тонкие блюдца
Пусть в синих озерах у вас остаются.
Вы русскому сердцу сегодня поверьте
И ландыш рязанский пришлите в конверте.
П. Комаров
Недолог короткий солдатский привал. Казаки привязали заседланных коней под деревьями, чтобы не так они были заметны с воздуха, и расположились на отдых. На пеньке сидит пожилой казак. Он положил шашку на колени, облокотился на нее, курит и задумчиво смотрит вдаль.
– Откуда, земляк?
Казак поднимает голову и молча, недоверчиво смотрит на рослого пехотинца. А глаза у того светятся неподдельной радостью, губы улыбаются и лицо вроде бы знакомое…
– Из Мигулинской… – все еще нехотя отвечает казак, оторванный от раздумий.
– А я с Кукуевского хутора. Слыхал? Против Поповки живем, сразу же за Казанской станицей, малость повыше от вас…
– Да ну? Вот это встреча! – И казак обнимает земляка. – А как ты меня угадал?
– По табачку. Слышу – курит человек табачок с травой-донником. Да я запах донника за сто километров учую.
– Верно. Был недавно дома на побывке и привез самосаду. А в него для вкуса донника подмешал… Да ты закуривай, земляк, угощайся. Куда путь держишь?
* * *
Когда в Австралию, на свободные земли, хлынули переселенцы, среди них было много и англичан. Они прижились на новых привольных местах, начали обзаводиться хозяйством.
В австралийские порты стали приходить суда, набитые самыми различными грузами: тюками с тканями, бочками, сельскохозяйственными орудиями, мешками с семенами клевера, который в Австралии не давал семян, и ящиками с цветами примулами.
А их зачем везли в такую даль, в новую часть света? Как роль играли эти цветы в жизни переселенцев-англичан?
Такую же, как и всякие цветы. Но англичанам примулы, кроме того, напоминали об их далекой родине…
Примула – любимый цветок не только англичан. Все горцы в Швейцарии, Германии, Италии, найдя на кручах примулы, украшают ими свои хижины. А уезжая с родных гор, хранят засушенные примулы как память о покинутой родине и никогда не расстаются с ними на чужбине.
* * *
С примулой связана одна старинная легенда про юношу, стремившегося познать мир.
Юноша этот ходил из страны в страну, от моря к морю. Он побывал в царстве подземных духов, у властителей вод, пещер и гротов. Он перенял искусство подводных духов, вздымающих волны на море, разбивающих корабли, опускающих в седые бездонные пучины острова и целые материки. И однажды решил добраться до неба.
С помощью подземных духов отковал он золотой ключ, чтобы открыть двери на небо. И вот в одну из весенних ночей поднялся на высочайшую горную вершину, куда никто из людей не осмеливался взойти.
Далеко внизу стояли тучи. Они словно крышей отгородили мир, оставшийся у подножья горы. Ни одного звука не долетало снизу до вершины. Только звезды, совсем близкие, светили ему. И тут юноша заметил, что лучи звезд стали твердыми, как полированная сталь, и протянулись в небо сверкающим мостом. Юноша поставил ногу на эту мерцающую дорогу из лучей, потом встал второй ногой и пошел, словно по тонкой пружинящей доске.
– Не дрожи, – сказала ему одна звезда. – Если будешь бояться и дрожать – не дойдешь до цели…
– И не оборачивайся, – сказала вторая, – как только обернешься, обязательно испугаешься и ничего не достигнешь…
– И все забудь, – сказала третья звезда, светившая ему прямо в глаза.
Юноша молчал и твердыми шагами поднимался все выше и выше по звездным лучам. Он не боялся, не дрожал, не оборачивался и думал только о том, что его ждет впереди…
И вот он уперся головой в небо. Протянул вперед руку с волшебным золотым ключом, но небо не открылось. Тогда он посмотрел на звезду, сверкавшую перед ним. И звезда сказала:
– Надо забыть все: зеленую землю, на которой ты родился и рос, свое детство и молодость, забыть отца и мать, забыть сестер и братьев, друзей, забыть родину. Только тогда откроется дверь на небо…
Когда юноша услышал эти слова, рука его дрогнула. Он обернулся и посмотрел на землю, видневшуюся далеко внизу в серебряном свете луны, и в тот же миг, задевая певучие лучи звезд, стал стремительно падать.
Долго лежал он на земле. А когда очнулся, все показалось ему сном. Вместо золотого ключа рука его сжимала золотой цветок – примулу, пустивший корни в дорогую, зеленую землю его родины, которую не мог забыть он даже на подступах к небу…
И с тех пор, говорит легенда, примула стала у горцев символом родины.
* * *
А в Бельгии такой символ – гвоздика. Молодой рабочий, уходя на заработки в чужие края, получает от матери букетик гвоздик. Они постоянно должны напоминать ему о родном доме и скрашивать жизнь на чужбине, вдали от родных мест.