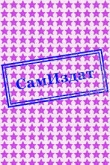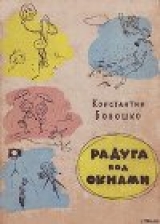
Текст книги "Радуга под окнами"
Автор книги: Константин Бобошко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Тайна шмеля и шалфея
…Прозрачен поздний вечер,
И шмель, цветочный сок добыв,
Весь в медных ободках, басит тебе навстречу,
Как маленький локомотив…
О. Колычев
Шпренгель прикасается к тайне
В одном из журналов «Вестник знания» за 1928 год есть рисунок – высокий худой человек с длинными волосами, в очках и шляпе, похожий на Паганеля из фильма «Дети капитана Гранта», припал на колено перед каким-то кустиком и направил на него увеличительное стекло. Это Шпренгель – несправедливо забытый натуралист, впервые обнаруживший взаимоотношения между насекомыми и растениями.
Больше ста лет назад на полках книжных магазинов появилась его книжка, имевшая довольно интригующее название: «Раскрытая тайна природы в строении и оплодотворении цветов».
Какое-то время по праву новинки она стояла на видном мест. Потом ее начали заслонять и оттеснять вглубь книги, пахнущие типографской краской. И пришло время, когда «Раскрытая тайна» оказалась в самых темных и пыльных углах книжных магазинов библиотек.
О ней забыли.
Разыскал ее знаменитый английский натуралист Чарльз Дарвин и использовал в своей работе об опылении орхидей. Говоря о замечательных приспособлениях цветков к опылению, Дарвин приводит как пример своеобразное строение тычиночного аппарата у шалфея, впервые описанное Шпренгелем.
По представлениям этого натуралиста все происходило следующим образом.
Садится шмель на цветок шалфея и начинает ползти по нему, добираясь до сладкого цветочного сока. Но чуть затронет он головой тычинки, имеющие форму коромысла, как они качнутся и ударят насекомое по спине пыльниками. Пыльца прилипнет к волоскам на шмелиной спине и отправится с ним в воздушное путешествие к следующему цветку.
Шмель весь день летает с цветка на цветок: один его не напоит и не накормит. Да это и невыгодно было бы для цветков. Насытится шмель и задремлет на солнышке. Никуда больше не полетит, пока не проголодается. А так он только сладким соком губы помажет, раздразнится и летит к следующему цветку и пыльцу на себе несет.
А тот цветок уже готов к опылению. Столбик с рыльцем, на которое обязательно должна попасть пыльца, чтобы произошло опыление у цветов шалфея свешивается вниз и как бы загораживает насекомому дорогу внутрь. А когда оно начнет добираться к кладовой со сладким соком – рыльце прикоснется к спинке насекомого и соберет пыльцу, прилипшую к волоскам на ней.
Есть у цветов, как утверждал Шпренгель, приспособление, препятствующее опылению собственной пыльцой. Если у цветка пыльца созрела, то она немедленно струшивается на спинки насекомых и отправляется соседним цветам. Пестики пылящего цветка еще недоразвиты. Поэтому столбики не свешиваются вниз и рыльца не касаются покрытых пыльцою шмелиных спинок.
Это описание кочевало почти по всем сочинениям ботаников в течение не одного десятка лет. Попало оно и в учебники, и в увесистые монографии солидных ученых.
На сомнение наводит рисунок
Повторяет описание Шпренгеля следом за Дарвином и известный немецкий ботаник Кернер. Во втором томе своей «Жизни растений» он образно сравнивает движение тычиночных нитей в цветках шалфея с ударами молотков по колоколам башенных часов. И чтобы читатели лучше представили себе механизм опыления шалфейных цветов – приводит рисунок.
Многие тысячи студентов рассматривали его, готовясь к зачетам. Сотни ученых ссылались на него в своих лекциях и спорах. И только один из них – советский академик Холодный – посмотрел на этот рисунок и не понял: как же шалфей опыляется?
Если верить Кернеру, пыльники, наклонившись, попадают на заднюю часть туловища насекомого – на брюшко. Это очень ясно видно на рисунке. А посещая более старые цветы, насекомые прикасаются к свешивающемуся рыльцу верхней частью грудного сегмента – плечами, что ли… Но ведь на этой части шмелиного тела пыльцы нет, ею покрыто брюшко – та часть тела насекомого, которая свешивается с нижнего лепестка цветка, своего рода посадочной площадки…
Незначительная, казалось бы, неточность. Но в науке важна каждая мелочь. Ясно, что таким образом цветок шалфея шмель опылить не может. Тогда как же он их опыляет?
Разгадку надо было искать у самого шалфея. И ученый часами просиживал среди пахучих зарослей, любуясь четкой работой «ударных» механизмов цветков, опудривающих шмелей и пчел пыльцой. И чем больше наблюдал он, тем больше было для него непонятного.
Ни разу не видел ученый, чтобы шмель коснулся – спинкой или даже брюшком – рыльца цветка. Да и вообще какой-нибудь частью тела. Даже крылом не зацепил ни разу. Однажды ученый пришел к цветкам с линейкой. Расстояние между нижней губой и свешивающимся рыльцем оказалось больше двух сантиметров. В такой промежуток свободно может пролезть самый крупный шмель.
Прошло немало времени, а разгадка все не давалась.
В одном оказался прав Кернер – пыльца при ударе пыльников о насекомое действительно попадает на верхнюю сторону брюшка или на крылья, если они сложены. Но вот как она переносится на рыльце, с которым насекомое никогда не соприкасается?
Ученый срывал цветки и рассматривал их под микроскопом – рыльца в пыльце, оплодотворены. Уж не невидимки ли оплодотворяют цветки шалфея?
И хотя, как известно, на свете чудес не бывает – чудо было перед глазами: непонятный цветок шалфея…
Солнце помогло
Было теплое сентябрьское утро. Ярко, совсем не по-осеннему светило солнце. То самое солнце, которое помогло людям сделать немало открытий.
Академик Холодный неподвижно сидел среди густых зарослей шалфея на крутом горном склоне и не спускал глаз с мохнатых шмелей, ползавших по загадочным цветам. Он даже не подозревал, что именно сейчас сделает замечательное открытие, которое вознаградит за все труды. И сделает его при помощи солнца.
А солнце, ничего не зная, шло своей обычной дорожкой, бросая косые лучи на горный склон в заросли шалфея. Вдалеке стоял лес, казавшийся наблюдателю темной стеной. На его фоне хорошо были видны цветы. И, взглянув на один, с которого только что слетел шмель, ученый увидел в воздухе вокруг него целое облачко золотистой пыльцы.
Что это – обман уставшего зрения?
Забыв обо всем, ученый лег на каменистый склон и впился глазами в другой цветок, на который только что сел новый шмель. Что-то уж слишком долго, как показалось ему, этот толстяк задержался на цветке. Ученый не выдержал и стукнул по стеблю растения прутиком, Потревоженный шмель взлетел с цветка и поднял целое облачко пыли, как самолет с полевого аэродрома…
Много раз наблюдал ученый момент слета шмеля с цветка. И каждый раз обязательно появлялось облачко пыльцы. Значит, опыление у шалфея происходит по воздуху. Взлетая с цветка, тяжелое насекомое поднимает своими крыльями вихрь, который срывает пыльцу, прилипшую к его телу или крыльям. Покрутившись в воздухе, она опускается на пестик, и происходит опыление цветка.
Но ведь так шмель может опылить пестик пыльцой своего же цветка?
Оказывается, и это предусмотрено природой. Свежая пыльца шалфея липкая. Попробуй-ка сдунь ее. Та же, что некоторое время попутешествовала на шмеле, подсохла, та взовьется в воздух.
Приходилось ли вам когда-нибудь вымазываться в грязи? Да что там спрашивать – приходилось, конечно. И вы знаете, что сырую глину очень трудно счистить с одежды. а как только она подсохнет—сама осыплется, и следов не останется. У солдат даже поговорка есть: «Грязь не сало – чуть подсохла и сама отпала». То же самое с пыльцой шалфея. Сухие пылинки сдуть легче, чем свежие – влажные и липкие.
Так почти через сто пятьдесят лет советским исследователем была обнаружена ошибка, допущенная Шпренгелем.
Открыл академик Холодный и еще одно удивительное приспособление, имеющееся у шалфея.
Вся верхняя часть его стеблей покрыта липкими железами. Даже цветы. Нет их только на внутренней стороне околоцветника, на тычинках и пестиках. Всегда считалось, что назначение этих желез – не допускать к цветам непрошеных, гостей – муравьев, жучков, комаров и мух. Ставить им ловушки. Однако железы нужны растению не только как сторожа, охрана от воров, но и как помощники при опылении цветков.
Прилетит крупный шмель и усядется на посадочную площадку – нижнюю губу цветка. А места ему мало. Чтобы не свалиться, он обхватывает своими длинными ногами наружную часть околоцветника, и они прилипают. Соберется шмель взлететь – не тут-то было. Ноги не оторвать. Нужно как следует поработать крыльями, чтобы высвободиться.
Гудит он, что есть силы работает крыльями, поднимает вокруг себя целый воздушный вихрь. А цветку только это и нужно…
Теперь вы сразу догадаетесь, для чего.
ГЛАВА II. ПРИРОДА ЛИШАЕТСЯ МОНОПОЛИЙ
Чародеи и волшебники
Старик-садовник входит в сад.
Весь день мудрит, как химик.
И розы льют свой аромат
Под пальцами сухими.
Он может, завязав глаза,
Без всякой гордой позы,
Легко по запаху сказать,
Какого сорта розы…
И. Кобзев

Могущественнее богов Олимпа
Древние греки и римляне наделили своих богов сверхъестественной силой.
Бог виноделия Дионис рассердился однажды на трех дочерей царя Миния за то, что во время праздника в его честь они сидели в своей комнате и пряли. Он превратил нити пряжи у них в руках в виноградные лозы с тяжелыми гроздями ягод и напустил во дворец к ослушницам диких зверей. Перепуганные царевны стали жаться от страха. Тела их покрылись темной шерстью, а руки превратились в крылья с перепонками между пальцами. Они стали летучими мышами.
В другой раз Дионис превратил морских разбойников в дельфинов.
Могуч колебатель земли морской бог Посейдон. Стоит ему только поднять свой грозный трезубец, как на море вздуются огромные, словно горы, волны, покрытые белыми гребнями. Разразится страшная буря, разбивающая в щепки корабли. Но опустит свой трезубец Посейдон, и море успокоится, уляжется и начнет ласково набегать на берега, которые только что сотрясало ударами своих могучих волн.
А богиня Гера, как и ее муж Зевс, повелевала громами и молниями. По одному ее слову небо покрывалось темными дождевыми тучами. Стоило ей шевельнуть пальцем, как разражалась над землей страшная буря, вырывая с корнем столетние дубы.
Но и боги Олимпа не были всемогущими. Они не могли, например, дать запах цветку. Настолько это казалось невероятным, что даже неуемная фантазия древних греков, породивших своих богов, не доходила до такого.
Богиня цветов Флора каждую весну спускалась на землю, любовалась яркими красками цветов и щедро одаривала своих любимцев. И вот однажды услышала она незнакомый тоненький голосок.
– Кто это? – спросила богиня.
– Это я… барвинок…
Флора обернулась и увидела маленькое неприметное растение с синими, как у фиалки, цветами.
– Что же тебе надобно, о чем ты плачешь?
– Я желаю иметь такой же запах, как у фиалки. На нее все обращают внимание. А на меня никто не смотрит, хотя мои цветы ничуть не хуже, чем у нее. Дай мне аромат, Флора, и я буду очень благодарен тебе.
– Ну, здесь я ничего не могу поделать… – ответила богиня цветов. – Чудное это свойство растения получают в ту минуту, когда появляются на свет. Ты же родился без запаха, и это уже нельзя изменить.
Так и остался барвинок без аромата.
И потому только, что обращался к олимпийской богине, а не к земному селекционеру, который может сделать даже то, что не по силам самой Флоре.
Такой случай произошел, например, с белой каллой – нашей недавней знакомой, которая росла на опытном участке Лютера Бербанка. Правда, этот цветок ни о чем не просил знаменитого американского селекционера. Но тот сам обратил внимание на красивые белые цветы, издающие неприятный, отталкивающий запах гнили.
Представьте себе красивую цветочную клумбу, от которой разит так, словно в ней лежит дохлая кошка, и потому нельзя далее окно в сад открыть. Из-за одного только запаха от этих цветов откажешься.
Бербанк нередко останавливался около своих калл, мысленно прослеживая длинную и сложную историю этих цветов.
Возможно, когда-то и они благоухали, заманивая ароматным своим дыханием золотистых пчел, опылявших цветы. Но со временем случилось так, что им пришлось «подружиться» с другими опылителями – мухами. И те поставили жесткое условие дружбы – переменить запах. На душистые цветы они просто не шли. И те, неопыленные, засыхали и не давали потомства. А цветы, пахнущие гнилью, мухи охотно посещали, и потомство этих мушиных любимчиков увеличивалось с каждым годом, захватывало новые площади и сильными своими плечами сталкивало с насиженных мест хиреющие душистые каллы. Борьба шла до тех пор, пока не завял последний ароматный цветок.
И на земле остались только каллы-победительницы, пахнущие гнилью.
Но если это так, то должен же когда-нибудь среди дурно пахнущих цветков появиться хоть один, принесший с собой на землю давно забытый сородичами аромат предков?
И вот однажды среди множества сеянцев сорта «Маленькая драгоценность» Бербанк заметил поистине драгоценный цветок белой каллы – он издавал слабый, но вполне приятный аромат.
Удивительный цветок этот был отмечен, окружен вниманием и уходом. На следующий год собранные с него семена высеяли до последнего зернышка. Но ни одно растение, развившееся из них, не имело запаха, сильнее родительского.
– Это ничего, – утешал себя селекционер, – часто случается, что склонность к изменчивости появляется только во втором поколении…
И снова собранные семена тщательно хранились до поры сева. А когда из зеленых трубок показались белые цветочные крылышки – селекционер начал смотр. Бербанк сам нюхал цветы, и его помощники и гости наклонялись над потомками душистой каллы.
И вот он найден, долгожданный цветок!
Внешне он ничем не отличался от своих многочисленных родственников, выросших с ним на одной грядке. Но в его тканях появилась какая-то таинственная сила, изменившая химический состав органов, вырабатывающих запах.
Новый цветок получил отдельный участок с хорошей почвой и наилучший уход. И все существующие в настоящее время ароматные каллы – потомки этого одного-единственного цветка.
А мог бы, как вы думаете, душистый цветок каллы появиться сам собой, размножиться без посторонней помощи, развить, усилить свой аромат?
Пожалуй, что нет.
Мухи просто не обратили бы на него внимания, как это делали их далекие предки. Едва расцветши, калла, отступившая от нормы, была обречена на гибель.
Если бы мухи не прилетели на аромат, то пчелы могли же прилететь? Могли. Но ведь аромат давал всего один единственный цветок. И возьми с него пчела пыльцу – ей некуда было бы ее отнести: другой ароматной каллы по соседству не было…
Выходит, Бербанк сделал то, что не под силу было богам Олимпа и что не вышло бы у самой всемогущей природы!
* * *
Не горюйте, юные друзья, у природы это не единственный цветок, нуждающийся в улучшении. И на ваш век хватит и еще другим останется.
Взять хотя бы… ну, родную сестру чая – камелию. Ведь ее цветы совершенно не пахнут, и потому кажутся какими-то неживыми, холодными. А говорят, и у камелии в свое время был аромат…
Но случилось так, что проказливый божок Амур досадил чем-то своей капризной матери – Венере. И разгневанная богиня приказала высечь его розгами из роз. Но ведь розы – с колючками, и Амуру мало улыбалось такое наказание. Тогда он бросился к богине цветов Флоре. Та выслушала и сказала:
– Отменить наказание я не могу… Но вот несколько смягчить его – в моих силах. Есть на земле одна роза, которая не имеет шипов на своих ветках.
И Флора велела позвать легкий ветерок – Зефир. Она объяснила, что он должен принести ей прутья растения, имеющего цветы с приятным запахом и похожие на дикую розу. Листья у того растения зеленые и блестящие, как изумруд, и спутать его с другими трудно.
Зефир немедленно отправился в путь и вскоре принес ветки, за которыми его посылала богиня цветов.
Грации, получившие приказание высечь Амура, пришли в восторг от прекрасных цветов ароматной и неколючей розы. Они украсили ими свои волосы, то и дело нюхали их, нагибаясь друг к дружке, и наказали провинившегося шалуна так нежно, что на его теле и следов не осталось.
Узнав про это, Венера рассердилась пуще прежнего. Но сделать ничего не могла – ведь приказание выполнено: Амур наказан розовыми розгами. А что они оказались без острых колючек – так это ее промах. Видно, плохо учила богиня ботанику, когда была маленькой, раз не знала о существовании розы без колючек.
Тогда она накинулась на бедный цветок. Лишила его чудного запаха и приказала расти только в Японии.
Один из запретов гневной Венеры давно уже нарушен. В 1738 году монах Камел привез в Европу наказанную розу с Филиппинских островов. Но переселение не вернуло цветку аромат, отнятый Венерой.
И тот, кто сумеет изменить природу этого цветка, вернет ему запах– нарушит и второй запрет рассерженной богини. Окажется могущественнее обитательницы Олимпа…
* * *
И вот после всего этого вам могут показать небольшую зеленую коробку, на одном из углов которой вытиснены скромные белые цветы. В коробке флакон с духами «Камелия». Вы удивлены? А вспомните про печь, которая ходила по полям, по лугам, только дым из трубы валил. Это же паровоз. А перо жар-птицы? Оно светилось, как электрическая лампа. Или хитроумное приспособление – наливное яблочко на золотом блюдечке? Тут и подсказывать нечего – любой сразу догадается: телевизор.
Сказка была своего рода заявкой на изобретения. Мечтал народ о быстром передвижении—семимильных сапогах и создал их. Садись в «победу» или «волгу», включай мотор – и через час будешь за сто километров.
Так не мечта ли и флакон с несуществующим запахом камелии?
Обязательно понюхайте эти духи. Понюхайте и хорошенько запомните запах. А начнете выводить душистую камелию – этот выдуманный парфюмерами аромат будет для вас своего рода путеводителем, пахучим маяком. Возможно, что аромат у пахучей камелии окажется приятнее и сильнее, чем у духов. Тогда это будет означать, что действительность превзошла мечту.
Роза не камбала
Приобрел один старичок теленка и с утра до вечера не расставался с ним. Выведет утром на луг, где растет сочная трава, а сам следом ходит и веточкой от него мух и комаров отгоняет. Приведет вечером теленка домой, а на плечах вязанку свежей травы принесет, чтобы было чего пожевать ночью четвероногому любимцу.
И вот прошло лето. Молодая трава постарела и высохла.
Вся скотина перешла на зимний корм. А у старика теленок так избаловался за лето, что сено и солому в рот брать не хочет. Чахнет он, худеет, как свечка, тает. Начал старик бегать по докторам. Посмотрят они теленка и говорят:
– Здоров. Сердце не расширено, легкие не простужены. А против телячьей изнеженности даже самые хитроумные лекари средств еще не придумали…
Совсем потерял голову старик. Тут услышал про его печаль один мудрец. Пришел и говорит:
– Я заставлю твоего теленка солому есть. Но за это ты должен заплатить мне сто рублей.
Согласился старик – нечего делать, надо спасать теленка.
– Неси солому, – распорядился мудрец.
Принес старик целую охапку. Положил перед теленком, а тот и смотреть на нее не хочет.
– Не будет он есть, и не старайся, я уже сколько раз пробовал…
– Будет, – ответил мудрец.
Он вынул из кармана очки с зелеными стеклами и нацепил их теленку на глаза. Мотнул баловень головой и краешком глаза, совсем нечаянно посмотрел на солому, и показалась она ему зеленее самой молодой травки на лугу. Замычал теленок. И принялся жевать солому – сухую и желтую.
Мудрец получил деньги и ушел.
Знал ли эту афганскую сказку великий немецкий поэт Гете или нет, но он первым устроил теплицу, которую застеклили не обычным прозрачным стеклом, а синим. Синее освещение, по его мнению, должно было повлиять на окраску роз и помочь таким образом вывести голубую розу – давнишнюю мечту садоводов.
Но роза не камбала…
Давно было замечено, что эта удивительная плоская рыба – оба глаза на одной стороне – постоянно меняет окраску. И не как-нибудь, а приспосабливается к цвету окружающей среды. Однажды сделали такой опыт. Положили камбалу в стеклянный ящик с морской водой и поставили его на шахматную доску. Через некоторое время и рыба стала такая пятнистая, что хоть расставляй на ее спине шахматные фигуры и давай противнику мат в три хода. Долго не могли ученые разгадать, каким образом камбала перекрашивается, сливается с цветом дна, на котором лежит, чтобы остаться незамеченной для глаз различных хищников.
И вот как-то в Сивашах поймали камбалу совершенно черного цвета, хотя все вокруг было зеленоватое. Что такое? Почему эта рыбина не приняла защитной окраски? Но оказалось, что она приняла все меры предосторожности, чтобы остаться незамеченной, как и ее родственники. Только она была совершенно слепой. «Видела» одну темноту и постаралась приспособиться к ней. Стала черной.
Значит, основное значение при изменении цвета тела имеет зрение. И вот тогда ученые стали наряжать камбал в разноцветные очки. Наденут зеленые, вроде тех, что применил мудрец, приучая избалованного теленка к соломе, – и она позеленеет. Через некоторое время закроют ей глаза желтыми стеклами, и рыба словно желтухой заболеет, станет канареечного цвета. А в красных очках она темнеет.
Так что же случилось с розами, выращенными под синими стеклами оранжереи? Да ничего. Розы не камбалы. Окраска их цветков защитой от врагов не служит и зависит не от освещения, а совершенно от других причин, закрепившихся и выработавшихся в результате вековых процессов.
Если первоначально окраска роз, как и всяких цветов, служила для привлечения насекомых, чтобы выделиться, стать более заметной среди других цветов, то, когда садоводы вывели махровые и совершенно бесплодные формы, взяв все хлопоты об их размножении на себя, цветки роз перестали быть цветками и стали совершенно необязательными придатками растений. Окраска цветов осталась только потому, что она понравилась людям. Более того, они все время стараются изменять ее, разнообразить, делать необычной, привлекательной для человеческого взора.
Однако сколько ни бились садоводы, не смогли получить синюю или голубую розу. И тогда они стали высказывать мысли, что дело это неосуществимое, что роза принадлежит к таким растениям, которые не способны давать цветки голубой окраски.
Но ничего невозможного нет
И вот когда все садоводы мира отказались даже от мечты о голубой розе, за нее взялся великий русский ученый Иван Владимирович Мичурин, замечательный и смелый преобразователь природы.
Он поставил перед собой дерзкую цель – вывести голубую розу. Сделать то, что не мог сделать никто в мире…
Сперва у него получилась сиреневая роза. Если бы он собирался нарисовать ее на холсте, то взял бы розовую и голубую краски, смешал и получил сиреневый цвет. Но в природе действуют иные законы, чем на палитре художника. Ученый скрещивал между собой розы самых различных тонов. И, только опылив пыльцой алых белые цветы, получил сиреневые. Вернее – почти сиреневые, не хватало им голубого тона. А где его взять, если ни синих, ни голубых роз на свете не было? И больше того, многие считали, что и появиться-то они не могли.
Тогда Иван Владимирович стал присматриваться к белым розам. И в одной из них уловил едва приметный голубоватый оттенок. Материал для дальнейших работ был найден. Мичурин высадил розы с голубоватыми тенями на белых лепестках отдельно и стал скрещивать их между собой. Через несколько лет он получил то, что ему было нужно, – белую розу с ясным голубым оттенком. И дал ей название «мать синих».
И вот эту небывалую розу он снова скрестил с алой. Мичурин рассчитывал, что у гибрида голубой оттенок проступит более явственно, чем у сиреневой, выведенной им до этого. И верно. После скрещивания получилась роза настоящего сиреневого цвета. Но Мичурин не успокоился, хотя и это было уже настоящей победой. Он работал, пока не вывел розы, которые вполне можно было назвать голубыми.
В его саду расцвели цветы, каких никто в мире никогда не видел и даже не ожидал увидеть.
Голубые щеки
И в разговоре можно услышать, да и в книгах прочесть выражение: щеки, как маков цвет.
Может быть, в старину это сравнение и давало представление о каком-то определенном цвете – цвете мака. Но сейчас эти цветы стали пестрыми, получили самые неожиданные окраски. И кто скажет, о каком цвете щек говорят, сравнивая их с маками, – о белом, бледно-оранжевом, черно-красном с серебряной полоской или голубом?
Может последовать вопрос:
– А разве есть голубые маки?
Есть. В том-то и дело, что есть. Вывел их американский селекционер Лютер Бербанк. Мак же в естественном виде никогда голубым не был. Да и не слышно было, чтобы до Бербанка кто-нибудь «перекрасил» маки в цвет незабудок… А он сделал это. Впрочем, это довольно длинная история.
Около 1880 года один английский любитель цветов шел через поле обычных диких маков. И случайно увидел один-единственный цветок, имевший узкий белый ободок. Первым желанием было сорвать редкий цветок и показать знакомым. Но он оставил необычный мак расти, только отметил лоскутом, оторванным от носового платка. Так и отцвел мак в белом галстучке.
А как только в коробочках диких маков затарахтели семена – цветовод отыскал отмеченный стебелек и сломил коробочку.
Из высеянных семян взошло почти 200 растений. Но когда они зацвели, только четыре имели белые ободки на лепестках. С них опять собрали семена, снова высеяли их и снова собрали с тех, у которых белые полоски несколько увеличились.
Отбор шел до тех пор, пока среди бледно-розовых лепестков мака с белыми пятнами и полосками не был обнаружен один совершенно белый. Потомки этого мака получили свое собственное имя – «ширли».
Наверное, один только Лютер Бербанк не пришел в бурный восторг от нового сорта цветов – его разочаровало удивительное однообразие маков «ширли». И он решил улучшить этот сорт.
Несколько лет труда затратил Бербанк, чтобы цветы мака приобрели лепестки тонкие, как папиросная бумага. Кроме нежных оттенков красного и розового цвета (если они не были чисто белыми), лепестки имели красивую гофрировку, что резко отличало их от первоначального сорта.
И вот однажды Бербанк обратил внимание на белый цветок, имевший едва уловимую дымчатость лепестков. Селекционер заподозрил присутствие в цветке голубых красящих пигментов. За цветком было установлено наблюдение. Семена с него собрали и высеяли отдельно от других, на особом участке.
Через несколько лет здесь цвело уже множество маков с дымчатыми лепестками, среди которых встречались и туманно-голубые цветки. И однажды среди них, как когда-то их далекий предок среди красных диких маков, появился цветок с чисто голубой окраской. Он вызывал откровенное удивление всех садоводов, посещавших Бербанка.
Если бы маки можно было размножать кусочками корневищ, отводками или черенками – голубой мак давно бы уж расселился по земле. Но так как он размножается только семенами – для распространения нового сорта нужно гораздо больше времени. И все же голубой мак есть.
Это еще одно доказательство того, как по своему желанию человек может менять окраску цветов, перекрашивать их природные вывески.
Тысяча фунтов стерлингов в ожидании
У цветоводов просто какая-то страсть к синему цвету. Сколько десятилетий бились они над голубой розой, сколько труда было вложено в голубой мак! Но все эти хлопоты хоть даром не пропали – цветы небывалых голубых окрасок выведены. А вот кто скажет, сколько времени и средств затрачено на работы, которые пока еще не принесли никакого успеха?
Взять хотя бы георгины. Первые вывезенные из Мексики цветы имели розовую или красную окраску. И все современные сорта с самыми фантастическими оттенками – от ярко-пурпурного и оранжевого до бледно-розового и лилового – получены садоводами от бесконечных скрещиваний этих двух расцветок.
Но когда на клумбах любителей георгин засветилась целая радуга, когда, казалось, и желать-то было уже нечего, они задались целью вывести георгины с цветками совершенно белой окраски.
Долгожданный цветок появился, его назвали «царь белых». Однако дело на этом не кончилось. Едва улеглись восторги, садоводы начали думать о сорте георгин с синими цветами.
И стараясь опередить друг друга, они с лихорадочной поспешностью начали мудрить и колдовать над георгинами в тайне от постороннего взгляда.
Англичане объявили, что за синий сорт георгин назначена премия – тысяча фунтов стерлингов.
С тех пор прошло более пяти десятков лет, а о синих георгинах пока ничего не слышно…
Так тысяча фунтов стерлингов и висит в воздухе, ожидая удачливого, а скорее всего, настойчивого садовода, сумевшего перебороть упрямую природу цветка, не желающего менять свое пестрое радужное платье на синее.
Похожая история произошла и с камелией – родной сестрой душистого китайского чая. В природе цветы ее встречаются двух окрасок – белой и ярко-красной. И цветоводы, получив все мыслимые оттенки от сочетания этих двух тонов, решили вывести сорта с желтыми и синими цветами.
Желтый сорт достался им сравнительно легко. В 1860 году английский исследователь Форгун привез в Европу камелию, имевшую желтые махровые цветы.
Что же касается синей, то она пока так и остается мечтой садоводов. Но природа не устоит перед натиском ума и терпения, смелый новатор вырвет у нее тайну синего цветка камелии.
Седина синего цветка
На болотах живет хищная птица лунь, имеющая совершенно белое оперение. Поэтому и стали говорить про всех стариков: «седой как лунь».
А умей разговаривать цветы – они не смогли бы пользоваться нашими, людскими поговорками. Медуницы, например, вынуждены были бы говорить про соседние цветы:
– Седые, как небо…
Потому что старость у цветков медуниц и цветков сочевника, жителей широколиственного леса, отмечается синим цветом.
Только что раскрывшиеся молодые цветы медуницы окрашены в ярко-розовые тона. Потом они темнеют – становятся малиновыми, затем лиловыми и синеют перед самой смертью.
Причина изменения окраски цветов объясняется изменением цвета красящего вещества—антоциана, растворенного в клеточном соке. У молодых, еще не опыленных цветов клеточный сок щелочной, и потому антоциан имеет розовый оттенок. А в отживших свой срок растениях клеточный сок приобретает кислотную реакцию, и цветы синеют.
Другой вопрос – для чего это нужно цветку?
Ученые считают, что, изменяя окраску цветка, растения как бы меняют и вывески.
Розовый цвет должен обозначать: «Добро пожаловать, дорогие насекомые-опылители. Имеется свежий нектар, пейте, сколько хотите, но не забудьте вымазать щетинки на своем теле пыльцой, которая тоже только что созрела».
Синий же цвет – предупреждение насекомым: «Не тратьте, братцы, зря время. Сладкий нектар в цветах давно выпит, и кувшинчики, где он был, успели уже высохнуть. Спешите на розовые лепестки – там вы найдете, чем поживиться. А нас, стариков, оставьте в покое».