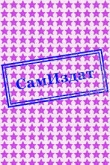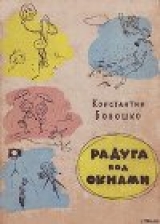
Текст книги "Радуга под окнами"
Автор книги: Константин Бобошко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Есть о чем вспомнить
Фиалку буду вспоминать,
Ее простую прелесть петь.
Она порою вешних дней
Опять раскроет синий взор;
Пойду весною в гости к ней —
Задумчивой подруге гор.
А. Граши
Где проходил Гете…
Это удел богов да сверхъестественных существ – оставлять цветы на своем пути. Смертных народная фантазия такими способностями обделяет.
Но ведь не боги, а человек несет с собою растения из одной страны в другую. Там, где проходит он, зацветают невиданные ранее травы, появляются диковинные цветы.
Говорят, что расселение нашего подорожника вдоль дорог, по которым двигались в Америке европейские колонизаторы, приводило в суеверный ужас краснокожих. Они называли подорожник следами белого человека.
Знатоки утверждают, что каждый шаг великого немецкого поэта и натуралиста Иоганна Вольфганга Гете отмечен цветами фиалок.
Сверхъестественного в этом ничего нет. Гете не выходил из дому, не насыпав в карман семян фиалок. Шел и по семечку бросал себе под ноги. Помните, все равно, как догадливый мальчик из волшебной детской сказки посыпал дорогу бобовыми зернами, чтобы найти путь обратно.
Прошло более ста лет со дня смерти Гете, но и теперь можно проследить путь, где проходил поэт. В окрестностях города Веймара фиолетовые дорожки из фиалок превратились в роскошные ковры. Народ называет эти цветочные разливы «фиалками Гете». Они везде: на опушках лесов, вдоль дорог, в парках.
Весенняя шутка
В древности жители Южной Германии праздновали наступление весны в тот день, когда находили первую цветущую фиалку. Ее привязывали к высокому шесту, устанавливали шест на зеленой лужайке, собирались всем селом, плясали, пели и веселились.
А однажды из-за такой весенней фиалки произошла кровавая стычка. Случилось это в окрестностях города Вены в царствование герцога Оттона Радостного, как его называли.
Один рыцарь в лесу на берегу Дуная увидел торопливый огонек весенней фиалки.
«Теперь-то я непременно заслужу милость Оттона, – подумал он. – Пойду приглашу герцога со всем двором на праздник весны. И он щедро наградит меня за это удовольствие…»
Рыцарь накрыл фиалку своей шляпой и поспешил в герцогский замок. Там очень обрадовались – титулованным бездельникам надоело всю зиму сидеть в сырых замках, и они стали собираться на весенний праздник.
Но дальше все случилось, как в известной народной сказке.
Пока в замке шли сборы, кто-то из крестьян увидел раскрашенную перьями и разными побрякушками рыцарскую шляпу. Откуда было знать ему, как очутилась шляпа в глухом лесу. Вдруг рыцарь потерял ее и будет рад, что она найдена?
Что бы ни думал тот средневековый крестьянин, но он подошел к рыцарской шляпе, поднял ее и увидел фиалку. Он оказался шутником, этот крестьянин. Быстро смекнув, в чем дело, парень сорвал фиалку, нагреб на ее место кучу лесного сора и снова прикрыл ее рыцарской шляпой. А сам поспешил со своей весенней находкой в село. Вскоре из герцогского замка выехала пышная кавалькада. С шутками и веселыми разговорами доехала она до леса. Виновник торжества – рыцарь, нашедший фиалку, – был впереди. Вот он увидел шляпу и соскочил с коня.
– Пусть сорвет этот первый весенний цветок самая знатная и прекрасная из дам, – сказал он.
Самая проворная из дам соскочила с седла, подняла шляпу – и замерла. Под ней была куча мусора.
Наступило молчание.
Но это было штилем перед грозой. Герцог и вся его свита так разгневались, что неудачнику ничего не оставалось делать, как спасаться бегством, надеясь только на быстроту своего коня.
Ускакав от погони, рыцарь придержал коня, отдышался и поехал, опустив голову. Он не мог сообразить, что произошло: куда девалась фиалка и как под шляпой оказались грязь и мусор. Уж не проделки ли это лесных фей, которые за что-то обиделись на него?..
Но тут он услышал невдалеке веселый шум. Когда он выехал на лесную поляну, увидел пляшущих крестьян. А на высоком шесте узнал «свою» фиалку. Он пришел в неописуемую ярость. Выхватил меч и с криком бросился на крестьян.
Поляна вмиг опустела. На ней остался только рыцарь.
Что случилось потом – можете придумать сами. Больше в истории об этом происшествии ничего не написано…
Простая, да не совсем
Позволь мне подарить тебе
простой цветок —
гвоздичку,
похожий в комнатном тепле
на вспыхнувшую спичку.
С. Кирсанов
Средство от чумы
Было все это, наверное, так.
Когда французский король Людовик IX двигался на Тунис в последнем крестовом походе, он ничего не боялся: за ним топали по пыльным дорогам 60 тысяч воинов, вооруженных до ног.
Крестоносцы дошли до города Туниса и обложили его. И тут французский король испугался – из осажденного города вышел враг, которого не могли остановить сторожевые посты, которого нельзя было ни копьем проколоть, ни мечом развалить от плеча до пояса, ни щитом от него прикрыться.
Этим врагом оказалась страшная болезнь – чума.
Обвешанные оружием крестоносцы мерли, как мухи. Врачи поднимали руки – они сдавались перед страшной силой невидимого врага.
И тогда сам Людовик решил найти лекарство от этой болезни. «В природе против всякого яда должно быть противоядие», – повторял он мнение, широко распространенное среди тогдашних медиков. Король считал себя знатоком целебных трав и отправился на поиски средства от чумы.
В сопровождении свиты, сверкавшей золотыми нашивками и кружевами, король начал объезжать окрестности Туниса, всматриваясь в землю и останавливаясь около каждого нового растения. И вот увидел он красивый цветок, росший на совершенно сухой и почти бесплодной почве.
– Если этот цветок может расти там, где другие не выживают, – значит, он обладает свойствами, отсутствующими у других растений. И если все они бессильны против чумы, то этот цветок как раз и есть то, что нам нужно, – решил король.
Такие рассуждения в наше время могут показаться в лучшем случае смешными. Но в те времена в большом ходу было учение о сигнатурах – знаках природы, которыми якобы отмечены все растения. Средневековые медики верили, например, что растение зверобой, имеющее как бы проколотые листья, должно помогать при лечении колотых ран – сама природа, мол, указывает на это. Но оно не подходит для лечения ран резаных. Сигнатурами также являлись и колючки чертополоха и крапивы. Думали, будто они спасают от внутренних колик. А вот при болезнях языка нужно прибегать только к помощи щавеля. Почему? Да потому, что листья его имеют некоторое сходство с языком.
Как бы, на наш взгляд, ни были нелепы такие представления о целебности растений, Людовик IX приказал набрать как можно больше незнакомых цветов.
И вот по выгоревшим безлюдным полям вокруг осажденного города двинулись цепочки крестоносцев. Они вернулись в лагерь с целыми снопами гвоздик. Их уже ждали кипящие на кострах котлы. Принесенные цветы сварили и отваром начали поить заболевших.
И что бы вы думали? Отвар гвоздики как будто помог – чума стала ослабевать. Вполне возможно, что произошло это от каких-нибудь других причин, может быть, даже от санитарных мер, принятых более образованными, чем король, врачами. Но всю заслугу в этом случае приписали Людовику.
Однако, когда король сам заболел, чудодейственный гвоздичный отвар ему не помог, и Людовик умер под стенами осажденного Туниса.
Возвратившись на родину, крестоносцы принесли с собой и гвоздику, как грустную память о походе.
Утешительница королей без тронов
Так получилось, что французские короли, оставшиеся без тронов и власти, надевали фартуки и начинали выращивать гвоздики. Один из таких отверженных королей растил гвоздику под окнами своей одиночки. Другой, по имени Рене, лишенный Людовиком IX отцовского наследства, удалился в провинциальный город, который назывался всего одной буквой Э, и начал вскапывать гряды под гвоздики.
Пример этот оказался настолько заразительным для горожан, что с тех пор вот уже несколько столетий городок славится своими гвоздиками.
* * *
Великим садоводом считал себя тщеславный, но очень недалекий герцог Бургундский, внук Людовика XV. Это убеждение, пронесенное им через всю жизнь, он приобрел еще в юности. И надо сказать, не без некоторого основания.
Началось, наверное, с простого подражания предшествующим королям.
Не будь в его свите хитрых и бессовестных подхалимов – принцу очень скоро бы наскучило перекапывать грядки, вырывать вечные сорняки и поливать тоненькие иголочки всходов. Но его окружали льстецы. Особенно отличался один.
Стоило принцу зарыть в землю гвоздичное зерно, как утром на этом месте красовались крупные ароматные цветы. А подхалим тут как тут: «Ваше величество! Вы – волшебник. Сколько ни жило под луной искуснейших, славнейших садовников, вы – величайший из них. Ни один садовод не достигал совершенства в выращивании гвоздик Ваше умение будет золотыми буквами записано на скрижалях истории»… – и так далее, и тому подобное в том же духе, сколько силы хватит…
И пока прохвост расточал похвалы, глупый принц пыжился от гордости. Ведь никто из людей, кроме него, не мог за одну ночь вырастить цветок из семечка… И только придворный садовник ухмылялся в кулак. Это он по приказу льстеца пересаживал заранее выращенные гвоздики.
Глупая лесть и дала принцу повод считать себя самым великим среди всех садовников, живших на земле.
С ведома владыки и без такового…
В Германию гвоздика попала также из Туниса. Привез ее король Карл V, который согнал с трона султана Солимана и, как говорят, высвободил из рабства больше 20 тысяч европейцев. С тех пор гвоздика стала его любимым, цветком– постоянным напоминанием о рыцарских подвигах.
В Англию гвоздика попала без ведома королей. Семена цветка получил откуда-то из Польши придворный садовник королевы Елизаветы по фамилии Герард и начал разводить их.
Цветок понравился Елизавете, и она приказала садовнику, чтобы свежие гвоздики подавались ей каждый день зимой и летом. За королевой потянулись придворные. Они не жалели денег, чтобы щегольнуть модными цветами, платили по 10 рублей за цветок – огромные деньги по тому времени.
А герцогиня Йоркширская перещеголяла всех – заказала гвоздичный венок стоимостью в тысячу рублей. И вошла в историю только благодаря своему поистине безумному расточительству. Всякое бывало на белом свете!
* * *
Снабжать Европу цветами гвоздики начали не короли, и даже не садовники, а известный французский писатель Альфонс Карр. Жил он круглый год в городе Ницце и считал себя более искусным в цветоводстве, чем в литературе. Даже на дверях своей квартиры он велел написать крупными буквами «А. Карр, садовод».
Время от времени Карр посылал своим парижским друзьям букеты гвоздик. Доходили они в таком прекрасном состоянии, что вызывали удивление у всех, кто их видел.
Узнали об успешных пересылках срезанных цветов и садоводы. с тех пор таких посылок становилось все больше и больше. Это оказалось довольно прибыльным делом, и цветы начали распространяться по всей Европе.
Гвоздики под елками
Сейчас имеются десятки сортов гвоздик, отличающихся один от другого формой и окраской цветков, сроками цветения, величиной куста и лепестков. Среди них и так называемая турецкая гвоздика, обильно цветущая в течение двух лет после посадки.
Кажется, очень удобный цветок. Посадил – и два года не знай с ним никаких хлопот. Однако пришлась по вкусу эта гвоздика и мышам. Зимой, прорывая тоннели в толще снега, они добираются до растений и сгрызают их до самой земли. Сойдет снег, а на том месте, где были цветы, одна труха останется… Но и у гвоздик оказались верные союзники – елки, сосны, можжевельник и шиповник.
Не подумайте, что гвоздики нужно высаживать обязательно, скажем, под елками или соснами-защитницами. Вовсе нет. Елки могут расти, как и росли, хоть за сто километров от гвоздичной клумбы. Просто нужно нарубить еловых ветвей и прикрыть ими зимующие гвоздики. Тогда мыши к ним и носа не сунут – они боятся колючек.
Легенды и действительность
Орхидейные сигнатуры
Увидели люди впервые корни орхидеи и удивились: у нее два клубня. Один сухой, сморщенный – прошлогодний, а другой – свежий и сочный, словно налитой.
Почему это так – в древности не поняли. Считали, что молодой сочный клубень должен передавать человеку свою силу. И потому достаточно дряхлому старцу подержать его в руке, чтобы к нему вернулись юношеские силы.
А если напоить настоем старого корня молодого, сильного человека – он потеряет силы и превратится в старика.
* * *
Орхидея была таким загадочным и таинственным растением, что про нее рассказывали всякие чудеса и небылицы.
В одном из рассказов Герберта Уэллса повествуется, как некто Уинтер Уэдерберн, завсегдатай цветочных распродаж, купил сморщенный, похожий на паука, притворившегося мертвым, корень неизвестной орхидеи. Он возился в своей оранжерее с углем, кусочками тикового дерева, мхом и другими таинственными принадлежностями всякого, кто выращивает орхидеи. И вот наконец орхидея выбросила бутон. Уэдерберн замер от восторга.
На странной орхидее появилось три белых цветка с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках. Тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. А какой запах – все поплыло у него перед глазами…
Когда экономка по заведенному порядку приготовила чай ровно в половине пятого, хозяин не явился. Экономка подождала десять минут. «Не остановились ли у хозяина часы?» – подумала она.
Она направилась прямо к оранжерее, открыла дверь и окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела хозяина на кирпичном полу у горячих труб батареи.
Он лежал навзничь возле странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе, – сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки.
Сперва она не поняла. Но тут же увидела под одним из хищных щупальцев на щеке тонкую струйку крови.
Крикнув что-то нечленораздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок.
Что было дальше, вы можете узнать сами, когда прочтете весь рассказ, названный Уэллсом «Цветение странной орхидеи».
На самом деле таких кровожадных орхидей в природе не существует. Это вымысел одного порядка с деревьями, ловящими в сети своих ветвей лесных зверей и даже людей и пожирающими их.
Однако с орхидеями происходили, все же, удивительные истории.
Ширма крупнейшей авантюры
Как вы думаете, есть связь между орхидеями, галошами и автомобильными покрышками? Говорите скорее «да», пока вас не опередили, – не ошибетесь. В мире все удивительно связано между собой. Зачастую даже не верится, что между совершенна различными вещами есть связь.
Когда узнали, что из сока дерева гевеи можно делать не только резинки для стирания с бумаги карандашных записей, но и галоши, непромокаемую ткань, изоляцию для электрических проводов, детали для радиоприборов и различные трубки, шланги, всевозможные прокладки – за гевеями началась настоящая охота. Но тут обнаружилось, что большинство зарослей гевей находится в бассейне реки Амазонки, что течет в Бразилии.
Правительство страны сразу сообразило, что можно получить солидные прибыли, и под страхом смерти запретило вывозить из страны саженцы и семена гевеи.
Однако и капиталисты других стран не хотели отказаться от барышей, которые сулило развитие новой промышленности. И вот в Бразилии появился некто Генри Уикгэм – страстный любитель и собиратель орхидей. Он забирался за диковинными цветами в самые дебри девственного тропического леса, упаковывал свою добычу в ящики, грузил на суда и отправлял в ботанические сады Англии.
Бразильские чиновники только посмеивались над чудаковатым охотником за орхидеями.
Однако если бы они догадались об истинных занятиях Уикгэма, его немедленно заковали бы в кандалы и упрятали в самое глубокое тюремное подземелье. Англичанин хитрил. Орхидеи были нужны ему для отвода глаз. Он собирал в амазонских дебрях запретные семена гевеи.
И вот в один из дней 1876 года в трюмах небольшого судна «Амазонка» оказалось десять тысяч отборных семян резинового дерева. Остальное место было занято мешками и ящиками с орхидеями.
Бразильские таможенные чиновники поднялись на судно для осмотра. Они заглядывали в мешки с цветами и не подозревали о том, что за трюмными перегородками стояли, сдерживая учащенное дыхание, английские матросы с винтовками и многозарядными пистолетами наготове. Бразильцы не должны были увидеть на «Амазонке» семена гевеи…
Осмотрев крайние тюки с цветами, чиновники дали разрешение на выход судна из Бразилии. Подписав судовые документы «Амазонки», они, сами того не зная, подписали приговор бразильской монополии на «слезы» удивительного дерева гевеи.
Добравшись до Франции, Уикгэм через Париж поспешил к Ла-Маншу. На английском берегу его уже ждал специальный поезд. Англии позарез нужен был каучук.
Когда тюки вскрыли, оказалось, что большая часть семян гевеи погибла. Всходы, появившиеся в оранжереях британского Ботанического сада, умирали от неизвестных болезней. Из десяти тысяч семян в конце концов удалось вырастить только тысячу каучуковых деревьев. С ними на специально снаряженном корабле Уикгэм – специалист теперь уже по каучуковым деревьям – отправился на Цейлон, где были заложены первые в мире каучуковые плантации.
В 1907 году – через 31 год после кражи семян из лесов Бразилии – на мировом рынке появились первые шесть тонн каучука, полученного на цейлонских плантациях гевеи. В 1929 году англичане добыли уже 850 тысяч тонн каучука. А в 1936 году Бразилия давала только одну пятую часть каучука, потребляемого в мире.
Букет в сто тысяч
Видно, уж такая судьба у цветков орхидей – участвовать в авантюрах и способствовать ловкачам добиваться своей цели.
Немало можно привести случаев, когда за отдельные цветки или букеты платили бешеные деньги. Вы не забыли еще, наверно, о гвоздичном венке герцогини Йоркширской. Но, пожалуй, жена русского царя Александра III побила все рекорды – за один из букетов орхидей она заплатила сто тысяч рублей.
А случилось это таким образом.
Еще при Александре II изобретатель по фамилии Джевецкий построил небольшую подводную лодку, вернее, подводный челн, вмещавший всего одного человека – командира судна (он же – исполнитель всех команд) и двигательную силу.
Лодка приводилась в движение педалями, несколько напоминавшими велосипедные. Джевецкий испытывал свое изобретение в Одесской гавани и чуть было не погиб, застряв под днищем одной из яхт, под которую он хотел нырнуть на своем подводном челне.
После смерти Александра II на царский престол сел следующий Александр – Третий. Ему доложили о изобретении Джевецкого, и царь пожелал сам увидеть эту лодку.
Из Одессы суденышко переправили в Гатчину и спустили в озеро Серебряное, отличающееся прозрачностью воды. Здесь, как в аквариуме, и должны были проходить испытания лодки Джевецкого в присутствии царя.
Ловкий изобретатель не только как следует изучил озеро, царскую пристань и прикинул, как ловчее пристать к ней, когда закончатся испытания. Он разузнал, что царица всюду сопровождает государя, и не пропустил мимо ушей, что она любит цветы, особенно орхидеи. План был готов.
Настал день испытаний. Джевецкий сидел наготове в своей лодке, стража оцепила озеро и застыла в ожидании. Царь с царицей сели в шлюпку, гребцы вывели ее на середину озера, и самодержцы увидели в прозрачной воде, как под ними прошла темная тень, сделала круг почти у самой поверхности, нырнула и снова прошла под килем шлюпки.
Через четверть часа лодка вынырнула (она имела запас воздуха для двадцатиминутного плавания под водой) и ловко причалила к пристани. Джевецкий откинул горловину люка, лихо выскочил на настил пристани, стал на одно колено перед царицей и подал ей букет прекрасных орхидей.
– Это дань Нептуна вашему величеству, – сказал он ей по-французски.
Царица, покрасневшая от удовольствия, рассыпалась в комплиментах. Остался довольным и царь. Он поблагодарил изобретателя и тут же приказал дежурному генералу передать военному министру приказ построить 50 таких лодок и выплатить Джевецкому 100 тысяч рублей.
В течение года все лодки были готовы. Половину из них отвезли в Севастополь, половину – в Кронштадт;.
Джевецкий же поехал в Италию и начал скупать старинную посуду и безделушки для своей коллекции.
И если Джевецкий не испытывал непреодолимых трудностей, с которыми приходилось сталкиваться остальным русским изобретателям, то это надо приписывать ловкости и пронырливости самого изобретателя, а не достоинствам его лодки. Она мало годилась для плавания под водой.
Сто тысяч рублей были безвозвратно утоплены в соленой воде двух морей…