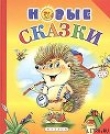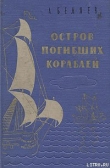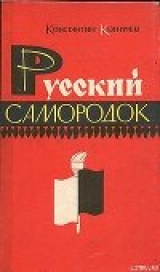
Текст книги "Русский самородок. Повесть о Сытине"
Автор книги: Константин Коничев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
БЕРСЕНЕВКА
Был у Ивана Дмитриевича дружок Михаил Дмитриевич Наумов – издатель с Никольского рынка. Разбогател он на выпуске безгонорарных учебников и жил «нараспашку», на широкую ногу, так, «чтоб чертям было тошно, а ему весело». Кутил он чрезмерно в ресторане у Тестова, путешествовал разгульно по разным странам. Привозил из-за границы разные диковинные «музыкальные шкапы» и устраивал домашние концерты. Транжирил свои доходы на что угодно. Сытина он называл запросто – Ванькой.
– Ты, Ванька, дурак, ты не так живешь. Работаешь как черт, не ведая покоя, и отказываешь себе в удовольствиях…
Шумлив был Наумов, резок и груб, никого, кроме Власа Дорошевича, не боялся. Влас Михайлович его не стращал, не запугивал, а только глянет на него поверх пенсне, и Наумов от одного взгляда притихнет. Ивану Дмитриевичу он приходился «без родства родственником» – кумом, крестным отцом всех детей. Крестный любил и старался баловать своих крестников и частенько упрекал их отца:
– Ты, Ванька, всю жизнь в деле, а моих крестников, своих деток, держишь в черном теле! Ну ладно, работай, дурака работа любит. А детям-то дай свободу! Да я, будь на твоем месте, купил бы для них дачу под самым Парижем и сказал бы: живите, ребята! Чтоб чертям тошно, а вам весело! Эх, Ванька, Ванька. Не умеешь ты жить!
Сытин на дерзость Наумова отвечал резко:
– Мишка! Катись к черту! Пусть ему будет от тебя тошно. Не тебе, страхолюдному прощелыге, меня учить! Мое дело всегда в гору, а твое только под гору. И ребят моих своей болтовней и бездельем не развращай. Ты, кум, наставляй их на ум, а дурости всякой они и без тебя нахватаются. А дача у меня знатная, только не под Парижем, а под Москвой, в Берсеневке, подглядел у одного прогоревшего князя…
Бывшее княжеское имение Берсеневка с жилищами, служебными пристройками, с прудами и большим приусадебным участком за приличную сумму перешло во владение Сытина.
Рядом с имением тихие подмосковные деревушки, вечерние гулянья с напевами под гармонь, и тут же Клязьма, а в ней рыбешка водится. В густых лесах, оберегаемых от топора, можно и поохотиться, если есть желание.
В летнюю пору в сытинской Берсеневке всегда было шумно. Всей жизнью на даче заправляла Евдокия Ивановна. Веселье исходило особенно от Василия Ивановича, окончившего медицинский факультет Московского университета. Он был заводилой всяких игр и кадрилей, ночных выездов в лес и на рыбалку. Веселиться и гулять полагалось не всем: кто плохо учился – тому летом на даче приходилось готовиться к экзаменам. Евдокия Ивановна за этим строго следила.
В воскресные дни – гости: зять, Благов Федор Иванович, со всей своей семьей; нередко бывал Дорошевич с супругой и многие другие близкие и дальние, свои и чужие. Некоторые приезжали не для развлечения, а для решения всяких важных вопросов. Дачным «управляющим» в Берсеневке был верный и надежный служака садовод Васильич. Ни по имени, ни по фамилии, а просто все так и называли его – Васильич. Он ведал садом, разводил деревья и кустарники, очищал пруды, оберегал зимой и летом все имение.
Чтобы зря не пропадала усадебная земля, Иван Дмитриевич решил здесь организовать образцовое опытное хозяйство. Специалисты сельского хозяйства, авторы многих сытинских изданий для деревни, разводили томаты и различные культуры семян, испытывали калийные удобрения на полях и огородах. Устанавливали, какой может быть наиболее выгодный севооборот для малого хозяйства в условиях средней и северо-западной частей России. А когда появлялись образцы новых сельскохозяйственных машин, Иван Дмитриевич приезжал в Берсеневку посмотреть их действие на практике. А потом агрономы Юницкий и Швецов создавали наглядные плакаты для деревни. В каталогах товарищества, среди тысячи многих разделов, появился содержательный раздел сельскохозяйственной литературы. Так Берсеневка с ее усадебным опытным участком пригодилась Сытину в издании книг по сельскому хозяйству. Иван Дмитриевич понимал, что грамотному крестьянину будет великая польза от этих книг.
По совету Сытина Юницкий привлек к работе видных практиков сельского хозяйства и ученых, земских и правительственных, и за короткий срок более пятидесяти названий книг из сытинской типографии пришли в деревню на помощь крестьянству.
Трудно приходилось Ивану Дмитриевичу. Враги ненавидели его за то, что он своей обширной издательской деятельностью многое сделал для неграмотной России. Пуришкевич и граф Витте во всеуслышание заявляли, что Сытин способствует распространению крамолы, готовит повторение революции пятого года и что такого издателя терпеть невозможно. При таком отношении правительственных деятелей Сытину приходилось всячески изворачиваться, дабы не было делу ущерба. А к более мелкому злу у Сытина было отношение толстовское: «Против зла сотвори благо». Вот тому, отчасти анекдотический, пример.
По соседству с усадьбой в деревне Берсеневке проживал странный тип по кличке Тимоха поп-вор, а по паспорту Тимофей Чураков. Жена его Ольга-шинкарка тайком торговала водкой, он поворовывал. Так и жили, не прикасаясь руками к земле. Вся окрестность знала Тимоху. Люди посмеивались над ним, а с него – как с гуся вода.
Когда Сытины приехали на лето в Берсеневку, Тимоха попробовал было продавать им краденых кур, но был изобличен, и его дальнейшие «операции» не имели успеха. Тогда он решил мелко, но методично мстить богатым соседям, вызывавшим у него зависть и ненависть. Первое, что он придумал, – украсть из-под носа бдительного Васильича невиданную здесь птицу – роскошного павлина. Тимоха украл павлина среди бела дня, зарезал, общипал, поджарил по всем правилам кулинарии, затем выпил сороковку водки и закусил жареным павлином. А потом ходил по деревням, гладил свое брюхо, приговаривая:
– Вот он где, павлинчик, полюбуйтесь! Павлинчиком закусил, павлинчиком. Кто из вас пробовал?! Ага!..
Деревенские ребятишки очень жалели сказочно прекрасную птицу, бегали за пьяным Тимохой, швыряли в него камнями, в десятки голосов кричали:
– Поп-вор, поп-вор!
– Тимоха бахвал, Тимоха нахал, куда павлина запихал?!
Но что поделаешь с Тимохой? Единственное, что мог Иван Дмитриевич сказать садовнику:
– Васильич, не тронь, не бей, не пачкай рук об этого Тимоху. Черт с ним!
К осени выехали из Берееневки все сытинские домочадцы. Остался на зиму сторожить усадьбу один Васильич. Отлучился однажды Васильич днем в Москву, вернулся поздно: глядь, замки сломаны. Покража. Нет енотовой хозяйской шубы, из буфета серебряный сервиз, вилки, ложки, ножи – все исчезло.
Тимоха! Кто же больше.
Бежит Васильич ночью на станцию Химки, к жандарму:
– У Сытина на даче кража, украдены шуба из гардероба и серебро из буфета…
– На кого подозрение?
– На Тимоху Чуракова, на кого же больше. Разрешите позвонить в Москву, Сытиным на квартиру.
– Пожалуйста. А мы тоже примем меры…
В чужой шубе недолго пришлось щеголять Тимохе. В Дурынине за стол с серебряными ложками не сядешь. Что делать с краденым добром? И дурак догадается: в Москву, Хитров рынок все проглотит. Решено – сделано. Раскинул Тимоха на Хитровом рынке сытинскую шубу дорогим мехом кверху, на мех разложил серебро с позолотой – превосходный сервиз.
Недолго пришлось зазывать покупателей. Подошел сыщик из уголовки, за ним стражник – башлык на шее, шашка на боку, револьвер с другого боку и свисток в зубах. И повели Тимоху в участок. Шуба внакидку. Серебро в мешке побрякивает. Вызвали Сытина туда же.
– Признаете свое добро, Иван Дмитриевич?
– Признаю.
– Признаете и вора?
– Как же, Тимофей из Дурынина, прошлым летом он у меня павлина сожрал.
– Что прикажете делать с ним, Иван Дмитриевич, он весь в вашей власти.
– А что с ним делать? Под суд незачем. Мое добро ко мне и вернулось. Не от хорошей жизни человек бросается на воровство. Вот что, Тимофей, судить тебя не будут. Я как потерпевший на это согласия не даю. Я прекращаю преследование и расследование, а ты прекрати воровство навсегда…
Тимоха поклонился в ноги:
– Спасибо за доброту…
– То-то, за дело надо браться. Лет тебе под сорок, пора и человеком стать. Небось землю имеешь?
– Две десятины в «ренду» сдаю. Самому не под силу…
– Приходи в воскресенье под вечер. Я буду на даче. Серьезно поговорим.
– Ладно, приду.
В воскресенье приехал Иван Дмитриевич в Берсеневку.
Пришел к нему на беседу Тимоха.
– Вот, Тимофей, по какому делу я тебя пригласил, – начал разговор Иван Дмитриевич в присутствии Васильича. – Дам я тебе безвозмездно лошадь, сбрую, плуг, борову, стог сена и десять пудов овса и ячменя к весеннему севу. Будешь работать – делу венец! Не станешь – бог тебе судья, и сам черт тебя тогда не исправит, и потерянный ты тогда человек! Ясно?
– Ясно! – И в ноги Сытину.
– Васильич, выдай ему все, что мною сказано. Пусть берет и разживается.
Эх, «нелегкая» рука оказалась у Ивана Дмитриевича! Стог сена Тимоха продал, семена пропил. Голодная, отощавшая Пегашка прибежала самовольно в Берсеневку.
И еще раз Тимоха напомнил о себе. Забрался ночью в сытинские дачные покои, походил со свечкою. И доглядел Тимоха, чем можно на сей раз поживиться. У Сытина во всех комнатах по углам отличные иконы. Ризы на них тяжелые, серебряные.
– Господи благослови! – И пошел Тимофей Чураков при свете церковной свечи «корчевать» иконы. Раскроет стеклянную створку, сдерет одеяние то с богородицы – «Неопалимой купины», то с Варвары-великомученицы; раздел также до доски Нерукотворного спаса, Дмитрия Солунского, даже Александра Невского не пощадил. Завернул всю добычу в скатерть и был таков. Долго не узнал бы об этом Васильич, да ему кто-то нечаянно намекнул:
– Что это в непоказанное время кто-то из хозяев приезжал?..
– Никто не приезжал.
– А как же, в главном корпусе ночью огонек светился…
– Да что вы?!
Прибежал Васильич и ахнул: какое богохульство! Лежат на полу ободранные иконы. Чья рука поднялась? Несдобровать теперь Тимохе: Сытин простит, бог не простит…
Было это в ту осень, когда Сытин ездил в Берлин, заезжал в Италию, погостил недельку у Горького и вернулся.
Вскоре за ним, воспользовавшись амнистией, приехал в Россию Горький и на осень и зиму поселился у Сытина на даче в Берсеневке.
Васильичу Сытин наказал всячески оберегать Горького от назойливых и любознательных соседей. Мало ли кому захочется посмотреть на прославленного писателя или с чем обратиться к нему.
Однажды под веселое настроение Иван Дмитриевич рассказал Горькому о Тимохе, о его воровских проделках. Горький улыбнулся и спросил:
– Ну, хорошо, вор есть вор, чего с него спросишь. А вы, Иван Дмитриевич, почему такое милосердие и благодеяние к нему проявили? От избытка гуманных чувств или от страха? Я думаю, что вы испугались этого Тимохи?..
– Угадали, Алексей Максимович, угадали! Сами понимаете, прекрасную птицу не пощадил, украл и сожрал, так меня тем более не пощадит.
– Предположим, он вас не тронул бы, ножичком не полоснул бы. Я знаю, воры трусливы. А вот красного петушка он мог бы подпустить.
– И не говорите, Алексей Максимович, я об этом подумал, прежде чем стать благодетелем злодея. Спалит, думаю, за милую мою душу, а за усадебку-то я сорок семь тысяч уплатил, да за ремонт и прочее тысячонки четыре ухлопал… Бывало, покойный Антон Павлович упрекал меня за столь дорогую покупку…
Горький добродушно улыбнулся:
– Вот кто был святой человек!.. Кто подобный Чехову есть среди нас, литераторов? Никого. Есть честные, есть порядочные, но благороднее его нет! А какой талант!
– Меня всегда влекло к нему благородство его души, – сказал Сытин, – и в Ялту к нему ездил, и в Мелихово, и в Москве часто встречались… Сколько раз я пользовался его добрыми советами-подсказами!.. И вот уже десять лет как его не стало. Истинного друга лишились мы…
Помолчали и потом снова заговорили о Тимохе.
– Я приказал Васильичу строго глядеть и не пускать этого Тимоху близко к даче, дабы он не учинил вам неприятностей, – сказал Сытин.
– Это вы напрасно, Иван Дмитриевич, меня такие Тимохи не испугают, видал я их немало. Одного не понимаю, как это у него на павлина рука поднялась, да еще и аппетит разыгрался?.. Как ему павлина было не жаль? Мои босяки не были столь черствыми.
…В Берсеневке Горькому жилось хорошо, спокойно: тишина, русская природа, снежная, с крепкими морозами зима. Комнаты согреты, от самовара легкий угарец.
На прогулку он выходил в сопровождении Васильича. Слушал его рассказы о местных происшествиях, а сам рассказывал Васильичу о разных событиях и словно бы вслух думал и, рассуждая с собой, приговаривал:
– Кажется, быть войне… А кто кого – неизвестно… Порохом попахивает…
Как-то к ним подошел, опираясь на палку, с мешком за спиной Тимоха. Васильич, забежав впереди Горького, преградил Тимохе дорогу:
– Чего тебе надо?
– Ничего не надо, – ответил тот, – здрасьте, добро пожаловать, и только. – И вытряхнул из мешка связанного петуха. – Вот хочу великому писателю петуха на жаркое продать…
– Мы ворованное не покупаем, – отрезал без стеснения Васильич, но, чтобы смягчить грубость, все-таки спросил: – Какая ему цена?
– Полтинник.
– На вот тебе полтинник, убирайся вместе с петухом и не мешай. Алексей Максимович ходит и думает, а ты ему суешь петуха! Понятие надо иметь.
Тимоха взял полтинник и вдруг ни с того ни с сего стал бить петуха палкой. Взмахивая крыльями, петух взлетал, падал и снова, с криком после каждого удара, взлетал.
– Зачем ты это делаешь? – сурово спросил Васильич.
– А чтобы писатель пожалел петуха и купил.
– Тебе же дан полтинник.
– Так это за то, чтобы я от вас отвязался, а за петуха шесть гривен! Он битый вкуснее будет.
Горький нахмурился и сказал:
– Чудовищный вы человек… – и свернул в сторону.
Васильич полушепотом пригрозил Тимохе:
– Не лезь, куда не просят… у меня рука тяжелая. Это же тебе не кто-нибудь…
Тимоха засунул петуха в мешок и пошагал сторонкой вблизи от Горького с явным желанием завести с ним беседу.
– А мы тоже грамотные, книжечки ваши читаем, – и весело, расплываясь в улыбке, продолжал: – Про Челкаша читал, про Пляши-ногу, про уповающего… Всех ваших воров изучил!.. А меня кличут «поп-вор», да врут дьяволы: какой я поп? Да и вор из меня хреновый. Может, и вы насчет Челкаша подвираете?.. Ха-ха…
Горький и Васильич свернули обратно к усадьбе. Тимоха отстал от них и исчез.
– Мы думаем и пишем, пишем и думаем, а жизнь идет своим чередом, и всю ее никак не охватишь… – сказал Горький и задумался, а потом добавил: – Все люди, да не все человеки…
В четырнадцатом, незадолго до объявления войны, Горький уехал из Берсеневки в Петербург затевать там, с помощью Сытина, издание журнала «Летопись».
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Между Сытиным и авторами отношения портились не часто. Сытин мог не поладить и так же быстро мог найти точки соприкосновения и помириться. Так, бывало, у него не ладилось дело с Григорием Петровым, с Немировичем-Данченко; но никогда он не мог бы поссориться с Толстым, Чеховым и Горьким. И еще он всегда старался жить в мире и согласии с Власом Дорошевичем, на котором держалось «Русское слово».
Сразу, как только Дорошевич стал фактическим редактором газеты при официальном редакторе Благова, он поставил перед издателем условия, о которых впоследствии писал в одной из статей:
«„Русское слово“ не знает ни „фильств“ ни „фобств“. Оно хотело бы справедливости для всех народов, населяющих русскую землю, хотело бы видеть все эти народы любящими и любимыми детьми одной семьи, которой великое имя Россия.
Но оно желает добиваться этого русскими устами.
Мы, русские, должны требовать справедливого разрешения этих вопросов.
Ведь издаются же газеты финские, татарские, польские, грузинские, армянские. Почему не издаваться русской газете? Не быть русской редакции?
Является вопрос.
Решив, что Сытин должен издавать газету, какой завет дал Чехов этой газете?
Дал же он какой-нибудь завет?
Один.
Он говорил:
– Главное, Иван Дмитриевич, чтоб у вас редакция была русская…
…И все, что пишется сотнями сотрудников газеты в „Русском слове“, проходит через фильтр русской редакции.
Чеховский завет исполняется ненарушимо».
Война, само собой разумеется, заставила в известной мере перестроить работу товарищества И. Д. Сытина.
Сразу же, с первых дней войны, с печатных машин на Пятницкой полетели в народ миллионы брошюр патриотического содержания: «Фельдмаршал Суворов и его наука побеждать», «Наши герои в современной войне», «Наши братья славяне», «Храбрая Бельгия», «Россия борется за правду».
За первый год войны было выпущено более пятидесяти названий подобных книг и книжек о войне… А вообще в сытинском каталоге по всем разделам литературы значилось в тот год свыше двух тысяч названий книг. Дело не стояло на месте.
Сытин не прочь бы, по старой привычке, заняться изданием дешевых лубочных картин, рисующих сражения, где наши бравые генералы верхом на боевых конях ведут за собой в штыковую атаку солдат. Но война сразу показала, что в такой лубок никто не поверит. Пришлось издателям народных картинок в соответствии с этим перестраиваться и пристраиваться ко вкусам потребителя. Так возникла лубочная карикатура. Дело это было не внове: сто лет назад карикатуры русских художников, направленные против Наполеона и его войска, выполнили определенную роль. К этому же способу пропаганды издатели стали прибегать и в войну 1914 года. Так появились сотни разных карикатур, высмеивающих «немца-перца-колбасу».
Но смех этот был невеселый.
Немец наступал.
Много внимания было уделено раздутому подвигу Козьмы Крючкова. Но Сытин знал механику производства «подвигов», и на сюжете Крючкова не отыгрывался, не искал выгод. Ведь и Горький как-то сказал, что подвиги купца Иголкина и Козьмы Крючкова больше от надуманности, нежели от действительности…
Но чтобы не остаться в долгу перед событиями, Иван Дмитриевич выпустил довольно заметный плакат – карикатуру на Вильгельма – «Враг рода человеческого». Художник, скрывший свое имя, видимо и без того известный, ярко изобразил Вильгельма в виде черта с хвостом и копытами, а в руках – два черепа. Плакат оказался «устрашающим» разве только для детей-малолеток…
Однако не об этих малых делах приходилось думать в тревожное военное время.
В 1914 году, к моменту объявления Германией войны России в Берлине находились два сына и три дочери Ивана Дмитриевича. Один из сыновей сумел выехать из Германии в Швецию, через Финляндию вернулся на родину и был взят на службу в армию. Все три дочери Ивана Дмитриевича – Евдокия, Ольга и Анна – перекочевали из Германии в Швейцарию и нашли приют в семье писателя-библиографа Николая Александровича Рубакина. Петр Иванович Сытин был задержан в Германии как пленник и там проживал под наблюдением полиции…
С большим трудом и канителью удалось Сытину устроить выезд трех своих дочерей из Швейцарии через Италию, Грецию и, тогда еще пока не вступившую в войну, Турцию.
Это было большой радостью в семье Сытиных, но радость была скоро омрачена горем, их постигшим. Умер в Петрограде один из сыновей Ивана Дмитриевича – Владимир. В молодости он получил коммерческое образование. В девятьсот пятом служил на русско-турецкой границе. Вернулся – стал руководить оптовыми операциями сытинского товарищества. Настала война – он офицер. Обучал солдат, простудился. Заболел воспалением легких в тяжелой форме. Сытин часто навещал больного сына. Растерянно разводили руками врачи.
– Володя, говори, что надо, все сделаю, – говорил опечаленный отец. – Ничего не пожалею…
– Чувствую, папа, мне ничего не надо, – отвечал больной. – Повесьте над моей койкой часы с кукушкой. Пусть кукушка отсчитывает мои последние часы…
Иван Дмитриевич принес ему часы с кукушкой, выполнив последнюю просьбу любимца-сына.
Долго не проходила горечь и тоска по умершему сыну, и много седых волос прибавилось на голове Сытина.
В первый год войны возник «Российский союз торговли и промышленности для внешнего и внутреннего товарообмена» под председательством князя Щербатова. Сытин вступил в этот союз, но скоро увидел, что собою представляет клика хищников, крупнейших спекулянтов, грабивших Россию, и, формально оставаясь членом этого союза, он решительно уклонился от его деятельности, не принял участия в махинациях барышников широкого масштаба. И когда его спрашивали, почему он перестал ходить на заседания, устраиваемые князем Щербатовым, Иван Дмитриевич не кривя душой объяснял:
– Не знаю, что происходит. Не те люди там собрались: шарлатаны да подлецы, проходимцы и продажные шкуры стоят во главе истерзанной России. Рано ли, поздно ли, а что-то произойдет, и чему быть – того не миновать…
Однажды в Петрограде Сытин пришел в отделение «Русского слова» в кабинет к Руманову. Разговаривали о том, кого бы из самых деловитых и в военном отношении образованных сотрудников послать корреспондентом от «Русского слова» в действующую армию.
– Одного обозревателя, который пишет «в общем и целом», нам недостаточно. Нужно, чтобы живой свидетель военных действий сообщал нам свои интересные и интересующие нас наблюдения… – говорил Сытин Руманову.
В эту минуту раздался телефонный звонок. Руманов снял трубку, послушал и передал Сытину:
– Вас просит к телефону банкир Алексей Иванович Путилов.
– Алло… Здравствуйте, Алексей Иванович, зачем вам Сытин понадобился? Я вас слушаю…
С другого конца провода доносилось:
– Иван Дмитриевич, есть весьма выгодное дельце: я вам советую вступить в акционерное общество банкового капитала. Выгодная игра на падении денежного курса. Доход с «воздуха». Вы для начала можете вложить пай двести тысяч рублей. Завтра же у вас прибавится на счету тысяч полсотни!..
Выслушав Путилова, Иван Дмитриевич, употребив весь свой ругательский лексикон, послал Путилова дальше чем ко всем чертям:
– Сволочи вы, подонки, не думаете о России, а только о наживе, о грабеже. Ищете доходов с «воздуха», а дождетесь, мерзавцы, расчета полной ценой народного гнева… – И так ударил трубкой по аппарату, что трубка разлетелась на мелкие части.
– О чем мы говорили? – резко спросил Сытин Руманова. – Да, кого послать в армию.
– Я думаю, или Костю Орлова или Мечислава Лембича, – предложил Руманов.
– Верно, оба пройдохи! – сгоряча отозвался Сытин. – Оба годятся, но давайте пока пошлем Орлова; надо это как-то по всем правилам оформить. Благову сейчас некогда этим делом заняться, он сам носит погоны санитарного врача. Ладно, вот на днях приедет из главного штаба военный цензор, штабс-капитан Михаил Лемке, я с тем и утрясу этот вопрос.
Лемке – старый, близкий знакомый Сытина. Не зря его когда-то Иван Дмитриевич приглашал стать редактором «Русского слова». Лемке удачно пристроился в качестве цензора в царской ставке, бывало, даже обедал с царем за одним столом. Человек он с положением, – через него проще всего найти способ, как наладить корреспондентскую связь «Русского слова» непосредственно со ставкой.
Сытин выехал в Москву, а с приехавшим Лемке в Петербурге встретился Руманов и вел предварительный разговор о посылке в ставку своего корреспондента.
На другой день Лемке уже был в Москве, позвонил Сытину, и тот немедленно приехал к нему в «Гранд-отель», где разговор был продолжен. Лемке деликатно высмеивал сытинского «стратега» – военного обозревателя «Русского слова» Михайловского, который в военном деле ровным счетом ничего не смыслит и до смешного глуп в своих суждениях по военным вопросам.
Сытин на это не обиделся. Он возлагал надежды на Орлова, авось этот не наглупит.
В «Гранд-отеле» все номера были переполнены беженцами-поляками. Коридоры забиты чемоданами и сундуками. Тяжелое дыхание войны чувствовалось в Москве. Сытин расспрашивал Лемке о том, что ему известно о войне нового, выходящего за рамки газетных сообщений. Из всего генералитета Лемке хвалил одного Брусилова. Рассказал, что немцы, заняв Варшаву, держат против русских семьдесят дивизий с неисчерпаемым количеством снарядов. Горят деревни, фабрики, взрываются мосты, а на всем этом фоне – у нас казнокрадство, пьянство, воровство, офицерский разгул, и поганое имя Гришки Распутина и его похождения известны даже на фронте в солдатской среде.
– Господи, куда идем, куда катимся?! – возмущался Сытин. – На фронте так, а в тылу не лучше. Купечество ошалело. О благородстве и патриотизме мало кто помышляет. Стервец Прохоров, владелец краснопресненской мануфактуры, хвалится, что за год войны тринадцать миллионов нажил. А того не думает, ведь прахом пойдут все миллионы. Чует мое сердце: понадобятся России Минины и Пожарские…
Посланный в ставку сытинский корреспондент «Русского слова» Орлов не пробыл там и одного месяца, был вынужден вернуться в Москву, объяснив свой отъезд военному цензору Лемке тем, что ему, как репортеру, делать на фронте нечего, ибо «обозреватель» Михайловский отбивает у него заработок, предпочитая печатать свои статьи.
– А вы бы пожаловались Дорошевичу, – предложил ему Лемке, – Сытин в эти дела редакционной кухни едва ли станет вникать. Ему не до того: у большого корабля – большое плавание. А Дорошевич там у вас царь и бог!
– И волшебник! – добавил Орлов. – Правда, этот волшебник все решает сам и считается только со своим мнением. Денег он получает тьму-тьмущую и всю «политику» газеты держит в своих руках. Сытин же одно знает – без Дорошевича «Русское слово» будет круглым сиротой…
Орлов возвратился, а на смену ему Сытин направил в ставку корреспондента Мечислава Лембича (псевдоним – Цвятковский). Лембич, владевший польским языком, нечаянно оказался у немцев. Каким-то образом бежал от неприятеля из-под Варшавы, описал свои приключения и даже написал статью «О намерениях немцев поднять революцию в Малороссии». И хотя Лембич получил георгиевскую медаль, тем не менее со своими приключениями из доверия командования вышел, так что Михаилу Лемке пришлось поучать незадачливого корреспондента, каким путем надо восстанавливать свой престиж, чтобы остаться при штабе одной из армий. И Лембич сумел это сделать.
Война продолжалась. Убитые, раненые и пленные исчислялись миллионами.
Нарушалась денежная система: деньги стали терять свою ценность. Буржуазия понимала, что от падающего рубля пожива не велика. Государственный банк может выпустить «бумажек» сколько угодно. При таких условиях никакая борьба с дороговизной была уже невозможна. Усилилась спекуляция, но вместе с тем догадливые купцы начали припрятывать огромные запасы продовольственных и других товаров до лучших времен.
Дорожала и книга. Приходилось издателям прибегать ко всяким ухищрениям, делать процентные надбавки на книги, но эти надбавки все равно отставали от растущих цен.
Сытин чувствовал себя растерянно. И надумал он в эти тревожные дни повидаться с царем, поговорить, а о чем и зачем – он и сам не отдавал себе отчета. У министра внутренних дел Штюрмера добился разрешения и поехал к царю в ставку, находившуюся в Минске.
В ставке Иван Дмитриевич встретился с цензором Лемке, как со старым приятелем. Но и он не мог от Сытина узнать, зачем тот приехал к царю… Три дня Иван Дмитриевич ждал приема. У царя были дела неотложные: он проводил совещание главнокомандующих фронтами в Могилеве. Сам председательствовал и, вопреки своему обыкновению, много говорил, расспрашивал генералов о положении на фронтах…
Свидание Сытину с царем было назначено на воскресный день в десять часов утра.
В приемной царский телохранитель-скороход говорил; Сытину:
«Не тушуйтесь, чувствуйте себя проще. Не ломайтесь и не приплясывайте, как это делают другие. Говорите царю больше правды, а то ему только все красивую ложь преподносят, да унижаются».[10]10
Из записок Мих. Лемке за 14 февраля 1916 г.
[Закрыть]
Скороход царя понравился Сытину, но его слова не подействовали, Сытин входил в зал сам не свой… Об этой встрече, первой, единственной и последней, издателя с царем имеются сжатые, яркие воспоминания самого Сытина. Не преминул отметить факт встречи в своем дневнике и штабс-капитан Лемке.
Если же объединить эти воспоминания в одно целое, то сцена встречи была такова.
В обычном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, аккуратно причесанный, в начищенной обуви, входит Иван Дмитриевич в приемный небольшой зал. Белые обои. На стенах портреты Александра Третьего и его супруги. Возле стен стулья с бархатной обивкой. Сытин волнуется. Сейчас должен появиться самодержец. В мыслях проносится история незадачливого царствования… Ходынка… Цусима… Девятое января… Разбитая войсками Пресня, сожженная типография.
«И зачем мне понадобилось это свидание?.. Назад ходу нет. Господи, помоги взять себя в руки… О чем же я буду с ним говорить?.. – думает Сытин и медленно шагает по мягкому ковру на средину кабинета. В углу стол, два кресла. – За столом он будет принимать меня или как?..»
В этот момент из боковой узкой двери выходит царь. Сытин приметил – высокие офицерские сапоги, офицерский мундир, редкая седина в волосах и длинные тонкие брови. Вид у царя усталый, озабоченный.
Оба идут друг другу навстречу.
– Здравствуйте, ваше императорское величество. Я к вашей милости, Сытин, издатель для народа…
Царь подал руку. Оба остановились посреди зала. Значит, царь намерен принимать стоя, – аудиенция не затянется. Пауза. Неловкое молчание. Царь не спрашивает, а Сытин, все передумавший, не знает, с чего и как начать. И хотя не было в живых ни Победоносцева, ни Витте, почему-то Сытин, осмелев, начал разговор о них:
– Я, ваше величество, позволю обратить ваше внимание на школу народную… Я как-то говорил с обер-прокурором святейшего синода Победоносцевым и графом Витте. Насчет проекта образовать общество «Школа и Знание». И тогда, будь это общество, оно за свой счет всю Россию покрыло бы сетью школ… Сергей Юльевич, граф Витте, мне ответил: правительство может вас терпеть, но сочувствовать вам никогда… Победоносцев не пожелал, чтобы мы священные книги печатали на русском языке. От славянского языка благолепие исходит, а от русского понимание. Мы, говорил он, не хотим, чтоб мужик понимал, а пусть благолепствует… Опять же из школ изгоняют сочинения графа Льва Толстого, даже отрывки не позволяют…
Царь молчал и тягостно ждал, о чем же издатель его попросит. Но Сытин мялся, краснел и ни о чем не просил.
Тогда царь, думавший о чем угодно, только не о школе и не о сытинских изданиях, сказал:
– Ни с Победоносцевым, ни с Витте я в этом случае не согласен. Я проверю… – и подал Сытину руку.
Вышел Иван Дмитриевич из царской приемной. В глазах помутнело. У выхода ждал его хитровато улыбающийся Лемке.
– Ну что, Иван Дмитриевич?
– Да ничего. Сказал «проверю». А что «проверю» – я и сам не пойму. Помогите, Михаил Константинович, мне уехать отсюда. Приезжал ни за чем и увезу ничто. Захотелось на старости лет повидать государя, ну, повидал. Теперь знаю, какой он… барабошка…