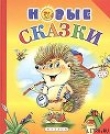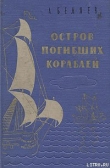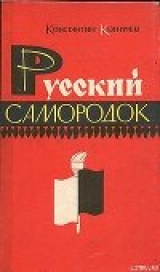
Текст книги "Русский самородок. Повесть о Сытине"
Автор книги: Константин Коничев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
– Безусловно, безусловно, – подтвердил Благов, – Соболевский – фигура знатная. Разумеется, высокому начальству он не по нраву. «Русские ведомости» – газета общественной совести, да еще с профессорским уклоном. Сытинское «Слово» более общенародная газета. Однако все мы уважаем Соболевского, как благородного человека, обладающего светлым, прозорливым умом. И кое-что у него заимствуем, а вернее, грубо говоря, перетягиваем из его «Ведомостей» некоторых писателей. У нашей газеты тираж огромный, читателей больше, да и гонораром не скупимся.
– Иногда и этот боевой газетный деятель впадает в уныние, – отозвался Дорошевич о Соболевском, – частенько и ему приходится претерпевать от всевидящего ока и всеслышащих ушей. Штрафы, конфискации отдельных номеров делают немалую честь «Русским ведомостям». В декабре пятого года за сбор средств на революцию совсем, казалось, была крышка газете Соболевского. Снова как-то воспрянула. А на днях я догнал Василия Михайловича на улице. Идет расстроенный и вполголоса сам с собой разговаривает: «Мерзость, свинство! И зачем мы, коль от этого свинства не очистить Россию никакому Геркулесу?..» А я ему и говорю: «Есть, говорю, Василий Михайлович, Геркулес, имя ему – печать!..» Смутился и отвечает: «Не верю, Влас Михайлович, не верю…» Что делать, если даже у таких столпов русской интеллигенции, как Соболевский, вера в прогресс, в революционные силы народа поколеблена?.. Многие удручены щемящим чувством ожидания чего-то еще более худшего. Многие потянулись за границу. Вот и вы, Николай Александрович…
– Другого выхода пока не вижу. Я уже решил подарить всю свою библиотеку «Петербургской лиге образования». Буду там, за границей, продолжать свое дело. Я навсегда книжный червяк, и только. И не из тех я, кто нащупал и ухватился за истину. И там буду ее искать, найду и, не сразу поверив, поищу еще к ней доказательств. Пока что нашел такую истину, которая упрекает нас за неравенство образования.
– Утопия, Николай Александрович, – возразил Сытин. – И все мы на вечные времена в этой утопии по-всякому утопать будем. Где же видано, чтобы люди стали одинаковые и умом наполненные поровну, как вот эти стаканы чаем? Всегда и во всем быть разнице; о равенстве только разговоры Кропоткиных, Савинковых и Брешковских. Всеобщая грамотность сбудется, это возможная вещь. А чтобы все были профессорами, извините, не уравнял бог лесу, не только людей.
– Нет, друзья, настоящие перемены произойдут только благодаря образованному обществу, которое ликвидирует изнеженность тунеядцев, а тружеников образует и поставит в один ряд с собой. В этом смысле роль книги, роль просветителей в тысячи раз надежней и верней эсеровских бомб и револьверов. – Рубакин отставил стакан на средину столика и сказал: – Где бы я ни оказался, дорогие друзья, куда бы я ни исчез, не откажите мне в любезности не прекращать с вашим товариществом деловой связи. Через печать я буду стараться соединять читателей с полезными книгами, с такими авторами, которые трудятся для народа, вкладывают душу в свои произведения…
– Николай Александрович, скажите, когда будете уезжать за границу? Мы вас проводим…
– Обязательно проводим…
– Не надо, друзья, я потихонечку. Приглашаю вас, если окажетесь в тот день в Петербурге, приходите в «Лигу образования» на передачу мною собственной библиотеки народу. Это будет отличная база для воскресных рабочих школ. И не сочтите сие за бахвальный жест с моей стороны. А там, где найду себе пристанище, я опять помаленечку сколочу себе библиотеку. Будет работа, заработок, будут у меня и книги. Мой девиз: «Книга – могущественнейшее орудие в борьбе за истину и справедливость». В свои сорок пять лет я вправе рассчитывать немало еще потрудиться до конца дней своих под этим девизом…
Рубакин дружески попрощался и вышел из редакции. Как знать, бывать ли ему еще в этой компании? Решено – покинуть Россию. Впереди эмиграция, может, навсегда? Но мало ли русских, опасных для самодержавия людей, находится за пределами своей родины и в то же время связаны с ней?.. И эта мысль – быть за границей и работать для русского народа – успокаивала его и настраивала на возвышенный лад.
А в редакции «Русского слова», после ухода Рубакина, продолжался о нем разговор.
– Белая ворона из стаи русского купечества, – сказал о Рубакине Дорошевич. – Не успел кончить образование в университете, как попал под наблюдение полиции. Отец хотел «образумить» его, поручил ему управление бумажной фабрикой, а он все это дело завалил, деньги израсходовал на книги и на создание рабочих курсов. Связался накрепко с революционерами, дважды высылали…
– Он мог бы написать отличный роман своего бытия, – заметил Благов, – начать бы с того, как в детские годы отец приучал его торговать вениками в бане, и что из этого в конце концов получилось…
– Он скромен, о себе писать не соизволит, – проговорил Сытин. – Да и занят всегда по горло. Книжечки-то его миллионами расходятся. Понятно пишет для простого, малограмотного народа…
– Да, а ведь сколько он их написал! Я со счету сбился. В настоящее время труды Рубакина очень необходимы, – продолжал разговор Дорошевич. – Они готовят читателей к пониманию глубоких научно-познавательных произведений. Кончится, скажем, через десяток лет этот переходный, подготовительный период, и его книжки, сделав великое дело, отомрут вместе с автором. Такова судьба, подстерегающая нас, многих. Чего доброго, из моих кратковременных фельетонов останется существовать только один «Пирог с околоточным», а остальное разойдется по рукам и исчезнет…
– Нет причин вам, Влас Михайлович, беспокоиться, – сказал Благов, – вы, как писатель, поживете и после своей смерти. Рубакина тоже вспомнят. Ивана Дмитриевича уже в каждой избе знают и не забудут целый век. А вот меня кто и когда помянет добрым словом, если я только тем и занимаюсь, что расставляю знаки препинания в рукописях тех писателей, которые не умеют этого делать?
– Участь незавидная, что говорить, – шутливо ответил на это Сытин. – А ты, зятек, не теряйся, не захотел быть врачом, взялся за перо – пиши! Покойный Антон Павлович тоже медиком был. А ныне врач Смидович-Вересаев смотри как пошел в гору. Не теряйся, пробуй…
– Не умудрил господь…
– Доброго нашел виновника, – сказал Дорошевич, – а вот некоторые, вопреки божьей воле, даже в изгнании не зарывают свои таланты.
– Блаженни изгнанные правды ради, яко тех есть царствие небесное, – заключил Иван Дмитриевич беседу заповедью и сказал: – Ну, ребята, по местам, дело не терпит пустословия…
…Через некоторое время Николай Александрович Рубакин передавал свою библиотеку «Лиге образования». В торжественной обстановке, перед собравшимися читателями, говорил:
– Передаю лично мне принадлежавшую библиотеку, свыше ста тысяч томов, в нераздельное общественное владение прежде всего петербургского пролетариата и трудовой интеллигенции.
Бурной овацией встречены были эти слова русского патриота-просветителя.
Через несколько дней он выбыл в Финляндию, затем переехал в Швейцарию, где и провел среди книг сорок лет.
От партии эсеров он отошел в годы реакции. Фантазеры, террористы и болтуны своими деяниями убедили Рубакииа в бесплодности их идей.
Находясь в Швейцарии, он всегда помогал русским политическим эмигрантам. Дорога к нему была известна Плеханову и Луначарскому, Мануильскому и Крыленко, Вере Фигнер, Коллонтай и многим другим революционерам-эмигрантам.
ПОЕЗДКА РАДИ ОТДЫХА
Наконец Иван Дмитриевич решил отдохнуть, отвлечься от дел своих. Оставив руководить товариществом Соловьева, а Благова и Дорошевича – «Русским словом», Сытин поехал ненадолго посмотреть родные милые костромские места, где прошло его детство.
Сколько раз он видел во сне то самое село Гнездниково таким, каким оно ему запомнилось с юных лет. И речка с омутами и ершами, и бревенчатый мост на толстых столбах, и мужицкие избы с соломенными крышами…
Полвека Иван Дмитриевич не бывал в Гнездникове, приехал – ничего не может узнать: все ему показалось мельче, и река вроде бы обмелела, изб стало меньше. Люди многие вымерли, кто-то, дождавшись «воли», сбежал в города на фабрики. Люди народились новые, он – никого и его никто не узнаёт. Походил, поспрашивал, кто помнит писаря Сытина в Гнездникове? Никто. Вот только двухэтажное волостное правление с выцветшей обшивкой и проржавленной железной крышей – свидетель тех далеких дней.
Из любопытства он заходил в избы. Почти в каждой из них видел сытинский календарь, и часто ему попадались знакомые книги, зачитанные, захватанные, и даже листков недостает – искурены. Эти лубочные книжки и картинки, сказки о ведьмах, колдунах и чертях и «жития святых», разумеется, не произвели заметных сдвигов в костромской деревне. Предрассудки и суеверия по-прежнему живучи. Люди продолжали верить в нечистую силу, и даже эти «нечистые» распределялись по «должностям» со своими, присущими только им, обязанностями.
Леший – хозяйничает в лесу, уводит человека в дебри, иногда безвыходно.
Домашним скотом распоряжается, бережет или портит «дворовушко».
В омутах водится «водяной», главным образом около мельничных плотин.
«Нечистые» действия «банника» ограничены только баней, там он хозяин, вреда особенного не приносит. Но «пугает».
Покровителем гуменников и овинов считается «подовинник». Он если «захочет», то гумно и скирды спалит.
«Кикимору» – представляют страшной, уродливой, оберегающей на полях горох и репу от вороватых ребятишек. Кикимора может и задушить в своих объятиях того, кто ей невзлюбится…
Обо всех подобных суевериях и предрассудках Иван Дмитриевич наслушался в Гнездникове от мужиков, а местный учитель подтвердил, что в «нечистую силу» по всей окрестности люди верят так же, как и в святых угодников. Раз есть «святые», то должны быть и «нечистые». И не теперь они завелись…
Жаловался учитель на предрассудки деревни и не похвально отзывался о лубочных изданиях. Тогда Сытин спросил его:
– А «Русское слово» вы читаете?
– Хожу в правление, там читаю, а выписывать дороговато. Я на эти деньги вместо годовой подписки могу сапоги купить.
Вспомнив напутствие Евдокии Ивановны: «Забыться от всего, не скупиться, ни в чем себе не отказывать и быть добрее с людьми», Иван Дмитриевич послал в редакцию «Русского слова» телеграмму: «Затребуйте Костромы адреса всех сельских школ до конца года и на будущий год всем школам Костромской губернии высылайте бесплатно газету».
Расспрашивал Иван Дмитриевич учителя о секте «иоаннитов» и о приезде кронштадтского протоиерея в Солигаличский уезд для увещевания сектанта Пономарева. Учитель посоветовал ему пригласить из приходского села Плещеева попа Махровского. Поп не замедлил приехать в Гнездниково. Он и рассказал в подробностях всю эту историю.
– Сектант Иван Артамонов Пономарев, узнав заблаговременно о приезде Ивана Кронштадтского, сразу же собрал секту «иоаннитов» и оповестил: «Едет сам бог в образе Иоанна…» – Слух разнесся повсеместно, и, разумеется, народ нахлынул. И вот, – рассказывал дальше поп Махровский, – приезжает к нам в Плещеево Иван Кронштадтский, туда же был приглашен и Пономарев со всей сектой. С Кронштадтским приехала какая-то графиня полоумная с мешком конфет и пряников. Первым делом протоиерей стал разбрасывать ребятишкам гостинцы. Ну, те его окружили со всех сторон, так и лезут под ноги собирать сласти. А он и говорит: «Глядите, глядите, дети меня встречают с радостью, как некогда встречали Христа еврейские дети с торжествующими лицами и песнями. Так и ныне везде простые люди и дети встречают меня. Что сие значит? Значит, что благодать божия живет во мне…» И этих слов его было достаточно, чтобы Пономарев тут же завопил: – «Ты и есть бог в троице единосущный».
Стоило ему это сказать, как бабы-сектантки бросились к Ивану Кронштадтскому, стали наперебой, в дикой сутолоке, целовать ему руки, сапоги, отрывали от его рясы клочья материи, а одна из баб даже ухитрилась укусить его за руку… Тут протоиерей возопил и говорит: «Никакой я не бог! Перестаньте заблуждаться и смущать людей!» Полиция вмешалась. Сняли крест с пономаревской молельни. А Пономарев, невзирая ни на что, по-прежнему проповедует всем, что Иван Кронштадтский «судья всевышний, всевидящий член святой троицы». Так ничего с дураком поделать и не могли… А все оттого, что книжками да портретами сильно раздули понятие в темном народе о святости этого священника, хитрющего и способного проповедника… Вот и все, – заключил Махровский.
Сытину вся эта «картина» была ясна и понятна. Он слушал и хмурился. Ведь и его товарищество повинно в раздувании «святости» Ивана Кронштадтского…
– Да, прав народный певец Некрасов, сказавший: «Рознь портрет портретику, что книга – книге рознь»… Даем мы это теперь понять крестьянину, но, видно, еще недостаточно… – только и мог ответить Сытин.
Из Солигалича по лесным проселочным дорогам, в тарантасе, на паре лошадей поехал Сытин в Галич.
В Галиче – в свое время переехав из Гнездникова – в земской управе работал его отец. Не был Иван Дмитриевич на похоронах отца и матери, но знал по рассказам младшего брата Сергея, по которую сторону церкви и за сколько шагов от нее похоронены родители – Дмитрий Герасимович и Ольга Александровна Сытины.
Спустя годы Сытин на Нижегородской ярмарке приобрел два отличных креста и отправил их с братом Сергеем в Галич. Кроме того, он выдал Сергею двадцать рублей и просил отдать эти деньги галичскому протоиерею, чтобы тот записал на поминовение усопших рабов божьих Димитрия и Ольгу… Теперь Иван Дмитриевич в первую очередь отправился на городское кладбище.
Долго бродил он по кладбищу, искал знакомые кресты, да так и не нашел. Спросил сторожа, не знает ли тот, где могилы Сытиных. Старик сторож показал:
– Вот тут были два деревянных креста, подгнили, свалились и ушли на дрова…
– Как подгнили? Как на дрова? Не может этого быть! – изумился Сытин. – Кресты были железные, а основания у них – черный мрамор.
– Нет, таких тут никогда не бывало. Вы, наверно, путаете, – сказал старик.
– Не я путаю, а меня опутали. Ай, Серега, Серега, плут, барабошка. Продал, наверно, тогда кресты и пропил… – И вместо прискорбных слов поминовения посыпались из уст Ивана Дмитриевича ругательства. Поругался и припомнил, что тогда с братом Сергеем из Нижнего Новгорода в Галич поехал книготорговец галичский Константин Иванович Палилов.
Разыскать единственного в Галиче книготорговца, продававшего сытинские издания, – дело нетрудное.
Иван Дмитриевич, прежде чем направиться к Палилову, решил повидаться с протоиереем и спросить его, ведется ли поминовение Димитрия и Ольги Сытиных.
Тот приветливо принял знаменитого издателя и сказал, что в точности он не помнит, надо сходить в церковь и проверить по синодику, где «по рублю с души» записаны поминаемые перед алтарем разные прихожане.
В сопровождении сторожа-ключаря пришли в церковь. Протоиерей вынес из алтаря переплетенную в малиновый бархат древнюю книгу и подал Сытину.
– Вот, смотрите, уважаемый Иван Дмитриевич.
Опытным взглядом издателя Сытин оценил по достоинству эту книгу и стал ее перелистывать. На серой старинной бумаге были отпечатаны кириллицей словеса душеспасительной повести о том, как грешная душа попала в ад к сатане и была из его сатанинских когтей вырвана ангелом благодаря тому, что имя этого человека записано на поминовение. Ради вящей убедительности старинная книга была снабжена страшными лубочными картинками, показывающими муки ада.
– Простите, отец благочинный, я таких «страстей» еще не видывал. Перепечатать бы эту вещь? – обратился к попу Сытин.
– Синод не позволит, – уверенно ответил протоиерей. – Для нашего времени сия книга слишком наивна… Она забавна, как памятник старины глубокой. А что касаемо поминовения, смотрите листы в конце книги за иллюстрациями.
Но Сытин не спешил обращаться к списку поминаемых. Очень интересны показались ему рисунки-гравюры безымянных художников. Тут были, изображения диковинной выдумки, как ангел-хранитель огненным мечом изгоняет черта из-под кровати грешника, как ангел извлекает из огня адова блудницу, ибо она была поминаема в церкви (за рубль!). И как благодаря поминовению ангел освободил солдата из персидского плена, и как мучаются в геенне огненной родители тех, кто из жадности не вписал их в книгу-помянник, и всё в красках, в картинах…
Сытин был изумлен. Книгу не хотелось выпускать из рук.
– Я за нее сто рублей не пожалел бы, – сказал он, восхищаясь стариной.
– Такая не продается, сие достояние храма, ей более двухсот лет. Видите, первыми записаны на поминовение патриархи Гермоген, Филарет и Никон, а из царей сам Петр Первый и его супруга Екатерина, дальше идут священники, а еще дальше усопшие прихожане. Ищите среди них и своих родителей, – посоветовал протоиерей и через плечо Сытина стал тоже просматривать список.
Нет, не оказалось ни Дмитрия, ни Ольги Сытиных, стало быть, брат Ивана Дмитриевича не побеспокоился о загробном благополучии своих родителей. Последним в списке значился: «Род деревни Кухтырихи крестьянин Василий Забалдин», и рядом, в другой графе, примечено: «Василья возом дров задавило насмерть…»
– А это зачем указано? – спросил протоиерея Сытин.
– Два тут Василья Забалдина. Родственники заплатили рубль и просили так написать, дабы господь-бог не перепутал и ведал, о ком идет поминовение.
Сытин усмехнулся, бережно закрыл книгу и, возвращая протоиерею, сказал:
– Спасибо. Я вижу, что мои родители не были вписаны. Вот вам двадцать пять целковых, запишите Димитрия и Ольгу на десять лет, а на остальные пять рублей ставьте пятачковые свечки перед иконой Димитрия Солунского.
– Будет исполнено, – ответил с готовностью протоиерей, принимая четвертной билет.
Сытин пошел в книжную лавку к Палилову выяснять, куда же девались посланные из Нижнего Новгорода два дорогих креста…
Надо к слову сказать, что собою представлял «почтеннейший» Палилов. Торговал он в Галиче не очень бойко, но крепко выпивал. В семье был извергом. Заподозрив дочь в каком-то прегрешении, выгнал ее из родительского дома. На людях он вел себя тихо, скромно, деловито. Ходил в заношенном сюртуке зиму и лето, садился робко на уголок стула даже в своем собственном доме. Очень любил деньгу, а она к нему шла неохотно. Велик ли в уездном городишке торг, да и хватки у Палилова недоставало.
Прогнав дочь, он взял в приказчицы деревенскую деваху Анюту и доверил ей стоять за прилавком. Доверил, но выручку от нее прятал, складывая пятерки, десятки и четвертные между страниц в дорогие по цене неходовые книги.
Придя в лавку, Иван Дмитриевич застал такую сцену: несколько покупателей разглядывали развешанные на стенах картины с желтолицыми японцами, падающими с горящего корабля в море. Другие рылись в житиях святых; третьи спрашивали, какую бы выбрать книгу постраншее «Громобоя», а сам Палилов душераздирающим голосом кричал на Анюту:
– Где «Робинзон»? Ты меня без ножа зарезала, где «Робинзон»? Говори, дура!..
– Да сейчас только продала псаломщику…
Палилов, не заметив и не узнав Сытина, перепрыгнул через прилавок, выскочил за дверь и чуть не за ворот притащил в лавку перепуганного псаломщика.
– Почтеннейший, помилуйте, надо проверить, цену надо проверить, дайте-ка сюда «Робинзона»…
Псаломщик, недоумевая, подал книгу в роскошном переплете. Дрожащими руками, Палилов стал перелистывать «Робинзона» и нашел десятирублевую красненькую бумажку.
– Спасибо, почтеннейший, берите обратно «Робинзона». А ты, ворона, растяпа, гляди, чем торгуешь!..
– А откуда же я знала, что вы так прячете деньги? – оправдывалась Анюта.
Иван Дмитриевич снял фуражку и, обращаясь к хозяину лавки, сказал:
– Мое почтение, «почтеннейший», здравствуйте, как поживаете? Как торг идет?..
– Ай, ай, Иван Дмитриевич, собственной персоной! Как я вас не приметил, простите. Какими судьбами занесло вас в родные края?..
– Езжу, «почтеннейший», скуку разгоняю.
– Анюта, торгуй, а мы с Иваном Дмитриевичем в трактир… Встреча-то какая!.. Ай, ай…
В трактире, конечно, водка и две больших копченых щуки. Галич славится щуками, там их в озере полным-полно. Выпили по рюмочке, и тут же Сытин решил припереть Палилова к стенке:
– «Почтеннейший», а где те два могильных памятника, которые, помните, я отправил из Нижнего и за доставку вам и братцу Сергею уплатил щедро?
– Ой, Иван Дмитриевич, все-то вы помните… Да где же им быть, на кладбище, конечно… Куда же крестам деваться… – Сказал это Палилов и покраснел до ушей.
– Врешь, «почтеннейший»! Говори правду!
– Простите грешную душу, Иван Дмитриевич, оба креста мы довезли до Костромы и там, по согласию с вашим братцем Сергеем Дмитриевичем, продали и денежки часть пропили, часть на пароходе в карты продули… Поехали мы тогда с ярмарки с шиком, а в Костроме остались с пшиком…
– Вот так бы и говорил… Допивай тут один, а я пошел. Та-акие памятники были! Ну, Палилов, сам сатана тебя будет палить на том свете!..
– И братца вашего тоже…
– Серега мерзавец, барабошка, в отличие от тебя он неопалимый, к сожалению. Его и пуля не берет; в пятом году в Серегу драгуны стреляли. Пуля прошила воротник, а шею не задела…
Сытин холодно расстался с «почтеннейшим», вышел из трактира, взял на станции из камеры хранения кожаный саквояж, купил билет первого класса на проходной сибирский поезд и – в Петербург…
Через сутки он был в Петербурге. Но отдых есть отдых. Сытин отвлекся от деловых хлопот и всякой сутолоки. Он даже не зашел ни в книжный магазин товарищества, ни в отделение «Русского слова», и даже ни одному из своих друзей по телефону не позвонил, а спрятался от всех в «Знаменской» гостинице и размышлял, где и как провести время в стороне от тревог.
Но не будешь же все время находиться в гостинице. Не высидел Иван Дмитриевич в «Знаменской», вышел на Невский и тут же попал в руки группы офицеров, работавших в редакции Военной энциклопедии.
Толковый редакционный аппарат из военных специалистов и энтузиастов выпустил первые два тома в отличном издании. Сытин и редакция, и весь комитет были уверены, что, выпуская Военную энциклопедию, они делают большое и благородное дело в интересах усиления боевой мощи армии. Как в редакции шли дела, Сытина мало тревожило. Он доверял надежным, образованным военным специалистам-патриотам и в эти дни не собирался в редакцию заходить. Но его заметили генерал Величко и военный юрист Владимир Александрович Апушкин, возглавлявшие редакционный аппарат энциклопедии.
– Как же так! Иван Дмитриевич, вы находитесь в столице и не заглядываете в свою редакцию! Просим к нам пожаловать.
Сытину было неудобно отказываться, ссылаясь на то, что он придумал себе поездку для отдыха. Кто поверит, какой же отдых в Петербурге?.. В тот же день в сопровождении двух генералов он обошел все отделы редакции – военно-морской, армейский, технический. Осмотрел, похвалил, а генералы завели его еще в кабинет главного редактора и занялись уговорами.
– Иван Дмитриевич, вы пошли нам навстречу, взяв на себя издание, так будьте великодушны, без перебоев, своевременно выплачивайте гонорар и не скупитесь на расходы по оформлению. Ведь дело-то какое!..
– Сдаюсь, господа, сдаюсь! – соглашался Сытин, – Но, ради бога, учтите, что я себя временно выключил от дел и взял отпуск.
– Так обещайте, Иван Дмитриевич, не обижать нас, – настаивали «энциклопедисты».
– Даю слово!..
От кого-то еще узнал о пребывании Сытина в гостинице бывший редактор газеты «Россия» Георгий Петрович Сазонов. Пришел к нему в номер, пожаловался на свои житейские огорчения, да попутно, совсем нечаянно, растравил и Сытина:
– Зря вы, Иван Дмитриевич, вбиваете деньги в Военную энциклопедию. Ухлопаете миллиончика два-три не за понюшку табаку. Ни царь, ни военное министерство не ощенят эту вашу благость.
– А разве я для того даю деньги, чтоб царю понравиться? Японец мне подсказал мысль и другие державы, где военная литература в чести, а у нас ее нет, – ответил Сытин Сазонову.
– Так-то оно так, но ваша Военная энциклопедия, может быть, и пригодится, но в самой минимальной степени. Военная наука и техника быстро шагают вперед, за новизной не угнаться. А констатировать устаревшее – мало пользы. А не лучше ли, Иван Дмитриевич, вашему товариществу часть оборотных средств обратить на другое: построить свою бумажную фабрику… Строить надо где-то на севере, предварительно выбрав лесную базу и даровую водную энергию, и чтоб судоходство было. В Карелии есть такие места. И еще мой вам совет, не обижайтесь только, – предупредил Сазонов, – я часто думаю о вашем деле, наверно потому, что своими делами не загружен. У ваших рабочих вновь возникали экономические требования. Как вы откликнулись?
– Уступил. Да кроме того организовал доступную столовую и библиотеку на Пятницкой.
– Мало, Иван Дмитриевич, мало! Подумайте-ка вот о чем, да разоритесь малость, купите на юге, в Крыму или на Кавказе, участок земли и устройте за счет ваших прибылей санаторий для рабочих. Вы же знаете, как тяжел и вреден для здоровья труд наборщиков. Какой толк от того, что вы иногда жертвуете на церкви? От своих грехов деньгами вам не откупиться.
– Да, не откупиться. И вообще, я подумываю, бросить бы все и уйти в монастырь…
– Престиж ваш повысится в глазах у рабочих, когда они почувствуют о себе хозяйскую заботу. А вы говорите – в монастырь. Лежебокам и тунеядцам в монастырях раздолье, а ведь вы-то себя знаете. И лучше не заикайтесь о монастыре. Смешно и даже неумно…
Сытин не обиделся. Он давно знал Сазонова как прямого и умного человека.
– Плохо вы отдыхаете, Иван Дмитриевич, – продолжал Сазонов. – Заглянули на родину на часок, и – в Питер. А вы бы, уж если за границей вам не отдых, – то сели бы на пароход да по северным рекам. Давайте-ка вместе съездим на Кивач!.. Посмотрим чудо нашей северной природы…
Договорились. Сказано – сделано.
На другой же день они на пароходе отчалили от Смольнинской пристани. По Неве и Ладожскому озеру вышли в Свирь. Сидели в каюте, в картишки дурачились, заказывали стерляжью уху – одним словом, ехали с ленцой и прохладцей, как подобает отдыхающим богатым людям. В селе Вознесение и в Вытегре палубу парохода заполнили пассажиры третьего класса. Карелы и вепсы ехали с заработков с Мариинского канала, пробирались на север в Кемь странствующие богомольцы. От Кеми близко Соловки, а где же еще ближе до господа-бога, как не от соловецких Зосимы и Савватия, основавших монастырь на самой вершине земли в моржово-тюленьем царстве…
В Петрозаводске Сытин и Сазонов высадились, а пароход пошел по тихому озеру дальше, в сторону Повенца. Осмотрели они за один день город, ночь провели в гостях у губернатора, близко знакомого Сазонову, на другой день, наняв тройку лошадей, помчались проторенной лесной дорогой на Кивач.
Стоял теплый грибной и ягодный август. Легко дышалось в сосновых лесах Карелии. Дорога ровная. Ехать было не тряско. И не слишком дальний путь – всего семьдесят верст… В такую ли даль путешествовали на Сахалин Чехов и Дорошевич!.. Кони хорошие, откормленные. Рессорный экипаж с кожаной складной кибиткой надежен в любую погоду и дорогу. Одним словом, ехать было приятно. Лихой, как водится, ямщик без картуза, в вышитой затасканной рубахе, сидел на передней беседке, управлял тройкой шутя, посвистывая, а иногда и голосил песни. Поддужный колоколен над коренным и два ошейника с бубенцами на пристяжных звонко аккомпанировали песне ямщика.
Кончив песню, веселый ямщик заводил разговор с седоками:
– А вам, господа, не надоели эти колокольчики? Нет? Нам без этого нельзя: здесь на Повенецком тракте иногда зверь шалит, медведь может пугнуть, волки тоже выбегают. А колокольчиков они боятся… Не хотите ли в Кончозерске кваску хлебного либо паренцы репной испробовать? Там станция, надо лошадок овсецом подкрепить.
Пока ямщик «подкреплял» лошадей, Сытин и Сазонов вышли на берег озера, заросшего высоким сосняком. В лесу пахло прелыми листьями, ягодами и грибами. Любовались они с возвышенности террасой голубых озер и лесистыми островами.
– Вот бы где курорт строить! Вся беда – лето здесь короткое, – говорил Сытин.
А Сазонов – человек более начитанный и образованный, вспомнил Державина и Глинку, как эти два поэта любили и воспевали здешний край. А Петр Первый в Карелии на лечебных водах даже санаторий основал…
Не доезжая до Кивача три-четыре версты, ямщик остановил тройку:
– Чу! Слышите шум? Это Кивач бушует.
Ямщик поправил сбрую и дальше ехал только шагом, не подгоняя, дабы слышать, как усиливается шум водопада.
Подъехали. Любознательные питерские туристы раскинули здесь палатки. Около двух костров толпились студенты и преподаватели. На таганцах висели прокопченные ведра, наполненные рыбой.
Сытин и Сазонов приблизились к ревущему водопаду.
– Какая красота! – прокричал Сазонов.
– Бо-га-ты-ри-ще!.. – по складам громко ответил Иван Дмитриевич.
С каменных скал с уступами отвесно падал огромный, нескончаемый поток, пенисто взмываясь вверх и рассыпаясь водяными искрами. Иногда течение реки приносило бревна, в расщелинах водопада они ломались, как спички между пальцев…
Долго в раздумье стоял Сытин, наблюдая за водопадом. И неспокойные мысли кружили ему голову: «Какая силища пропадает!.. А лесу крутом, сколько лесу! Да ведь это же бумага… Странно!.. Почему Печатник дремлет, не лезет сюда? Золото, золото всюду…»
Сазонов с упоением глядел на водопад. Припоминал державинские слова:
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рёв в лесу гремит…
– А ведь он такой же, каким его видел Державин. Но не век быть таким; придет время, человек возьмет тебя в упряжку и повезешь ты, Кивач, возложенный на тебя груз!..
Об этом же думал и Сытин: «Вода – энергия, лес – сырье, результат – бумага!..»
На обратном пути с Кивача к Петрозаводску Сытин признался Сазонову:
– Отдых отдыхом, а эта поездочка мне вклинится в мозги. Не зря, не напрасно вы прокатили меня сюда. Подумать о построении бумажной фабрики надо. Но Кивача я боюсь: силен, не обуздать, не осилить мне его. Да и кто позволит?..
Сазонов на это ему ответил:
– Я и не говорю вам о Киваче. Между Повенцом и Кемью порожистых рек найдется немало. Необжитых мест, нетронутых лесов – сколько угодно. Нужна только тщательная разведка, и тогда можно безошибочно планировать, где построить бумажную фабрику. Мне ли вас учить, Иван Дмитриевич?..
В гостях у губернатора они пробыли два дня, узнали, что есть проект о прокладке узкоколейной дороги от Волхова на Петрозаводск.
– Ну, если это сбудется, то вашему, Иван Дмитриевич, козырю в масть. Не тяните, я вам говорю.