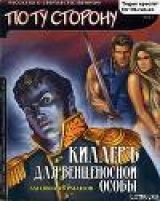
Текст книги "Киллеръ для венценосной особы"
Автор книги: Константин Дегтярев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Глава 15
– Боже мой! Что же вы такое задумали? Да из-за чего? Вы ведь не виноваты ни в чем…
Это восклицание принадлежало Ане, которая очнулась еще в середине рассказа и теперь сидела, закутанная в пальто Петра Ивановича, у столба. Руки у нее по-прежнему оставались скованными. И куда только закатился этот чертов ключик?
Охлобыстин тяжело вздохнул:
– Да как сказать… Это я сейчас почти уверен, что стрелял случайно; а тогда… Мистическое очень было настроение; все казалось, что дьявол мною завладел и я теперь простая игрушка в его руках, способная только сеять смерть и разрушение. Вроде бы добра всем желаю, а оно все злом выходит. Скажите, разве можно такому нескладному существу на свете жить? Вот и решил повеситься.
Однажды, разыскивая сбежавшую с корда кобылу, Иннокентий Андреевич нашел в лесу заброшенную избу – древнюю, покосившуюся, жутковатого вида. Кто знает, кто жил в ней сто или даже все двести лет тому назад? Может, раскольники скрывались от рекрутского набора, а может – разбойнички хранили тут свою бесчестную добычу да отсиживались от военных команд. Как бы то ни было, именно в это таинственное место потянуло Иннокентия Андреевича, чтобы свести счеты с жизнью. До такой невыносимой степени допело его самоуничижение, что не счел он возможным повеситься среди великолепия летней природы, между нежной зелени березок и сосенок.
– Вот так оно и случилось. Перебросил я через перекладину веревку, вдел голову в петлю, оттолкнул поленце, на котором стоял, да и повис…
Иван Петрович и Аня слушали, затаив дыхание. Охлобыстин, после некоторой паузы, продолжил задумчиво:
– Вишу я, стало быть, минуту, две… Потом час… А все, знаете ли, попусту – не умирается…
– Как это так, – поперхнулся чаем Петр Иванович, – не умирается? Такое разве бывает? И долго вы там провисели?
– Да с год. Даже побольше, пожалуй. Столько, знаете ли, всякого передумал за это время… Однажды люди заходили – испугались, убежали. А я все равно ни единым членом не мог пошевелить, только висел и размышлял.
Как-то раз, уже следующим летом, случилась гроза. С одним особенно сильным ударом грома веревка оборвалась: перегнила, должно быть. Иннокентий Андреевич кулем рухнул на пол и так и остался лежать, не имея возможности пошевелить даже пальцем. Однако с заходом солнца к нему вдруг вернулась гибкость в суставах. До утра он сидел на полу, не смея поверить своему счастью, сгибал и разгибал руки, ноги, но лишь только взошло солнце, как его вновь сковала недвижность. Так оно с той поры и повелось: ночью он мог передвигаться, и притом гораздо ловчее прежнего, а днем отлеживался. Была и другая причина: дневной свет невыносимо резал глаза и больно жег побледневшую до синеватого оттенка кожу.
– Так я и начал жить – по ночам. Днем прятался. Да и по ночам не слишком разгуливал, особенно с тех пор, как вдруг начал крови вожделеть.
– А как вы ее вожделеть начали? – этот вопрос робким голосом задала Аня. Петр Иванович, не упуская ни единого слова из рассказа Иннокентия Андреевича, поил ее чаем с ложечки.
– Да как-то… Сам не знаю как… Гулял однажды ночью, увидел нищую девочку и прямо-таки натурально представил, что кровь из нее выпиваю… Безумно, нестерпимо захотелось крови…
– И? – В Анином голосе слышались нотки этакого любознательного ужаса.
– Да полно, сударыня, за кого вы меня держите? Испугался и убежал. Я за все эти годы ни одной живой души не сгубил, как мне ни хотелось, вот только сегодня сорвался. Спасибо Петру Ивановичу, пресек.
Действительно, за все эти годы Охлобыстин так ни разу и не поддался снедавшей его страсти. Днем он все равно прятался в безлюдных местах, да и ночью старался держаться от людей подальше, несмотря на нестерпимое желание с кем-нибудь пообщаться, поговорить. Обычно он гулял ночи напролет в лесу или просто сидел в одиночестве на каком-нибудь чердаке, нестерпимо страдая от очередного приступа «вожделения». Он понимал, что бесконечно это продолжаться не может, что он не сумеет вечно противостоять безумной силе, влекущей его к смертоубийству: но все равно противостоял, не смея надеяться даже на смерть как на избавление. Однако испытание вечностью превосходит меру стойкости любого, даже самого сильного человека. Несколько дней назад грехопадение произошло, все моральные и нравственные барьеры рухнули, источенные беспощадным временем. Охлобыстин принялся готовиться к утолению своей страсти с маниакальной расчетливостью, накопленной без малого за двести лет. Но даже в тщательности, с которой производились эти приготовления, ясно проглядывала попытка как можно дольше отсрочить развязку. Иннокентий Андреевич поселился под крышей 14-го павильона, словно воробей под стрехой. С наступлением темноты он спускался вниз и поджидал случайную жертву; однако всякий раз находил случаи неподходящим. Вчера, во время одной из вылазок, он не успел спрятаться; в панике заполз в мешок для переноски трупов, перетащив находившийся в нем манекен под стойку. Там-то его Петр Иванович и увидел в первый раз, приняв сначала за настоящий труп, а потом – за манекен.
– Остальное вы знаете. Увидав Анну… – Иннокентий замешкался, ожидая узнать отчество, -… Даниловну в известном вам положении, мне уж совершенно стало невмоготу. В ней было столько крови: свежей, пьянящей, такая уж она была беззащитная, будто агнец, выставленный на заклание… Не сдержался я… Спасибо вам, Петр Иванович, спасли от греха.
Воцарилось тяжелое молчание. Петр Иванович, стараясь не смотреть на Охлобыстина, бродил по комнате в поисках треклятого ключа.
– А вы, Петр Иванович, не ключ от кандальцев ищете? Тут он, под диваном лежит. Я, знаете ли, всякие вещи мелкие примечаю, уж очень не люблю, когда непорядок. Совершенно не терплю, если разбросано. Особенно, знаете ли, когда много одинаковых штучек рассыпано, так и тянет собрать и в коробочку положить или в кулечек. А если что-нибудь одно лежит, особнячком, так я все равно обязательно примечу и запоминаю: такое вот свойство у меня образовалось, верно, от нелюдимого образа жизни. Раньше-то я совсем иной был, никакого порядку не знал, побросаю, бывало, все по лавкам – и ладно…
И он еще что-то долго рассказывал про свою любовь к порядку. За это время Петр Иванович не только успел стремглав броситься под диван и найти ключ, но также освободил Аню и даже помог ей одеться. Следовало поторопиться: неумолимая часовая стрелка уже приблизилась к цифре «4»; появления уборщиц следовало ожидать с минуты на минуту. И вообще пора было уже прекращать весь этот бардак. Охлобыстин теперь казался Петру Ивановичу совершенно безобидным – скорее, даже несчастным и безвинно пострадавшим. Странное дело: с одной стороны, Петр Иванович не поверил ни единому слову – ну как можно двести лет прожить и сохраниться таким свеженьким? С другой стороны, раздумывая, как поступить с Иннокентием Андреевичем, он почему-то основывался целиком на тронувшей его истории, как будто поверил в нее целиком и бесповоротно. А что касается возможного рецидива «вожделения», он решил: если двести лет терпел, значит, и еще двести потерпит. Тем более у него теперь и зубов-то нет.
– Ладно, Иннокентий Андреевич. Вижу, претерпели вы от жизни немало, не держу я на вас за Аню обиды, – вздохнул наконец Петр Иванович. – Давайте разойдемся мирно. Ань, отпустим Иннокентия?
Аня согласно кивнула.
– Спасибо вам обоим, – со слезами на глазах вымолвил Охлобыстин, – вовек вас не забуду. Только вы, Петр Иванович, не ходите через первый выход – там охрана. Через второй идите, там нет никого и не заперто. А через первый не ходите, хорошо?
И, сказав это, он зачем-то ухватил со стола злосчастные наручники и, бочком выскользнув через пролом в стене, моментально растворился в утреннем сумраке.
После ухода Охлобыстина Петр Иванович и Аня собирались молча, сосредоточенно, думая каждый о чем-то своем. Через полчаса им удалось привести свой разгромленный закуток в относительный порядок, даже дверь приладили на место. Наконец они созрели до способности обсудить печальную судьбу Иннокентия Андреевича. Переварить столь чудовищную историю им, людям с атеистическим образованием, оказалось совсем непросто.
– Слушай, Ань, ты поняла, о чем он там говорил? Ну, типа, что они царя хотели убить? Он что, большевик, получается? Или кто?
Анна Даниловна покачала головой:
– По-моему, нет… Мне кажется, это еще раньше было. По-моему, он декабрист. Точно, декабрист. Они все такие симпатичные были, с бакенбардами… Похожи на Иннокентия. Я фильм видела.
Петр Иванович задумался и почесал в затылке.
– Да, точно, он вроде что-то про декабрь говорил. Да только разве в это можно поверить? Не умиралось ему, видите ли, целый год… Да за такое время он бы с голодухи помер или голова бы оторвалась… Это ж какая нагрузка! Наплел он нам, в общем, с три короба…
– Петя, ну он же больной, разве не видно?
– Ну, больной, конечно… К доктору не ходи, за версту видно, что не все дома. Но зачем ты его тогда декабристом называешь?
Аня пожала плечами и ответила в строгом согласии с женской логикой:
– Ну, так похож ведь, и ты сам сказал, что все сходится… Декабрь, все такое… Да и лицо у него… Сейчас таких не бывает.
Потом подумала немножко и прибавила печально:
– Наверное, он сам в это верит. Начитался книжек, вот его и переклинило. Бедняжка…
Петр Иванович тяжело вздохнул:
– Ну, разве что так… Ладно, пошли.
Они вышли и направились к выходу, указанному Охлобыстиным. Однако, пройдя десяток шагов, Петр Иванович внезапно остановился, хлопнул себя по лбу, повернулся к Ане и прошептал:
– Слушай, Ань! А тебе ничего не кажется странным?
Анна Даниловна не была от природы склонна к насмешничеству и сарказму, но теперь не сдержалась:
– Да, милый, мне кое-что кажется странным. Я, знаешь ли, нечасто знакомлюсь с вампирами-декабристами при таких романтических обстоятельствах.
– Да нет же! – Петр Иванович в досаде махнул рукой. – Я не о том! Куда охрана делась? Ты прикинь – ты тут орала благим матом, я дверь ломал, Иннокентий на весь зал свои байки из склепа рассказывал – и хоть бы кто пришел поинтересоваться, что это тут за чудики такие обитают?!
– Может, они спят? – робко предположила Аня.
– Спят, говоришь? Ну-ну… Ты вспомни, что там Иннокентий про незапертый второй вход говорил? С чего бы это ему быть незапертым? Да тут одного пива литров пятьсот в фонтанах заночевало, а если пошерстить стенды, так можно потом всю жизнь не работать… Что-то тут не то, Анютка, беда какая-то случилась…
В этот момент за стеклянными перегородками послышался шорох.
– Это Иннокентий, – тревожно прошептала Аня. – Это он так ходит. Тихонько-тихонько… Я слышала пред тем, как он вошел в нашу комнату, ну, тогда…
Петр Иванович пожалел о «Дюрандале», оставленном в комнате под диваном. Впрочем, даже злонамеренный Иннокентий не казался ему таким уж опасным. За последние несколько часов он настолько уверился в своих силах, что отважился бы сразиться с целой дюжиной вампиров.
«Да что это я – вампир да вампир… Псих он обыкновенный…» – в сердцах обругал себя за легкомыслие Петр Иванович. Однако на душе все же оставалось тревожно.
Шорох повторился.
– Знаешь что, Аня? Пойдем-ка к главному выходу…
Не успел он договорить, как из-за перегородок донесся леденящий душу визг, в котором с большим трудом угадывался некогда приятный голос Иннокентия Андреевича:
– Не ходите туда! Там охрана!
– А мне по… барабану… – прерывающимся голосом пробормотал Петр Иванович и, схватив Аню за руку, потащил ее к главному выходу.
Охлобыстин издал еще один жуткий вопль, яростный и жалобный одновременно:
– Пожалуйста, не ходите! Умоляю вас, не ходите! Не надо туда ходить! Плохо будет! Плохо будет!
Петр Иванович, стиснув зубы, продолжал тащить за собой Аню. Охлобыстин, судя по всему, осторожно крался вслед за ними по параллельному коридору, чем-то шурша и клацая на ходу. При этом он периодически не то выл, не то скулил, ужасно действуя Петру Ивановичу на нервы. Переборка, разделявшая их, ни с того ни с сего начала тревожно трястись и звякать.
– Вот сука… – зло цедил Петр Иванович, – не может людей в покое оставить, козел… Надо было мне, дураку, сразу его ментам сдать, еще до припадка…
– Не ходиииите!!! – отчаянно взвизгнул Иннокентий Андреевич. – Там охрана!
– Заткнись, заткнись, урод! – едва не плача, чертыхался Петр Иванович. Визг Охлобыстина болезненно, словно тупым, ржавым ножом резал нервы. Аня шла еле-еле и, кажется, снова собиралась падать в обморок. Петр Иванович подхватил ее на руки и побежал. В соседнем коридоре тут же зашелестел легкий, торопливый бег, однако буквально через секунду раздался удар, грохот, послышался звук разбитого стекла, падения чего-то многочисленного и мелкого – и сразу вслед за этим торопливый, захлебывающийся голос зачастил «ща-ща-ща-ща».
«Ага, черепки собирает! – обрадовался Петр Иванович, вспомнив маниакальную привычку Иннокентия к аккуратности. – Теперь надолго отвяжется».
До выхода оставалось совсем недалеко, но тут утомленный Петр Иванович (все-таки Анька весила килограммов шестьдесят, не меньше) поскользнулся на чем-то мокром и упал. Стараясь защитить свою драгоценную ношу от повреждений, он повернулся в полете и приземлился на спину, приняв Анькин вес на грудь и больно ударившись поясницей обо что-то твердое. На поверку это нечто оказалось автоматом «АКСУ». Труп его владельца, омоновца с погонами младшего сержанта, лежал неподалеку. Оглядевшись, Петр Иванович обнаружил еще одно тело, с погонами старшины. У обоих были одинаково удивленные лица и разорванные глотки. Немного придя в себя от изумления, Петр Иванович с досадой стукнул себя по колену и состроил такое выражение лица, какое бывает, если высадить по ошибке стопку спирта вместо водки.
– Да уж, недооценили мы Иннокентия, правда, Анюта? А с виду такой милый молодой человек…
Аня с растрепанными волосами и потерянным взглядом сидела на корточках между старшиной и сержантом, отрицательно качала головой и повторяла как заведенная: «Зачем он, ну зачем?» Между тем в соседнем коридоре, метрах в двадцати от них, слышались зловещая возня и торопливое, лезущее из шкуры вон «ща-ща-ща».
– Ща-ща я тебе устрою, засранец, – злобно сказал Петр Иванович, грубо вырвал «АКСУ» из мертвых рук сержанта и дернул затвор. Из-под кожуха вылетел патрон.
«Ничего себе… Патрон в патроннике. С предохранителя снят. Нажал – и стреляй. Что же вы, ребята, так лопухнулись-то? Мочить надо было гада, не спрашивая документов…»
В голову полезла тревожная ерунда насчет серебряных пуль и прочего мракобесия. Бред все это… Серебряные, не серебряные, если весь магазин высадить – мало не покажется. Тридцать пуль в корпус – ни одной косточки целой не останется. «Да я его кулаком едва не угробил, а тут – серьезное оружие», – решил Петр Иванович и, не колеблясь, пошел на звук возни. По пути он увидел еще два трупа и только покачал головой – ну, вообще…
Охлобыстин ползал на коленках вокруг поваленного шкафа и собирал какие-то микросхемы, высыпавшиеся на пол в огромном количестве. Увидев грозную фигуру с автоматом, он, не прерывая своего занятия и не поднимая головы, поспешно заговорил:
– Вы, Петр Иванович, не обижайтесь, что не могу вам уделить внимания, – покуда эти штучки не соберу, не смогу отвлечься. Очень уж порядок люблю. Вы, наверное, застрелить меня желаете?
Петр Иванович многократно смотрел американские боевики и очень хорошо знал, чем оборачивается дурная привычка не стрелять сразу, а разговоры разговаривать. И все не впрок: поддался желанию поговорить с Иннокентием Андреевичем «за жизнь» – очень уж жалко и беззащитно он выглядел сейчас, собирая эти дурацкие штуковины.
– Это ты омоновцев убил? – спросил он строго, прокурорским тоном.
– Я, Петр Иванович, конечно, я, кто же еще… Так вот получилось…
– Зачем?
– Как – зачем? Я же говорю – вожделею. Я, когда в таком состоянии, совершенно сам не свой становлюсь. Только вы поверьте – я все это время крепился, сегодня только сорвался. А вы стреляйте, будьте так любезны. Это вы очень правильно решили. Только не знаю – убьете ли. Но отчего же не попробовать? Даст Бог, кончатся мои мучения…
За время разговора Охлобыстин успел собрать все микросхемы, поднялся на ноги, выпрямился и с некоторым родом любопытства смотрел на Петра Ивановича.
– Ну что, будете стрелять? – спросил он с неподдельным интересом в голосе. Судя по всему, ответ живо интересовал его; он даже сглотнул от волнения.
Петр Иванович думал минуты две; все это время его палец, лежащий на спусковом крючке, сводило нетерпеливой судорогой, он немел, холодел и потел одновременно.
– Нет, не буду… Ментам тебя сдам. Эта фраза далась ему нелегко; безумно хотелось нажать на курок и не отпускать, покуда не вылетит последняя гильза. Охлобыстин разочарованно вздохнул:
– Как скажете. Воля ваша. Значит, милиции сдадите? Просьбу можно последнюю? Можно мешочек мой попросить, в котором вы меня в первый раз увидали?
– Так это ты был все-таки?
– Ага, я.
– Да уж, знал бы дизайнер, какой у него экспонат… Небось крыша бы съехала от такого креатива.
Иннокентий Андреевич, не знавший слова «креатив», улыбнулся из вежливости:
– Позволите мне за мешочком сходить? Или сами?
Петр Иванович посмотрел куда-то вдаль, помолчал и ответил:
– Сходи, конечно.
Глупо было доверять Охлобыстину после всего случившегося, но как властелин и диктатор 14-го павильона Петр Иванович счел себя обязанным проявить великодушие.
Иннокентий вернулся минуту спустя. Он нес в руке наручники и тащил за собой унифицированный мешок для переноски трупов.
– Это я от солнца, мало ли когда найдут, – пояснил он, указывая на мешок.
– Зачем наручники-то? – недовольно спросил Петр Иванович. – Что за детский сад; в полицейских и бандитов решил поиграть? Посиди спокойно, пока смена придет, и все дела. Надо будет – наденут на тебя все, что положено, не бойся.
– Да я так, из опасения, вдруг передумаю? – смущенно ответил Иннокентий Андреевич. – Не так-то просто решиться. Уж не обессудьте, пристегните кандальцами. А сами идите, к чему вам хлопоты лишние? Я как-нибудь дело улажу, навру что-нибудь. Вас никто и не заподозрит.
Случись такое раньше, Петр Иванович, может, и ушел бы; однако за нынешнюю ночь он обрел властительную повадку, словно получил свыше право судить и вершить справедливость. Охлобыстин совершил преступление и подлежал правосудию, однако и он, Петр Иванович, являлся ценным свидетелем, обязанным высказать свое мнение. Он должен убедить суд, что речь идет о больном, сумасшедшем человеке, потребовать, чтобы его не мучили ярким светом и не рассыпали перед ним канцелярские скрепки. С наступлением утра он складывал с себя полномочия диктатора и деспота 14-го павильона, но не желал покинуть свой царственный трон тайком, украдкой, словно какой-нибудь Керенский.
– Ань, давай подождем ментов, – то ли вопросительно, то ли утвердительно произнес Петр Иванович.
Анна Даниловна ничего не ответила, только кивнула и крепко-крепко прижалась к его плечу.
Глава 16
Оканчивая рассказ, следует непременно рассказать о дальнейшей судьбе его героев.
Охлобыстин, не запираясь, признал свою вину во всех четырех убийствах, представив дело таким образом, будто Петр Иванович его изловил и пресек дальнейшее кровопролитие. За этот подвиг Петру Ивановичу объявили благодарность от милицейского начальства и наградили волшебными именными часами. Стоило посмотреть на такие часы в присутствии гаишника – и тот немедленно брал под козырек, оставляя без последствий любой проступок по части правил движения.
Суд признал Иннокентия Андреевича сумасшедшим и невменяемым и, согласно закону, отправил на принудительное излечение в психиатрическую лечебницу. К некоторой досаде врачей, лечение пошло на удивление успешно: больной вскоре избавился от светобоязни, перестал бояться рассыпанных предметов и даже с удовольствием начал поедать чеснок, которого ранее на дух не выносил. На следующем этапе удалось побороть припадки, возникавшие при виде крови. Поначалу пациент исступленно бросался на лабораторные пробирки с анализами, но через полгода уже относился к виду крови спокойно и даже с некоторой брезгливостью. Еще через полтора года врачам пришлось нехотя констатировать, что Иннокентий Андреевич полностью выздоровел и может быть выпущен из больницы; однако из политических соображений его удержали. Главному врачу пришла счастливая мысль, оставив Охлобыстина на положении пациента, совершенно прекратить процедуры и поручить ему обязанности медбрата, за что он даже стал получать небольшую сумму денег. Со своими обязанностями Иннокентий Андреевич справлялся великолепно, особенно когда следовало утихомирить буйных. У него развился удивительный взгляд – кроткий, успокаивающий. Одного только этого взгляда хватало, чтобы усмирить самого «тяжелого» из буянов. Через некоторое время его перевели на облегченный режим содержания, позволили свободно перемещаться по территории лечебницы; но за пределы территории, конечно, выходить не разрешали. Ссориться с милицией главврач не собирался и в задушевной беседе с Иннокентием Андреевичем как-то раз открыл ему дальнейшую перспективу жизни: остаться навечно при больнице на положении пациента-медбрата при самом доброжелательном и мягком к нему отношении. Даже пообещал выделить отдельную комнатку, что и было вскоре сделано. Охлобыстин горячо благодарил и клятвенно уверял, что по его грехам это самое мягчайшее наказание.
Когда Петр Андреевич и Анна Даниловна (они поженились и даже успели завести дочку) посетили Охлобыстина в последний раз, перед ними предстал красивый, статный брюнет лет двадцати семи с румянцем во всю щеку: как раз таких и брали в конногвардейцы в царствование Александра Павловича. Он уверял, будто всем полностью доволен, и постоянно смущал Петра Ивановича эпитетами вроде «отец родной» и «благодетель вы мой».
Тем не менее через неделю после этого посещения Иннокентий Андреевич сбежал, оставив прощальное письмо, в котором на восьми страницах благодарил персонал лечебницы поименно. Оправдывая свой поступок, он молил простить его за неблагодарность и уверял, что ему «однако же, хочется человеком пожить: не чудовищем, не больным, но человеком будничным». С тех пор о нем не поступало никаких известий, несмотря на объявление всероссийского розыска.
Только через год Петр Иванович получил весточку заказным письмом. Почтальонша, прежде чем выдать письмо, сделала Петру Ивановичу выговор за безграмотность отправителя. Действительно, все надписи на конверте хотя и были сделаны каллиграфическим почерком с завитками, но в дореформенной орфографии, со всеми положенными ятями, ижицами и фитами.
– От чурки какого-то письмо, что ли? – в сердцах спросила почтальонша. – Чего это он мягкие знаки после каждого слова лепит?
– Типа того, от чурки, – ответил Петр Иванович, с замирающим от радости сердцем расписываясь в ведомости.
– Это не мягкие, а твердые знаки, – поправила из-за его спины Анна Даниловна. – Так раньше писали. По телевизору об этом говорили. На канале «Культура», между прочим.
Почтальонша буркнула что-то неодобрительное в адрес культуры и отправилась разносить почту дальше, а взволнованные супруги, буквально растерзав конверт, обнаружили в нем письмо следующего (за выпуском ятей и ижиц) содержания:
«Здравствуйте, любезный друг и благодетель Петр Иванович и милейшая Анна Даниловна!
Как я уверился в своем выздоровлении, тут же решил избавить любезных моих докторов от тягостного обо мне попечения, о чем и отписал им в записке. Удалился я в Сибирь, в леса, где теперь проживаю неподалеку от деревни Никольской, что на берегу Тобола. Житие у меня самое удобное: ручеек рядом, еще и колодец. Я себе избушку срубил, печку сложил, огородик есть, да из деревни добрые люди еду приносят; очень даже удобно живу. Посмеетесь, верно, над грешником, но в округе пошла обо мне молва, будто я благой отшельник. Начали ко мне люди за советом приходить, детей крестить приносили, так я их гнал, зная грехи мои. Только после одного случая гнать перестал, теперь уже и советую, и детей крещу.
Случай такой. Возвращаюсь я однажды с огорода, а меня у дверей поджидает человек в светлых одеждах. Я его по привычке гнать собрался, думал, опять кто-то пришел душу мою мучить, Божьим человеком называть, но на сей раз ошибся. Поднял пришелец руку свою, да велел мне замолкнуть: и от того приказа у меня язык к гортани прилип, слова не мог вымолвить. Ибо не человек то был, но Ангел Господний, присланный объясниться за мою непутевую жизнь. Вошел я с ним в горницу, душою трепеща, ожидая суда и расправы за многия мои грехи; однако и с радостию тоже. Наконец-то, думаю, окончание наступает. Столько ждал!
И что же Вы думаете? Лишь только в горницу вошли, Ангел тут же переменил суровый лик на кроткий и смиренно начал испрашивать у меня прощения. Я, конечно, пожелал объясниться, и вот что узнал.
Никому не секрет, что наш мир полон зла и несовершенств. За содеянное зло людям положено держать ответ перед Господом; однако столь много на свете людей, что за всяким Господу не усмотреть. На то существует сонм Ангельский; они и наблюдают. Ранее по одному Ангелу приходилось на каждого человека, но с некоторой поры люди размножились, а Ангелов сколь было изначально, столько и осталось. Оттого и безверие пошло, что надзора должного не стало.
За таким недоглядом произошла со мной неслыханная история, – ошибся мой Ангел, будучи отягощен многими делами. Очень уж случай оказался непростой. По всей наружности показалось ему, будто я и впрямь замыслил цареубийство, а потом, еще того хуже, пытался небесных своих наставников обмануть притворным раскаянием, вознося лживые молитвы. Всякий раз, когда я на государя императора «покушался», он за мной следил и в последний (как он полагал) момент заставил меня произвести неверный выстрел, а заодно и Рогова наказал. Уж я его и так, и сяк спрашивал: «Как же Вы в мысли мои не проникли; я же совсем иное мыслил!» А он (Ангел мой) только хмурился и плечами пожимал, мол, поленился, судил по одной только наружности поступков.
И вот решил мой Ангел еще при жизни меня проучить, дабы я, не совершивши задуманного преступления, все же не сумел уйти от расплаты, поплатился бы за задуманное. Захотел он, чтобы я если не того, так иного греха своего ужаснулся и, раскаявшись непритворно, предстал на суд Божий. Так рассудил: коли я задумал душегубство – так пускай и совершу, да еще и самое грязное, какого только мой мнимый замысел был достоин.
А я, оказывается, все поперек его замысла совершал. Гнилая веревка у меня в лавке на крюке висела; я же, глупец, новую купил и оттого провисел в петле год с лишним, вместо трех положенных дней. Далее следовало мне неделю побыть кровопийцей, а потом загрызть девочку-нищенку. Еще неделю мне положили совестью мучиться, признаться в мнимых грехах моих (будто истинных грехов недостаточно!), а затем меня крестьяне косами бы забили и тем самым отправили бы ответ держать перед Господом. Когда бы так случилось, все сразу же и сошлось бы, ибо только Ангелы ошибаться способны, а сам Господь – никогда. Судит-то он! Но я «греха» не признал, и, видит Бог, не было его за мной – за то и мучился две сотни лет без малого.
Наконец Ангелу моему указали свыше на неисправность: нету такого закона, чтобы даже самого лютого грешника двести лет терзать; повелели покончить. Солдатики эти, которых я убил, оказывается, под смертью уже ходили. Через полгода новая война в Чечне начнется, им суждено было заживо сгореть в военной машине. Вот Ангел и рассудил – пускай лучше с пользой, мне в укор погибнут, нежели так, нехристям на радость. А потом так все подстроил, чтобы Вы мне голову мечом срубили. Да только опять что-то не заладилось у Ангела моего, и в Вас он тоже ошибся! Вроде все как надо подстроил, а Вы по-иному решили, по собственному разумению.
Из-за Вас все провалилось и получило огласку, сам Господь наш всемилостивейший взор обратил на мое дело и тут же понял ошибку. Ангелу строго-настрого приказали явиться и покаяться, а мне за стойкость даровали благодать. И теперь я могу, стало быть, и людям советовать, и детей крестить; даже обязан. Решено, что, раз уж так вышло, пускай я доживу до старости и своей смертью умру. Они не торопят. Ангела я простил, от всей души. Ошибиться всякому возможно, по себе знаю.
Да, вот еще, самое главное! Коль скоро он и перед Вами виноват, Ангел мой просил привет передать – и Вам, и Анне Даниловне, и детишкам Вашим благословение. Сказал, что у Анны Даниловны скоро мальчик родится, Сереженька, так вот – будет здоровеньким и счастливым, равно как и прочие детки. Он обещает.
За сим прощаюсь, Вечно Вам Благодарный
Иннокентий Охлобыстин».
Повертев конверт в руках Петр Иванович обнаружил почтовый штемпель, поставленный за неделю до рождения сына. Да, собственно, они и не назвали его еще; все спорили – Петр Иванович хотел Сережей назвать, а Анна Даниловна – Данилой, в честь отца.
– Ну что, мать, кажется, теперь ясно, как назовем?
Анна Даниловна посмотрела на мужа изумленно и ответила:
– Да, Петечка. Теперь-то уж точно – Сережей. Хорошее имя, ласковое.
– Узнаю Иннокентия… Это ж надо такое ляпнуть – через полгода война в Чечне начнется… Да наши импотенты там, наверху, скорее всех своих голодом переморят, чем этим обезьянам с автоматами по шее надают… А хотя… Про Сережку-то он угадал? Или нет?
– Мне кажется, угадал…
– Ладно, мать. Ты вот что – про письмо помалкивай, ладно? Все-таки Иннокентий в розыске. А тут обратный адрес проставлен. И штемпель почтовый. Вот дурак, а? Ну что ты с ним будешь делать? Сам на рожон лезет…
Если бы Петр Иванович был американским мормоном, он непременно снес бы это письмо к нотариусу, чтобы засвидетельствовать факт божественного чуда. Но будучи человеком русским и отчасти даже советским, он подумал прежде всего о всероссийском розыске опасного маньяка Охлобыстина и о человеческой судьбе, в которой неожиданно для себя принял участие. Потому он без малейшего колебания щелкнул зажигалкой.
Так было утеряно единственное в своем роде доказательство существования Бога.








