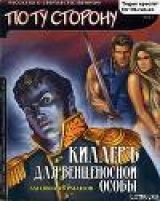
Текст книги "Киллеръ для венценосной особы"
Автор книги: Константин Дегтярев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Глава 9
Немного поплутав в темноте, Петру Ивановичу вскоре удалось-таки отыскать стенд с мечами и доспехами. В этом углу зала ночное освещение оказалось особенно тусклым; силуэты мечей, алебард и шлемов мрачно чернели на фоне белой стены. Из-за недостатка света Петр Иванович принялся перебирать их буквально на ощупь, подбирая подходящий по руке. Наконец, нашелся подходящий экземпляр – с удобной рукояткой, прекрасно сбалансированный, пригодный и под одну, и под две руки. Для тренировки Петр Иванович махнул им пару раз, да так удачно, что не разбил ни единой витринки, что в его беспорядочном состоянии и при столь скудном освещении следует счесть изрядным достижением. Петр Иванович давно замечал за собой счастливую особенность: когда он напивался, координация движений отключалась у него в предпоследнюю очередь (последней отказывала половая функция).
Завладев мечом, Петр Иванович двинулся обратно и, конечно, совершил ту же ошибку, что и днем, то есть снова свернул в перегороженный ленточкой тупик. Едва увидев знакомую ленту и чернеющий мешок, он тут же понял свою оплошность, хлопнул себя по лбу и собрался уже было возвращаться знакомым путем, как вдруг его внимание привлекло одно малозаметное на первый взгляд отличие нынешней экспозиции от дневной.
Лужа пластиковой крови не изменила ни своей формы, ни размера, только казалась теперь абсолютно черной. Липовый пистолет «макарыч» все так же поблескивал в сторонке, и чемоданчик для переноски денег по-прежнему тоскливо разевал свою пасть, оплакивающую украденный лимон баксов.
Но вот мешок оказался пустым. В спине Петра Ивановича ни с того ни с сего зародился какой-то неприятный холодок. Он уткнул меч в пластиковую лужу и склонился над экспонатом. Днем в мешке точно была кукла; превосходно сделанный муляж высокого мужчины с длинными черными волосами. Манекен лежал лицом вниз, уткнувшись в пластиковую кровь, поджав под себя руки: очень натурально. «Наверное, стоит дорого, вот и спрятали на ночь», – решил было про себя Петр Иванович. Потом вспомнилось еще одно успокоительное обстоятельство – обещание дизайнера поменять манекен на другой, с короткими волосами.
«Вот оно что, – с облегчением решил Петр Иванович, – старый убрали, а новый еще не нашли. Потому и нету манекена».
Но мурашки все равно не успокаивались, носились по спине, как завзятые спринтеры и стайеры. Прямо-таки чемпионат мурашек. Так иногда бывает, стоит разок испугаться, поддаться мысли о своей незащищенности – и все, пиши пропало. С этой секунды каждое дерево будет казаться злоумышленником, каждый куст – злобным зверем, каждый звук – признаком таинственной, крадущейся по твоим следам опасности. Если до сего момента Петру Ивановичу хватало для защиты от всех напастей одних коньячных паров, то теперь ни бронежилет, ни каска, ни копаный меч с гордым названием «Дюрандаль» не давали ощущения гарантированной безопасности; а когда шаловливый сквознячок коснулся внезапно вспотевших ягодиц Петра Ивановича, он и вовсе вздрогнул и засмущался. Ему показалось, что духи вчерашних посетителей все еще бродят вокруг, смеются над ним и показывают пальцами: «Смотрите на голого придурка с мечом и в бронежилете!»
От огорчения Петр Иванович еще сильнее стиснул меч двумя руками; левая рука ухватилась за металлическии шарик в конце рукояти. Рассмотрев свое оружие вблизи, Петр Иванович понял, что держит «Дюрандаль» – и тут его охватила паника. Мурашки взбесились, задница начинала отчаянно мерзнуть.
«Как будто кто-то нарочно подстроил, – стучало в мозгу истерическим рефреном. – Что будет-то? К чему все это?»
Сегодняшние забавные события начали выстраиваться в достаточно четкую пугающую последовательность. Днем его как бы знакомили со сценой – для того, должно быть, чтобы сейчас началось представление. Он показался себе актером, не знающим роли, участником смертельно опасного спектакля, которому среди огромной груды бутафорского хлама выбрали зачем-то настоящее смертоносное оружие и оставили стоять посреди сцены в ожидании заведомо страшного врага.
Петр Иванович сглотнул слюну и прислонился спиной к витрине, пытаясь высмотреть перед собой неведомую опасность. Вдруг он вспомнил про Аню, оставленную совершенно беззащитной в их комнатенке, и задрожал крупной, неистовой дрожью от внезапной догадки, которую даже не столько продумал, сколько почувствовал; думать уже не оставалось времени, поскольку относительную тишину ночной выставки в этот момент разорвал жуткий, пронзительный вопль.
Вопила определенно Анька; она заходилась неистовым криком лани, почуявшей на шее неумолимую тигриную лапу. Этот крик одновременно звал на помощь и предупреждал об опасности, но вторую часть информационного посыла Петр Иванович не раздумывая пропустил мимо ушей. Напротив, он почувствовал свирепую, неукротимую радость от мысли, что неизвестно-страшное, которое так пугало его секунду назад, вот-вот станет известно-страшным – и что он полностью вооружен и готов сразиться с этим… чем бы оно ни было.
Петр Иванович яростно стиснул рукоять меча и рванулся к стенду номер 214 с одной-единственной мыслью в голове: успеть, убить, уничтожить внезапного врага, покусившегося вдруг разом на все неожиданные приобретения этой ночи. Быть может, при каких-то иных обстоятельствах он и поколебался бы секунду-другую, быть может, он бежал бы помедленнее или даже просто пошел бы. Но на помощь звала женщина, которая вот уже несколько часов была его собственностью. Кто-то напал на его владение, покусился на его единоличную власть; кто-то нагло ставил под сомнение его, и только его, право видеть Аньку голой и беззащитной.
Будь крик каким-нибудь менее искренним, а настроение Петра Ивановича – менее экзальтированным, он, скорее всего, повел бы себя иначе. Чего проще сообразить, что это менты их застукали, обнаружили Аньку в этаком своеобразном виде, вот она и завизжала по-бабьи. Тогда Петр Иванович мигом сложил бы с себя доспехи, закинул бы меч обратно в витрину, наведался бы на экспозицию с термобельем и предстал бы перед правосудием с видом глубоко смущенного, но все-таки хотя бы слегка одетого человека.
Но Анька орала не по-бабьи, без дураков, от всей души, и Петр Иванович почему-то уверился, что ему не зря попался настоящий, копаный, «Дюрандаль» среди всего разложенного в витринах хлама. И потому он понесся по коридору как был, во всей своей половинчатой амуниции, размахивая мечом и пылая справедливым гневом, с сердцем, исполненным крепости и спокойной, уверенной жаждой крови. Пожалуй, сбоку и сзади он смотрелся несколько даже смешно – этаким апофеозом войны, помесью разъяренного самца гориллы, спецназовца и средневекового рыцаря; но всякий, кто видел бы его анфас, грозно несущимся навстречу, несомненно испытал бы трепет и желание посторониться. Увы, его никто не видел, а жаль – столь душераздирающее зрелище смогло бы составить бюджет добротному блокбастеру.
Следует пояснить некоторые детали того, что произошло позднее: ведь именно из деталей складывается объективная картина событий. Дверь в стенд номер 214 открывалась наружу, как и положено; но кинетическая энергия, набранная счастливым обладателем «Дюрандаля», оказалась слишком велика, чтобы сначала тормозить, а потом аккуратно тянуть на себя дверную ручку. Поэтому даже мысли такой не возникло, чтобы дверь открывалась не вовнутрь. Но практически имел место как раз второй случай – и дверь даже выдержала бы, пожалуй, удар разогнанных до тридцати километров в час девяноста килограммов живого веса, отягощенных бронежилетом с керамическими пластинами. Это все-таки была крепкая дверь в алюминиевой раме. Но асбестоцементная плита, в которую она была вмонтирована, увы, не обладала соответственной прочностью. В результате дверная рама влетела в помещение вместе с изрядным куском стены, а вслед за нею, блистая «Дюрандалем» и матерясь, влетел и сам Петр Иванович. Вся конструкция закутка от удара выскочила из гнезд, пробуравленных в бетонном полу, и немного повернулась вокруг оси, которую как раз и составлял стальной столб с прикованной к нему Аней. На соседней экспозиции рухнул, печально звеня стеклами, шкаф. Затем наступила секунда тишины, медленно посыпаемая асбестовой пылью.
Еще в полете Петр Иванович сумел ухватить краем глаза возмутительную картину: голую Аньку, прикованную к столбу, лапал какой-то патлатый мужик, весь в черном. Скользя по полу верхом на выбитой двери, Петр Иванович успел удивиться: а где удав? Дело в том, что на бегу в его голове сложилось простое и даже в чем-то успокоительное объяснение Анькиного крика. Чего проще: не додушил удава, дверь не запер на ключ, зверь оклемался и выполз из своего вольера. 214-й сектор находился совсем недалеко, да к тому же из двери пробивалась тоненькая полоска света, вот он и заполз. Обращаться со змеями Петр Иванович уже научился и не испытывал ни малейшего сомнения в своей повторной победе. Пока бежал, Петр Иванович раз десять мысленно отрубил удаву его маленькую хищную головку, так что, если бы в комнатке действительно оказалась многострадальная рептилия, у нее попросту не осталось бы шансов. Но на Аню покушался вовсе не змей, а тот самый мужик из мешка: Петр Иванович его сразу же узнал по длинным черным волосам и костюму того же цвета. Брюнет оказался столь не к месту, что, доехав наконец на двери до противоположной стены и остановившись, Петр Иванович не сразу сообразил, что следует предпринимать дальше. Некоторое время он сидел молча, крепко сжимая меч обеими руками и негодуя по поводу неприличной сцены.
Между тем наглый тип из мешка оторвался от не перестававшей визжать Андромеды и мягко, но очень быстро повернулся к запыхавшемуся Персею, все еще втайне надеявшемуся на змея. Прежде чем Петр Иванович успел изготовиться как следует, брюнет молнией бросился на него, целя точно в горло.
Пришлось импровизировать: отпущенный на свободу бойцовский инстинкт сработал идеально. Следуя какому-то наитию, Петр Иванович в самый момент нападения зачем-то отбросил «Дюрандаль» в сторону и встретил противника мощнейшим ударом кулака; таким страшным ударом, какой только единый раз в жизни употребил против живого человека, – это когда в армии «двинул в душу» одного сильно борзого армяша, разводившего в роте отмороженное землячество. Но сейчас он двинул не армяша весом в центнер, а довольно хилого, хотя и высокого, мужика из мешка, и не в душу, а точнехонько в верхнюю челюсть, да еще и на встречном курсе его собственного стремительного движения. Раздался хруст, как будто кто-то нечаянно наступил на елочную игрушку. «Убил на хрен», – обреченно подумал Петр Иванович, спинным мозгом ощущая грядущие последствия.
Все замерло. Брюнет отлетел к противоположной стене, рухнул на пол и затих, разметав патлы. Через секунду раздался мягкий шлепок: это Аня сползла по столбу и завалилась набок, насколько позволяли скованные за столбом руки. Обморок. Петр Иванович тоже пребывал в ступоре, хотя и не падал: ноги дрожали от возбуждения, в горле пересохло. Все что ему сейчас хотелось – это найти трусы, без них он чувствовал себя ужасно неуютно. Сначала трусы – потом все остальное. Трусы! Полцарства за трусы!
Наконец искомый предмет туалета сокрыл наготу; далее и брюки, слегка запорошенные асбестом, вновь оказались при своих прямых обязанностях. Одевшись, Петр Иванович испытал огромное облегчение; но тут события вновь замелькали в каком-то исступленном ритме. Мужик из мешка, оказывается, вовсе не помер. Полежав несколько времени у стеночки, он вдруг бодро вскочил на четвереньки и, не вставая выше, принялся хлопотливо носиться на коленках вокруг остолбеневшего Петра Ивановича, будто что-то разыскивая. При этом он постоянно приговаривал слово «сейчас», так что получалось что-то вроде шипения: «щас-щас-щас» или даже «ща-ща-ща». Собранное он тут же раскладывал на диване. Через две минуты там уже высились: кучка скрепок, рассыпанных со стола во время драки, оба искомых носка и еще одна кучка – зубов. Что-что, а зубы у него повылетали едва ли не все, во всяком случае – передние. Пересчитать их Петр Иванович не успел, поскольку брюнет быстренько ссыпал зубы в ловко свернутый кулечек, а скрепки – в коробочку, после чего забился в угол и засел в нем, обняв руками колени и голову, изредка подрагивая и как-то странно, размеренно раскачиваясь вперед-назад. Вновь воцарилась тишина.
– Эй, ты это… Псих, что ли? – обрадованный внезапной догадкой, спросил через некоторое время Петр Иванович.
Мужик из мешка молчал. Тогда Петр Иванович решился на эксперимент. Он взял со стола закрытую коробочку с кнопками, не пострадавшую во время драки, и демонстративно высыпал ее на пол. Дальше ужас что произошло. Брюнет вдруг зарыдал, принялся ломать руки и с надрывом вопить: «Зачем, зачем вы так! За что! Зачем!» Однако тут же, не прекращая рыданий, в считанные секунды собрал все кнопки и умоляюще протянул руку за коробочкой. Коробочку ему, конечно, дали, лишь бы успокоился. «Псих однозначно, – подумал Петр Иванович, – ну и ночка!» Надо было со всем этим что-то делать, но что – непонятно. Хоть говорить умеет, и то хорошо.
– А тебя звать-то как? – спросил, наконец, Петр Иванович, не особенно надеясь на ответ.
Псих на этот раз оживился, поглядел на Петра Ивановича с надеждой и интересом. Затем задумался, как будто что-то вспоминал. И снова замер. Но через минуту все-таки вдруг ответил – и как ответил! На удивление приятным, спокойным голосом, и, что было уж совсем удивительно, нисколько не шепелявя. У него, стервеца, даже губы остались целы, после такого-то роскошного удара!
– Иннокентий Андреевич Охлобыстин. К вашим услугам.
И даже так немножко наклонил голову, как это делают воспитанные джентльмены в фильмах про Шерлока Холмса. Только что ножкой не шаркнул, да и то потому лишь, что сидел. И вот что странно – как-то так он это сказал, что Петру Ивановичу и в голову не пришло называть его Кешей; наоборот, он почувствовал, что перед ним действительно Иннокентий Андреевич и обращаться к нему следует на «вы». Псих-то он псих, да, видать, не из простых: может, пианист какой, которому Бетховен в голову ударил, или профессор, может, облучившийся ураном. Впрочем, парень был молодой и больше все-таки походил на пианиста, который бацал своего Бетховена недели две без перерыва, ничего при этом не жрамши. А на третью неделю с утра пораньше его в дурку и закатали. Да, определенно, он был похож именно на такого психа. Красивое, породистое лицо, очень бледное, огромные глаза, изящные руки с длинными тонкими пальцами.
– Очень приятно, Иннокентий Андреевич! А меня зовут Петр Иванович. Так что же вы, позвольте спросить, на моей бабе делали? – заново свирепея, вопросил властелин, диктатор и деспот, вдруг понимая, что не помнит, куда дел ключи от наручников.
Ответ давался господину Охлобыстину нелегко. Наконец он вперил в Петра Ивановича отчаянный взгляд и твердо заявил:
– Вожделел я… Простите меня, пожалуйста, но это выше моих сил. – И разрыдался еще пуще, чем даже когда кнопки собирал.
«Ну, нахал», – возмутился про себя Петр Иванович, даже забыв на время про ключи. Впрочем, если реконструировать события с позиции Иннокентия, картина складывалась вполне реалистическая: вылезаешь ты из мешка, идешь по какой-то своей надобности по совершенно пустой выставке, и тут – на тебе: бесхозная голая баба к столбу прикована. Есть о чем задуматься, а ежели ты еще и псих, покалеченный Бетховеном, так и вовсе думать нечего. По справедливости выходило, что не так уж Иннокентий Андреевич и виноват.
– Хм… Ну ладно, это, допустим, вопрос нескромный. А в мешок-то вы зачем залезли? Спереть что-нибудь задумали? Тут добра-то и впрямь немерено.
Иннокентия аж передернуло от возмущения. Он гневно и обиженно взглянул на обвинителя и, немного заикаясь, принялся бурно протестовать
– Вы не имеете права так! Я Охлобыстин! Я офицер! Я вожделел!
– Да кого тут можно вожделеть, на выставке-то? – вскипел Петр Иванович. – Тут днем народу полно, а по ночам никого нету! Разве что уборщицу столетнюю в пять утра!
Охлобыстин гордо выпрямился в своем углу и заявил с кривой ухмылкой:
– А мне все равно, кого. Я могу и уборщицу столетнюю. А мог бы и вас, Петр Иванович, употребить, да вы больно ловки оказались.
После такого откровения диктатору и деспоту кровь ударила в голову. «Ах ты, педрила недобитый, – думал он, с отвращением глядя на сидящего в углу психа. – И как только таких на волю выпускают! Да этого козла надо в дурке держать до скончания века!» Он бы, наверное, все это даже и вслух высказал, да только тут Иннокентий Андреевич такое отмочил, что в который раз вся картина происшествия поменялась с ног на голову.
– Кровушка, она у всех одинаковая, Петр Иванович, – зачастил он исступленно, – красненькая она, голубушка, горяченькая… Давно я кровушку-то вожделею, ой как давно… Все вокруг ходил, облизывался… И на вас облизывался, когда вы мешочек смотреть ходили; да нельзя мне днем, днем-то я бревнышком лежу, только слышу да ощущаю, а шевельнуться не могу. Близко горлышко, а зубки неймут. Нету теперь зубок у меня, Петр Иванович, как же я буду? – вдруг запричитал Охлобыстин. – Новые-то, чай, не вырастут? Что же это теперь со мною будет, а?
И разрыдался. Тут Петр Иванович окончательно захотел все выслушать по порядку, с самого начала. Пришлось пару раз встряхнуть Иннокентия Андреевича за шиворот, чтобы прекратить истерику, дать ему выпить водички и решительно потребовать обстоятельного, полного рассказа. Покуда длился разговор, Петр Иванович укутывал Аню потеплее, чтобы ей было удобнее лежать в обмороке, искал ключи от наручников, пытался приладить дверь. Успели и чаю поставить, и попить его с печеньем. Охлобыстин, конечно, печенье в чае размачивал и только потом кусал, но все время говорил, говорил, взахлеб, особенно поначалу, как будто сто лет рта не раскрывал, и вот наконец прорвало. Кстати, так оно и оказалось. Временами Петр Иванович слушал невнимательно, особенно когда искал ключи, но потом вновь увлекался – рассказ-то и впрямь оказался удивительным.
Глава 10
События, роковым образом переменившие судьбу Иннокентия Андреевича, начались летом 1825 года. Как это часто бывает, помимо главного героя, в них присутствовало еще одно лицо, крайне важное для понимания произошедшего. Такого рода персонаж в течение всего действия может не проронить ни единого слова, не сделать ни единого жеста. А может, напротив, суетиться и вечно попадаться под ноги. Но, как бы то ни было, будучи верным орудием потусторонней недоброй воли, он создает вокруг себя воронку фатальных событий, в которую втягивает простодушного героя и стремится вместе с ним к трагической развязке.
Неблаговидную роль погубителя Иннокентия Андреевича сыграл его сослуживец, корнет Рогов, по прозвищу Суп. В указанное время Рогов и Охлобыстин служили в одном эскадроне лейб-гвардии Конного полка, в одинаковых чинах взводных командиров. Однако если Иннокентий Андреевич, будучи девятнадцати лет от роду, вполне соответствовал своему невысокому званию, то Рогов по возрасту вполне годился в ротмистры. Плавного продвижения по службе у него не получалось из-за одной, а может быть, и нескольких особенных черт характера. Неблагодарное это дело – расписывать характер; проще рассказать историю, из которой сразу станет ясно, что за человек и почему он в возрасте Иисуса Христа оставался корнетом, имея Кульмский крест и Св. Анну второй степени за Дрезден. Собственно, Супом Рогова как раз за эту историю и прозвали.
Свою военную карьеру Рогов начал примерно с той же позиции, что и Охлобыстин, но в гвардейской пехоте – подпоручиком в Семеновском полку. Немного странный, угрюмый и замкнутый, он существовал как бы вне шумного офицерского общества, мало разговаривал и никогда не участвовал в совместных пирушках. И настолько он был неприметный, что до поры до времени на него никто не обращал внимания: ну, есть такой подпоручик, да и Бог бы с ним. Службу нес исправно, в карты не играл, водку не пил, ни подлостей, ни буйств, ни геройств не совершал.
Год или два Рогов прослужил, никем особо не замеченный, до того достославного дня, когда однажды встретил на мосту через Мойку поручика Дроздовского, известного балагура и шутника. Тот, приметив унылую фигуру Рогова, еще издали приветливо помахал ему рукой и обратился с пустой в общем-то фразой:
– Подпоручик, что же вы так невеселы? Гляньте – кругом весна, птицы, а вы мрачнее тучи. Всякая тварь Божья на солнце греется, а вы все в шинели…
Рогов глянул на весельчака исподлобья и глухо пробормотал:
– Простите, любезнейший, но вы не мой полковой командир и не вам решать, что мне носить и чему радоваться. Поверьте, я умею изыскать для себя способы к удовольствию.
– Да, и какие же?
Рогов подумал немного, криво усмехнулся и предложил:
– А что, извольте ко мне, проследовать, я вас угощу супом.
Дроздовский улыбнулся и вежливо отклонил приглашение, сославшись на занятость. Рогов нахмурился и повторил с нарастающей меланхолией в голосе:
– Вы, сударь, верно, меня не поняли. Суп очень недурен. Тортю, знаете ли. И не из какой-нибудь телятины, а из настоящей черепахи, прямо из Бомбея прибыл в жестянке, контрабандой. По двадцати рублей за банку, вчера только прикупил на Бирже. Еще устрицы имеются, самые крупные, четыре дюжины.
Дроздовский даже чуть заколебался, но все же повторил отказ, поскольку и вправду был занят, да и компания намечалась не из приятных. Рогов ожесточился.
– Вы, сударь, уже дважды отказались, будто сынок купеческий, которому папаша скромность в лоб ложкой вколотил. Ну что же, я снизойду до вашей привычки и предложу в третий раз разделить со мною суп. Отменный суп, смею уверить. Я уже пробу снял. Заметьте – после третьего раза даже купеческие сынки не отказываются.
Тут уж Дроздовский вспылил:
– Ну, знаете, подпоручик! Я и впрямь занят и не желаю вашего супа! А намеки ваши мне, двухсотлетнему дворянину, просто оскорбительны!
– Так, значит, не станете моего супу кушать?
– Не стану!
– Отлично. Тогда угодно ли вам будет завтра со мною встретиться и разрешить вопрос чести?
Сказано было настолько не к месту, что Дроздовский не сразу понял смысл сказанного и переспросил:
– Чего-чего? Вы что же – на дуэль меня вызываете?
– А я разве неясно выразился?
– Из-за супа?
– Да, сударь. Я, знаете ли, очень щепетилен в вопросах чести и такого оскорбления не спущу. Я, знаете ли, не всякого к себе на суп приглашу. И не всякого уговаривать стану. А ежели приглашу и уговаривать стану, тогда уж будьте любезны – окажите такую честь…
Дроздовский вспылил и обещал прислать секундантов, сам же вернулся домой в крайне раздраженном состоянии и вечером написал сгоряча небольшую поэму, начинавшуюся такими строками:
Однажды Рогов для друзей
Прием de jour готовить начал,
Позвал для чинности бл… ей
И для престижу – прачек.
В бульоне зад ополоснул,
В ночном горшке сготовил студень
И член торжественно встряхнул
Над осетром, простертым в блюде,
Барашка раком фаршируя
В бутылки плюнул, в суп сблевал.
(Читатель ждет уж рифму злую,
На что скажу: молчи, нахал!)-и т. д.
Далее в том же духе описывались детали пиршества, а в финале поэт благодарил судьбу, избавившую его от столь сомнительного приглашения. Не следует думать, будто именно ради Рогова поэт употребил столь сильные выражения, вовсе нет. Так уж с самого рождения оказалась настроена его лира, что даже наиболее проникновенные строки выходили с этаким молодецким присвистом. По сей причине в сугубо литературной среде Дроздовскому не удалось стяжать лавров, но между военными, особливо среди кадетов, он был весьма известен и почитался куда выше Державина и Ломоносова, почти на одной ступени с Барковым. Как знать – быть может, Дроздовскому и удалось бы когда-нибудь очистить свой стих от скверны, обратиться к высоким идеям и через такую метаморфозу вознестись к сияющим вершинам Парнаса… Все могло случиться, если бы на следующее после знаменательной встречи утро пуля Рогова не поставила кровавую точку в этой беспечной, многообещающей жизни.
Впоследствии многие считали, что именно стихи и стали причиной дуэли, однако материалы следствия полностью опровергают это предположение. Во всех допросных листах особенно отмечено, что подследственный стихов не читал ни вообще, ни в частности, а причиной вызова упорно называл отказ потерпевшего разделить с ним трапезу. Одним из оправдательных документов, представленных Роговым, является меню предполагавшегося обеда – действительно, более чем аппетитное.
Такую причину суд счел вздорной и неосновательной. Рогова разжаловали в рядовые и перевели в Кронштадтский гарнизонный батальон. Так бы он и сгнил на гарнизонной службе, стоя до пришествия Господня в караулах у пакгаузов; но тут, на его удачу, грянула война с Бонапартом. Батальон обратили на пополнение действующей армии, причем Рогов сумел попасть в кавалерию. Он отличился, быстро выслужился в офицеры, в ноябре 1812 года убил на дуэли армейского прапорщика (это сошло с рук), а в апреле 1814 года в Париже заколол вюртембергского капитана из состава союзной армии. На сей раз произошел грандиозный скандал, Рогова едва не расстреляли, но вновь обошлось разжалованием в рядовые. Что там у него произошло с прапорщиком, о том история умалчивает, а вот капитан, как это достоверно известно, при многих свидетелях дурно отозвался о квасе – мол, непонятный это напиток, пиво – не пиво, а так, ерунда какая-то.
Вновь заслужить эполеты Рогову удалось только через восемь лет, после открытия регулярных военных действий на Кавказе, а еще через год благодаря протекции сразу двух министров – Гурьева и Нессельроде – он сумел вновь перевестись в гвардию. Ходили слухи, будто бы в данном случае имел место уникальный способ взятки: кулинарными рецептами. Возвращение легендарного, почти литературного, персонажа произвело в столичных кругах немалый переполох, и весьма скоро болезненно скромный от природы Рогов стал, сам того не желая, заметной бомондной фигурой, окруженной сияющим романтическим ореолом. О нем много рассказывали, еще больше сочиняли, он возбуждал любопытство, страх и желание проникнуть в тайну. Однако далеко не каждый храбрец решался завести разговор с Супом на кулинарные темы – судьбы Дроздовского и вюртембергского капитана служили хорошим предупреждением для разного рода шалунов.
Будучи сослуживцем Рогова, Охлобыстин оказался обреченным на близкое знакомство с этим странным человеком. Весьма скоро выяснилось, что страшный и ужасный Суп – в сущности, вполне добрый и не очень счастливый человек. Пунктик по гастрономическому вопросу у него действительно имелся, но, уяснив несложное правило никогда не говорить о еде, Охлобыстин научился вполне сносно с ним уживаться – вплоть до того судьбоносного момента, когда гастрономическая щепетильность Рогова не предстала перед трепещущим Иннокентием Андреевичем во всем своем космическом масштабе.
Случилось это так. В июле 1825 года, как только над болотами рассеялись звенящие облака комаров, император по заведенной с прошлого года традиции выехал вместе с гвардией в Красное Село, на маневры. После городского казарменного комфорта для гвардейцев настала веселая, но неустроенная походная жизнь. Рогов, Охлобыстин и еще двое младших офицеров ютились в одной небольшой палатке, заваленной к тому же наполовину громоздким снаряжением: касками, кирасами, седлами, палашами и прочим кавалерийским хозяйством. Скучать не приходилось: помимо собственно маневров и смотров, а также сопутствующих этим мероприятиям попоек, немало хлопот доставляло содержание почетных караулов около императорской палатки. На эту каторгу по очереди назначались команды из обоих полков Гвардейской кирасирской бригады: кавалергардского и лейб-гвардии конного. Однажды в такой наряд выпало идти Рогову с людьми из его взвода; он вернулся особенно мрачным, молча повалился на одеяло и сосредоточенно уставился в полотняный потолок.
– Случилось что-то? – полюбопытствовал Охлобыстин.
– Да нет, ничего. Ничего особенного.
Казалось, на этом разговор и окончится, но, полежав немного, Рогов вдруг резко повернулся к своему соседу и заговорил так страстно, как будто из него выплескивалось нечто давно накопленное, чего долее невозможно скрывать:
– Представляете, сегодня наблюдал обед императорской фамилии. Да-с… Ну и зрелище, скажу я вам… Казалось бы, люди, облеченные властью от Бога, все в них прекрасно должно быть. Но как же они едят? Разве такое возможно?
Иннокентий Андреевич приподнялся на локте и, позабыв свое правило не заговаривать с Роговым о гастрономии, изумленно спросил:
– А что же такого? Я тоже видал, как едят, – ничего особенного. Как все прочие люди.
– Что же такого? Да в том-то и дело, что ничего особенного! А уж им-то, пожалуй, следовало! Представьте себе императорский стол сегодня: печеная картошка с селедкой! И тяготы походной жизни тут ни при чем, прошу отметить. На столе стояло чудно изготовленное щучье фрикасе – представьте себе, отказались, все как один! А какое было фрикасе! У меня от одного запаха душа запела!
Охлобыстин хотел было возразить, что картофель с селедкой – тоже очень вкусно, но припомнил историю с Дроздовским и прикусил язык.
– Слушайте дальше, Охлобыстин, – продолжал Рогов в какой-то истерике, – великий князь Николай Павлович изволил прямо за обедом заявить, что в курице нет ничего вкуснее гузки! Экая пошлость, не находите?
Иннокентий Андреевич готов был согласиться, что куриная гузка – не лучшее в курице, сам он предпочитал грудку.
– Впрочем, ладно, что там великий князь! Но вы подумайте только! Сам император! Вот уж от кого не мог ждать…
– Да что же? – вскричал Охлобыстин, почти не удерживая иронии. – Неужто и сам император провинился?
– Не то слово, друг мой! Не то слово… Представьте, приносят кусок ростбифа – нежнейшая телятина, обжаренная по краю, розоватая в середине, с травами, словом – шедевр кулинарный, а не ростбиф. И что же император?
– И что же?
– Пробует, задумывается и велит принести, не поверите – горчицы! И запил белым вином!
– Как! – вскричал Охлобыстин, искренне изумленный таким неслыханным дурновкусием. – Горчицу для мяса с травами? Запил белым вином?
– Да! Хуже того – хересом! Даже вы, chere ami, столь склонный понимать и прощать, не смогли удержаться от осуждения… Поверьте, так оно и было, в самой точности и… и это ужасно…
Рогов прикрыл глаза рукою, как будто не мог вынести позора государя императора, и замолк; Иннокентий Андреевич не знал, что ему делать – то ли смеяться, то ли тревожиться, и потому попросту смолчал.








