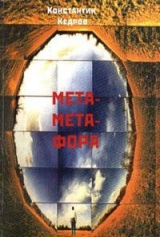
Текст книги "Метаметафора"
Автор книги: Константин Кедров
Жанр:
Экспериментальная поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Разумеется, все это шутки, но сама проблема, конечно, была серьезной. Переход от плоского двухмерного видения к объему был грандиозным взрывом в искусстве. Об этом писал еще кинорежиссер С. Эйзенштейн в книге «Неравнодушная природа». Плоскостное изображение древнеегипетских фресок, где люди подобно плоскатикам повернуты к нам птичьим профилем, вдруг обрели бездонную даль объема в фресках Микеланджело и Леонардо. Понадобилось две тысячи лет, чтобы от плоскости перейти к объему. Сколько же понадобится для перехода к четырехмерию?
Я написал в то время два стиха, где переход от плоскости к объему проигрывается как некая репетиция перед выходом в четвертое измерение.
ПУТНИК
О сиреневый путник
это ты это я
о плоский сиреневый странник
это я ему отвечаю
он китайская тень на стене горизонта заката
он в объем вырастает
разрастается мне навстречу
весь сиреневый мир заполняет
сквозь меня он проходит
я в нем заблудился
идя к горизонту
а он разрастаясь
давно позади остался
и вот он идет мне навстречу
Вдруг я понял что мне не догнать ни себя ни его
надо в плоскость уйти безвозвратно
раствориться в себе и остаться внутри горизонта
О сиреневый странник ты мне бесконечно знаком —
как весы пара глупых ключиц между правым и левым
для бумажных теней чтобы взвешивать плоский закат.
(К. К. 1976)
Снова и снова прокручивалась идея: можно ли, оставаясь существом трехмерным, отразить в себе четвертое измерение? Задача была поставлена еще А. Эйнштейном и Велимиром Хлебниковым. А. Эйнштейн считал, как мы помним, что человек не может преодолеть барьер. В. Хлебников еще до Эйнштейна рванулся к «доломерию Лобачевского».
Так возникла в моем сознании двухмерная плоскость, вмещающая в себя весь бесконечный объем, – это зеркало. Я шел за Хлебниковым, пытаясь проникнуть в космическое нутро звука. И вот первое, может быть, даже чисто экспериментальное решение, где звук вывернулся вместе с отражением до горловины зеркальной чаши у ноты «ре» и дал симметричное отражение. Таким образом, текст читается одинаково и от начала по направлению к центру – горловине зеркальной чаши света до ноты «ре». Интересно, что нотный провал между верхней и нижней «ре» отражает реальный перепад в звуковом спектре, там нет диезов и бемолей.
ЗЕРКАЛО
Зеркало
Лекало
Звука
Ввысь
|застынь
стань
тон
нег тебя
ты весь
высь
вынь себя
сам собой бейся босой
осой
ссс – ззз
Озеро разреза
лекало лика
о плоскость лица
разбейся
;то пол потолка
без зрака
а мрак
мерк
и рек
ре
до
си
ля
соль
фа
ми
ре
и рек
мерк
а мрак
беэ зрака
то пол потолка
разбейся
о плоскость лица
лекало лика
озеро разреза
ссс – ззз
осой
Сам собой бейся босой
вынь себя
высь
ты весь
нет тебя
тон
стань
застынь
ввысь
звука
лекало
зеркало.
(К. К. 1977)
И в поэзии Ивана Жданова зеркало – ключевой образ – это некая запредельная плоскость. Войти в нее – значит преодолеть очевидность мира трех измерений. Внезапный взрыв, озарение, и «сквозь зеркало уйдет незримая рука». Зеркала в его поэзии «мелеют», «вспахиваются», окружают человека со всех сторон: «Мы входим в куб зеркальный изнутри...» Тайна зеркал пронизывает культуру, но вспахать поверхность отражения ранее никто не догадывался. Совершенно ясно, что у Жданова зеркальность не отражение, а выворачивание в иные космологические миры:
Мелеют зеркала, и кукольные тени
Их переходят вброд, и сразу пять кровей,
Как пятью перст – рука забытых отражений
Морочат лунный гнет бесплотностью своей.
Эти образы похожи на платоновские «эйдосы». С одной стороны, как бы иллюзорны, а с другой – реальны, как «лунный гнет». Лунный – невесомо, прозрачно; гнет – еще как весомо. Здесь небесный гром и подземный гул слиты вместе. Возникает некая третья реальность мира, преломленного ввысь так, что дождь лезет из земли к небу.
Вот так перед толчком подземной пастью всею
Вдруг набухает кот, катая вой в пыли,
Закрытый гром дробит зеркальный щит Персея,
И воскресает дождь, и рвется из земли.
Иногда мне кажется, что в поэзии Жданова ожил магический театр зеркал Гессе, а тот в свою очередь восходит корнями к иллюзиону элевсинских мистерий Древней Греции. Там надо было умереть в отражении, чтобы воскреснуть в преломленном луче.
Вот-вот переведут свой слабый дух качели
И рябью подо льдом утешится река,
И, плачем смущена, из колыбельной щели
Сквозь зеркало уйдет незримая рука.
И все же в зеркалах есть какая-то избыточная реальность. Само отражение настолько многозначительно, что поэту уже вроде бы и делать нечего. Стоишь перед зеркалом, как перед наглядным пособием по бессмертию... И потом опять же плоскость – объем: знакомые оппозиции.
Вот если бы зеркало могло отражать внутреннее, как внешнее – глянул и оказался над мирозданием. Как в стихотворении «Взгляд» у Ивана Жданова:
Был послан взгляд – и дерево застыло.
Пчела внутри себя перелетела
через цветок, и, падая в себя,
вдруг хрустнул камень под ногой и смолк.
Произошло выворачивание, и мы оказались внутри надкусанного яблока. Перспектива переместилась внутрь, как до грехопадения Адама.
Надрезана кора, но сок не каплет
и яблоко надкусанное цело.
Внутренняя, говоря словами Павла Флоренского, «обратная» перспектива наконец-то открылась в поэзии. Вот как выглядит мир при взгляде из внутренне-внешнего зазеркалья:
Внутри деревьев падает листва
на дно глазное, в ощущенье снега,
где день и ночь зима, зима, зима.
В сугробах взгляда крылья насекомых,
и в яблоке румяно-ледяном,
как семечки, чернеет Млечный Путь.
Вокруг него оскомина парит,
и вместе с муравьиным осязаньем
оно кольцо срывает со зрачка.
В воронке взгляда гибнет муравей,
в снегу сыпучем простирая лапки
к поверхности, которой больше нет.
Яблоко, вместившее в себя весь Млечный Путь, вселенная, окруженная оскоминой, срывающей кольцо со зрачка. и уже знакомая нам воронка взгляда, конусом восходящая к опрокинутому муравью, ощупывающему лапками неведомую ему бесконечность,– все это образы антропной инверсии – метаметафора.
Так, проходя по всем кругам метаметафорического мышления от чистого рацио до прозрачно-интуитивного, я словно входил в лабораторию метаметафоры, стремясь быть – в меру моих возможностей – ее объективным исследователем, совмещая в себе «актера» и «зрителя». Разумеется, не мне, а читателю судить о том, что воплотилось в поэзию, а что осталось в области чистой филологии. Но для меня это единое целое, позволяющее выверить точность моих космологических интуиции.
Вернусь снова к образу человека внутри мироздания. Вспомним здесь державинское «я червь – я раб – я бог». Если весь космос – яблоко, а человек внутри... А что если червь, вывернувшись наизнанку, вместит изнутри все яблоко? Ведь ползает гусеница по листу, а потом закуклится, вывернется, станет бабочкой. Слова «червь» и «чрево» анаграммно вывернулись друг в друга. Так появился анаграммный образ антропной инверсии человека и космоса.
Червь,
вывернувшись наизнанку чревом,
в себя вмещает яблоко и древо.
(К. К.)
Так возник соответствующий по форме метаметафоре анаграммный стих. В анаграммном стихе ключевые слова «червь – чрево» разворачивают свою семантику по всему пространству, становятся блуждающим центром хрустального глобуса.
Ключевое слово можно уподобить точке Альфа, восходящей при выворачивании к точке Омега. Естественно, что такой стих даже внешне больше похож на световой конус мировых событий, нежели на кирпичики.
Мир окончательно утратил былую иллюзорную стабильность, когда отдельно – человек, отдельно – вселенная. Теперь, если вспомнить финал шекспировской «Бури»: жизнь – сцена, а люди – актеры, ситуация значительно изменилась. После космической инверсии – «Ты – сцена и актер в пустующем театре...» (И. Жданов)
Неудивительно, что в таком метаметафорическом мире, а другого, собственно говоря, и нет, местоположение сцены – мироздания и партера – земли резко изменяется, как это уже произошло в космологии, при переходе от вселенной Ньютона к вселенной Эйнштейна.
И вот уже партер перерастает в гору,
Подножием свои полсцены охватив.
(И. Жданов)
Не на той ли горе находился тогда и Александр Еременко, когда в поэме «Иерониму Босху, изобретателю прожектора» написал: «Я сидел на горе, нарисованной там, где гора». От этого образа веет новой реальностью «расслоенных пространств», открытых современной космологией. Сидеть на горе, нарисованной там, где гора, значит пребывать во вселенной, находящейся там, где в расслоенном виде другая вселенная. Так в японских гравюрах таится объем, преображенный в плоскость.
У Александра Еременко выворачивание есть некое движение вспять, поперек космологической оси времени к изначальному нулю, откуда 19 миллиардов лет назад спроецировалась вселенная. Для того чтобы туда войти, надо много раз умереть, пережив все предшествующие смерти, углубившись в недра материи глубже самой могилы.
Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил,
Что мой взгляд, прежде чем добежать до тебя, раздвоится,
Мы сейчас, как всегда, разыграем комедию в лицах.
Тебя не было вовсе, и значит, я тоже не был.
Надо сказать, что освоение нулевого пространства сингулярности, весьма популярное среди молодежи, для европейской культуры, не говоря уже о восточной, совсем не ново. Нирвана, дзэн– буддизм, отрицательное богословие, философия Нагаруджаны, экзистенциальный мир Сартра, Камю... Однако там все зиждется на мировоззрении, не преображенного зрения.
Нулевое пространство вздимопоглощаемых перспектив в поэзии Александра Еременко – это не мировоззрение, а иное видение. Нуль – весьма осязаемая реальность. Есть частицы с массой покоя, равной нулю,– это фотон, то есть свет. Масса вселенной в среднем тоже равна нулю. В геометрическом нуле таятся вселенные «расслоенных пространств», неудивительно, что поэтическое зрение, выворачиваясь сквозь нуль, проникает к новой реальности.
Я, конечно, найду, в этом хламе, летящем в глаза,
Надлежащий конфликт, отвечающий заданной схеме,
Так, всплывая со дна, треугольник к своей теореме
Прилипает навечно. Тебя надо еще доказать.
(А. Еременко)
Тут очень важен ход поэтического «доказательства» новой реальности, когда метаметафора, дойдя до расслоенных пространств зрительной перспективы, находит уже знакомую нам по началу главы расслоенную семантику в слове «форма». Сначала, вывернувшись наизнанку, корень слова «морфема» дает корень для слова «форма»: морф – форм, а затем на их стыке возникает некая замораживающая привычную боль семантика слова «морфий».
Тебя надо увешать каким-то набором морфем
(В ослепительной форме осы заблудившийся морфий),
Чтоб узнали тебя, каждый раз в соответственной форме,
Обладатели тел. Взгляд вернулся к начальной строке.
Интересно, что и у А. Парщикова анаграммное выворачивание появляется в момент взрыва от небытия, нуля, «вакуума» до наивысшей точки кипения жизни – «Аввакума»:
Трепетал воздух,
Примиряя нас с вакуумом,
Аввакума с Никоном.
«Аввакум» – «вакуум» – две вывернутые взаимопротивоположные реальности, как Никон и Аввакум.
Анаграммная семантика значительно раздвинула горизонты поэтического слова. Так, у Ивана Жданова расслаиваются пространства: «слова и славы», «выси и взвеси».
МАТЬ
За звуковым барьером, в слоеном сугробе агоний
луна обтянута кожей молящей твоей ладони...
Развяжешь верхнюю воду камерных длин бытия —
На покрова вернется тополиная свадьба твоя.
Шепот ночной трубы на свету обратится в слово,
Сфера прошелестит смальтой древесной славы,
Кубических облаков преобразится взвесь.
Миру простится гнет. Небу простится высь.
Узнаете светящуюся сферу? Конус трубы, преодоленное тяготение – «гнет» и прощенная «высь». Можно сказать, здесь вся азбука метакода; но все это внутренне присуще Ивану Жданову, это его затаенный, глубинный мир.
В 1978 году мне удалось впервые представить Парщикова, Еременко и Жданова на вечере в Каминном зале ЦДРИ. Зрители – в основном студенты Литинститута. Очень хорошо помню, что читал Жданов.
Море, что зажато в клювах птиц,– дождь.
Небо, помещенное в звезду,– ночь.
Дерева невыполнимый жест – вихрь.
Душами разорванный квадрат – крест,
Дерева, идущего на крест,– срез.
Дерева срывающийся жест – лист.
Небо, развернувшее звезду,– свет.
Небо, разрывающее нас,– крест.
Парщиков прочел «Угольную элегию». Там знакомый мотив – Иосиф в глубине колодца. Выход из штольни к небу сквозь слои антрацита и темноту вычерчен детским взором к небу:
Подземелье висит на фонарном лучике,
отцентрированном, как сигнал в наушнике.
В рассекаемых глыбах – древние звери,
подключенные шерстью к начальной вере.
И углем по углю на стенке штольни
я вывел в потемках клубок узора —
что получилось, и это что-то,
не разбуженное долбежом отбора,
убежало вспыхнувшей паутинкой
к выходу, и выше и... вспомни: к стаду
дитя приближается, и в новинку
путь и движение ока к небу.
Мне кажется, в этом стихотворении есть и биографические мотивы. Все мы чувствовали себя словно погребенными в какой-то глубокой штольне. Где-то там, в бездонной вышине, за тысячами слоев и напластований наш потенциальный читатель, но как пробиться к нему?
Долгое время я был едва ли не единственным благожелательным критиком трех поэтов. Однако после вечера в ЦДРИ лед потихоньку тронулся. Прошло пять лет, и вот уже Иван Жданов дарит мне сборник «Портрет» с шутливой надписью: «Константину Кедрову – организатору и вдохновителю всех наших побед. 1983 г., январь».
Какой-то метафизический озноб проходит по сердцу, когда читаешь такие строки:
Потомок гидравлической Арахны,
персидской дратвой он сшивает стены,
бросает шахматную доску на пол.
Собачий воздух лает в погребенье.
От внешней крови обмирает вопль.
(И. Жданов)
«Внешняя кровь» – это выворачивание, обретение новых «расслоенных пространств» в привычном «зеркальном кубе» нашего мира.
Один знакомый математик сказал мне однажды:
– Когда я читаю нынешнюю печатную поэзию, всегда преследует мысль, до чего же примитивны эти стихи по сравнению с теорией относительности, а вот о вашей поэзии я этого сказать не могу.
Под словом «ваша» он подразумевал поэтов метаметафоры. Само слово «метаметафора» возникло в моем сознании после термина «метакод». Я видел тонкую лунную нить между двумя понятиями.
Дальше пошли истолкования.
– Метаметафора – это метафора в квадрате?
– Нет, приставка «мета» означает «после».
– Значит, после обычной метафоры, вслед за ней возникает метаметафора?
– Совсем не то. Есть физика и есть метафизика – область потустороннего, запредельного, метаметафорического.
– Метагалактика – это все галактики, метавселенная – это все вселенные, значит, метаметафора – это вселенское зрение.
– Метаметафора – это поэтическое отражение вселенского метакода...
Все это верно. Однако термин есть термин, пусть себе живет. Мы-то знаем, что и символисты не символисты, и декаденты не декаденты. «Импрессионизм» – хорошее слово, но что общего между Ренуаром и Клодом Моне. Слова нужны, чтобы обозначить новое. Только обозначить, и все. Дальше, как правило, следует поток обвинений со стороны рассерженных обывателей. Символизм, декадентство, импрессионизм, дадаизм, футуризм – это слова-ругательства для подавляющего большинства современников.
Приходит время, и вот уже, простираясь ниц перед символизмом или акмеизмом, новые критики употребляют слово «метаметафора» как обвинение в причастности к тайному заговору разрушителей языка и культуры.
Наполеон III с прямолинейной солдатской простотой огрел хлыстом картину импрессиониста Мане «Завтрак на траве». Достойный поступок императора, у которого министром иностранных дел был Дантес – убийца Пушкина.
Нынешние «дантесы» и «наполеоны малые» (термин В. Гюго) предпочитают выстрел из-за угла... Движение в пространстве Н. Лобачевского остановить уже невозможно.
Все злее мы гнали, пока из прошлого
Такая картина нас нагнала:
Клином в зенит уходили лошади,
для поцелуя вытягивая тела.
(А. Парщиков)
В январе 1984 года я напечатал в журнале «Литературная учеба» послесловие к поэме Алексея Парщикова «Новогодние строчки». Это была первая и единственная публикация о метаметафоре. Для человека неподготовленного поэма могла показаться нарочито разбросанной, фрагментарной. На самом деле при всех своих недостатках (есть в поэме избыточная рациональность и перегруженность деталями) это произведение по-своему цельное. Ее единство – в метаметафорическом зрении. Вот почему эта поэма послужила поводом для разговора о метаметафоре.
«„Новогодние строчки“ А. Парщикова – это мешок игрушек, высыпающихся и заполняющих собой всю вселенную. Игрушки сотворены людьми, но в то же время они сам» как люди. Мир игрушечный – это мир настоящий, ведь играют дети – будущее настоящего мира.
В конечном итоге груды игрушек – это море, это песок это сама вселенная. Приходи, человек, твори, созидай играй, как ребенок, и радуйся сотворенному миру!
Таков общий контур поэмы. Итак, «снегурочка и петух на цепочке» обходят «за малую плату» новогодние дома. Они идут «по ободку разомкнутого циферблата», потому что стрелки на двенадцати, на Новом годе, уходящем в горловину времени.
Читатель может посочувствовать Деду Морозу, которому «щеки грызет борода на клею». Это поэт. Ему рады. «Шампанское шелестит тополиной мерцающей благодатью». И – водопад игрушек из мешка.
Часть вторая – игрушки ожили. Здесь взор поэта, его геометрическое зрение, обладающее способностью видеть мир в нескольких измерениях: «Заводная ворона, разинув клюв, таким треугольником ловит сферу земную, но сфера удваивается, и – ворона летит врассыпную».
Геометр, может, выразит это в математической формуле, но тогда не будет взора поэта. Здесь ситуация как в эпоху Возрождения. Трехмерную перспективу открыли посредственные художники, но только Леонардо, Микеланджело и Рафаэль заполнили ее живописью.
«Мир делится на человека, а умножается на все остальное» – вот ключ к поэме. Как ни разлагай мир скальпелем рассудка, познание невозможно без человека, а человек тот первоатом, который «умножаем» на все. Об этом часть третья.
Вот тут-то и пошли причудливые изменения: животные, напоминающие «Зверинец» Велимира Хлебникова. У Хлебникова в зверях погибают неслыханные возможности. Звери – тайнопись мира. У Парщикова эта тайнопись по-детски мила: «Кошка – живое стекло, закопченное адом; дельфин – долька моря». Обратите внимание – мир не делится. Животное – это долька моря. Такая монолитность мира при всем его сказочном многообразии и многовидении для Парщикова весьма характерна. Геометр знает, как точку преобразовать в линию, линию в плоскость, плоскость в объем... Парщиков видит, как дельфин становится морем, а море – дельфином. Море – мешок, дельфин – игрушка, таких игрушек бесконечное множество, но все они в едином звездном мешке, и вселенная в них. Вот почему «собака, верблюд и курица – все святые». Уничтожьте дельфина, погибнет море.
Следующая часть IV, основная. Кроме геометрии, есть Нарцисс, путающий нож и зеркало, режущий зеркалом рыбу. Этот Нарцисс, несомненно, поэт. Я мог бы объяснить, что в нож можно глядеться, как в зеркало, а зеркалом резать; что в конечном итоге зеркало – это срез зрения, а плоскость отражения можно сузить до лезвия ножа, и тогда мир предстанет таким, как видит его Парщиков в поэме, но мне здесь интересно совсем другое: что творится в душе у этого человека? О чем он хочет нам рассказать?
Вот огородное чучело в джинсах, в болонье, голова – вращающийся пропеллер. Это пугало должно сторожить огород, скорее – кладбище. Сам поэт, покидая пугала смерти, идет к жизни на берег моря. похожий на бесконечную свалку, но из мировой свалки он воздвигает свой мир, как детишки делают домики из песка. Этот мир будет хрупок и разрушим, как все живое, но он живой, не пластмассовый, не синтетический, как пугала в огороде.
Я миную лирические и биографические намеки, за которыми угадывается любовь. Если поэт сам об этом говорить не хочет, то и я промолчу.
Итак – итог. Парщиков – один из создателей метаметафоры, метафоры, где каждая вещь – вселенная.
Такой метафоры раньше не было. Раньше все сравнивали. Поэт как солнце, или как река, или как трамвай. У Парщикова не сравнение, не уподобление. Он и есть все то, о чем пишет. Здесь нет дерева отдельно от земли, земли отдельно от неба, неба отдельно от космоса, космоса отдельно от человека. Это зрение человека вселенной. Это метаметафора.
Метаметафора отличается от метафоры как метагалактика от галактики. Привыкайте к метаметафорическому зрению, и глаз ваш увидит в тысячу раз больше, чем видел раньше.
За этим послесловием полгода спустя последовала статья Сергея Чупринина в «Литературной газете» «Что за новизною?», а затем развернулась бурная дискуссия, не затихающая и по сей день. Заговор молчания вокруг поэзии Парщикова, Еременко и Жданова был наконец-то нарушен.
Брошена техника, люди —
как на кукане, связаны температурой тел,
Но очнутся войска, доберись хоть один
до двенадцатислойных стен
идеального города, и выспись на чистом, и стань – херувим.
Новым зреньем обводит нас текст
и от лиц наших неотделим. (А. Парщиков)
Новый небесный град поэзии, воздвигнутый из сияющих слов и «двенадцатислойных стен», еще не обжитой. Кому-то в нем неуютно, кто-то предпочитает четырехстенный четырехстопный ямб, о котором еще Пушкин сказал: «Четырехстопный ямб мне надоел». Кто-то верит, что земля всего лишь кругла.
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна,
На этом глупом небосклоне.
Метаметафористы видят землю иначе.
Земля конусообразна
И поставлена на острие,
Острие скользит по змее,
Надежда напрасна.
Товарняки, словно скорость набирая,
На месте приплясывали в тупике,
А две молекулярных двойных спирали
В людей играли невдалеке.
(А. Парщиков)
Честно говоря, я понимаю, что все эти конусы, двойные спирали, восьмерки выворачивания уже примелькались в глазах читателя. Но это архетипы реальности мироздания.
Интуитивное осмысление этого и привело меня к созданию неожиданного на первый взгляд текста:
Невеста, лохматая светом,
невесомые лестницы скачут,
она плавную дрожь удочеряет,
она петли дверные вяжет
стругает свое отраженье,
голос, сорванный с древа,
держит горлом – вкушает
либо белую плаху глотает,
на червивом батуте пляшет,
ширеет ширмой, мерцает медом
под бедром топора ночцого,
она пальчики человечит,
рубит скорбную скрипку,
тонет в дыре деревянной.
Саркофаг, щебечущий вихрем
хор, бедреющий саркофагом,
дивным ладаном захлебнется
голодающий жернов «восемь»,
перемалывающий храмы
Что ты, дочь, обнаженная, или ты ничья?
Или, звеня сосками, месит сирень
турбобур непролазного света?
В холеный футляр двоебедрой секиры
можно вкладывать только себя.
(К. К.)
Я писал это в 1978 году, когда не было теории метаметафоры, но уже зарождалась метаметафора.
«Двоебедрая секира» – месяц умирающий и воскресающий; невеста, лохматая светом,– комета, она же звезда Венера и Богородица – «невестна не невестная». В акафисте поется: «Радуйся, лестница от земли к небу»,– вот почему «невесомые лестницы скачут».
«Дыра деревянная» – в середине вывернутой скрипки Пикассо – черная дыра во вселенной; холеный футляр двоебедрой секиры – все мироздание; скрипка – образ вечной женственности, пляска на червивом батуте – попрание смерти. Вязать дверные петли можно только вывернув наизнанку «микромир» вязальных петель до «макромира» петель дверных. Сама дверь – тоже каноническое обращение к богородице – «Небесная дверь».
Метаметафора не гомункулус, выращенный в лабораторной колбе. Вся теория метакода и метаметафоры возникла из стихов, а не наоборот. В поэзии антропная космическая инверсия сама собой порождает метаметафорический взрыв. Трудно судить, насколько осуществилась моя мечта передать словами миг обретения космоса.
Нам кажется, что человек неизмеримо мал, если глядеть с высоты вселенной, а что если наоборот, как раз оттуда-то он и велик. Ведь знаем же мы, что одно и то же мгновение времени может растягиваться в бесконечность, если мчаться с релятивистской скоростью. Вся вселенная может сжаться в игольное ушко, а человек окажется при инверсии больше мироздания. Метаметафора, конечно, условный термин – важны новые духовные реальности, обозначенные этим словом, открываемые современной физикой, космологией и... поэзией.
Может быть, прежде всего поэзией. Метаметафора как-то одновременно в разных точках пространства возникла в поэзии. Парщиков жил в Донецке, Иван Жданов в Барнауле, в сибирской деревне А. Еременко, а я преподавал в Москве. Есть какое-то информационное поле, связующее творческих единомышленников, незримое звездное братство. Не о нем ли думал Александр Еременко, когда с улыбкой писал:
Пролетишь, простой московский парень,
Полностью, как Будда, просветленный.
На тебя посмотрят изумленно Рамакришна, Кедров и Гагарин...
Потому что в толчее дурацкой,
Там, где тень наводят на плетень,
На подвижной лестнице Блаватской
Я займу последнюю ступень.
Кали-Юга – это центрифуга,
Потому что с круга не сойти.
Мы стоим, цепляясь друг за друга,
На отшибе Млечного Пути.
В «Дне поэзии» – 1983, где напечатано это стихотворение, мою фамилию заменили на Келдыша, поскольку КГБ уже начало операцию «Лесник». В 1991 году в тайниках КГБ обнаружен документ, датированный 1984 г. «Предотвращено поступление Лесника в Союз писателей». В 1986 году по требованию КГБ меня отстранили от преподавания в Литинституте по статье «Антисоветская пропаганда и агитация». Кличка «Лесник» вероятно связана с моей фамилией «Кедров».
Однажды Альберт Эйнштейн сказал: «По-моему, математика – это простейший способ водить самого себя за нос». Любой поэт и читатель, лишенный чувства юмора, окажется таким незадачливым математиком.
Смеялся Осип Мандельштам, смеялся Хлебников, смеялись обэриуты. Метаметафора порой иронична.
Можно, конечно, вспомнить наши опыты в конце 70-х годов с двухмерным пространством, чтобы почувствовать новый ироничный облик метаметафоры в таком тексте Алексея Парщикова:
Когда я шел по каменному мосту,
Играя видением звездных воен,
Я вдруг почувствовал, что воздух
Стал шелестящ и многослоен...
В махровом рое умножения,
Где нету изначального нуля,
На Каменном мосту открылась точка зрения,
Откуда я шагнул в купюру «три рубля».
У нас есть интуиция – избыток
Самих себя. Астральный род фигур,
Сгорая, оставляющий улиток...
О них написано в «Алмазной сутре»,
Они лишь тень души, но заостренной чуть.
Пока мы нежимся в опальном перламутре
Безволия, они мостят нам путь...
Дензнаки пахнут кожей и бензином,
И если спать с открытым ртом, вползают в рот.
Я шел по их владеньям как Озирис,
Чтоб обмануть их, шел спиной вперед.
Переход в двухмерное пространство трехрублевки и блуждание по «астральным» водяным знакам и фигурам интуиции с воспоминанием о мистериях Озириса – образ антинеба. Здесь деньги как противоположность небу вгоняют в плоскость, в теневой мир. Попросту говоря, это смерть, своего рода антивыворачивание, антивоскресение. Мистерия Озириса «задом наперед». Это высокий, очень высокий уровень инверсии, но такой мир мне чужд, и я с облегчением его покидаю, чтобы поговорить о метаметафорической лирике, где
Изнанку сердца – звездное нутро —
Наслаивает кисть на полотно.
Автор этих строк Людмила Ходынская учится в Литературном институте в семинаре Евгения Винокурова. Ее стихи пронизаны осязаемым движением звезд:
С утра сшивает ночи ткань
Вселенская швея Иштар.
И для меня мелеет стая слов,
Когда попалась в радуги улов.
Мне нравятся ее художники:
Наматывающие ленту Мёбиуса
На небо глобуса.
И еще особое ощущение невесомости живописного мазка:
Масса цветка
Равна цвету мазка
У Пикассо.
По-своему обживает новое пространство тангенциальной сферы Елена Кацюба. Она, как Парщиков и А. Еременко, ближе к ироничным обэриутам. Ее «Крот» чем-то напоминает «Безумного волка» Н. Заболоцкого.
Герой геодезии карт,
он ландшафт исправляет,
он Эсхера ученик —
выходит вверх, уходя вниз.
Математик живота,
он матрицу себя переводит в грунт.
Земля изнутри – это крот внутри.
Внутри крота карта
всех лабиринтов и катакомб.
В начале 80-х Елена Кацюба создает новый анаграммно-комбинационный стих.
В стихотворении «Заводное яблоко» слово «яблоко» претерпевает 12 анаграммных инверсий, выворачиваясь, то в «око», то в «блок», то в «боль» пока, пройдя сквозь 12 знаков зодиака, не вывернется из нутра мироздания.
ЯБЛОКО – в нем два языка:
ЛЯ – музыка
и КОБОЛ – электроника.
Это ЛОБ и ОКО БЛОКа,
моделирующего БЛОКаду
на дисплее окон.
Так тупо топает мяч-БОЛ.
БОЛь, не смягченная мягким знаком,
потому что казнь несмягченная
есть знак —
КОЛ, пронзающий БОК,
в кругу славян, танцующих КОЛО.
Я выхожу из яблока,
оставляя провал – ОБОЛ,
плату за мое неучастие
в программе
под кодовым названием
«ЯБЛОКО».
Такой отказ от яблока Евы на самых потаенных глубинах языка заставляет вспомнить труды французского психоаналитика Лакана. Лакан считает, что на уровне подсознания каждое слово, как бы выворачиваясь через ленту Мёбиуса, порождает массу значений. В стихотворении Е. Кацюбы лента как бы прокручивается обратно из подсознания в сознание, стирая все 12 зодиакальных значений слова «яблоко».
Спектр метаметафоры ныне доходит до не различимых взором инфракрасных и ультрафиолетовых областей, от космических инверсий пространства к инверсиям звука и самой семантики слова.
У поэзии есть свои внутренние законы поступательного движения. Где-то в 30-х годах замолкли обэриуты, позднее забыли Хлебникова. Ныне движение началось с той самой точки, на которой остановились тогда. Первый мах небесного поршня, вышедший из мертвой точки,– поэзия А. Вознесенского. Ныне зеркальный паровоз метаметафоры двинулся дальше.
Зеркальный паровоз
шел с четырех сторон
из четырех прозрачных перспектив
он. преломлялся в пятой перспективе
шел к неба к небу
от земли к земле
шел из себя к себе
из света в свет
По рельсам света вдоль
По лунным шпалам вдаль
шел раздвигая даль прохладного лекала
входя в туннель зрачка Ивана Ильича
увидевшего свет в конце начала
он вез весь свет
и вместе с ним себя
вез паровоз весь воздух весь вокзал
все небо до последнего луча
он вез
всю высь
из звезд
он огибал край света
краями света
и мерцал как Гектор перед битвой
доспехами зеркальными сквозь небо...
(К. К. 1980.)
–
МЕТАКОД И ЛИТЕРАТУРА
И в Упанишадах, и в Апокалипсисе, и в «Голубиной книге» говорится о «космическом человеке», из которого возникает мир. Подобно Фениксу, горел и не сгорал Пуруша в индийских Упанишадах.
Весна была его жертвенным маслом, лето – дровами, а осень – самой жертвой...
Когда разделили Пурушу, на сколько частей он был разделен?
Чем стали уста его, чем руки, чем бедра, ноги?..
Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце...








