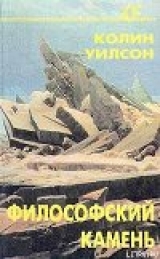
Текст книги "Философский камень"
Автор книги: Колин Уилсон
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Спасибо. – И затем: – Почему вы не испытаете это на себе?
– Мы собираемся, – сказал я.
– Хорошо. Вы этого заслуживаете.
Мы задавали ей дежурные вопросы. Хонор Вайсс отвечала вежливо, но в голосе свозила скука.
Она спросила:
– Где это? – И когда мы переспросили, что именно, уточнила: – Это. Вы же что-то сюда поместили, я чувствую. (О сплаве Нойманна мы не говорили ей ни слова).
Литтлуэй задал вопрос:
– Как бы вы описали то, что сейчас происходит?
Пациентка: – Я стала живее... Я никогда еще не чувствовала себя такой живой.
Литтлуэй: – Улучшилась ли у вас от этого память? Можете ли вы вспомнить свое детство, например?
Пациентка: – Если захочу. Только на самом деле не очень хочу. У меня ох есть о чем вспомнить, помимо этого.
Я: – Что вы думаете о своей попытке самоубийства в прошлом месяце?
Пациентка: – Я спала.
Я: – В каком смысле?
Пациентка (с плохо скрываемым нетерпением): – Как у лунатиков. Все равно что те пловцы в подводном балете.
В этом месте она задала несколько вопросов относительно операции, на которые мы без утайки ответили. Затем она сказала:
– Как вы считаете, мы могли бы воздержаться от вопросов минут хотя бы на десять? Мне сейчас очень о многом надо подумать.
Литтлуэй: – О чем, если не секрет?
Пациентка: – О своей жизни. У меня никогда не получалось толком подумать. Так много всегда эмоций. А сейчас я как бы освободилась, все равно что на каникулах: куда хочу, туда и иду, и никто не остановит. Хочу использовать возможность побродить налегке.
Секунду спустя она, не дожидаясь ответа, добавила:
– Все равно что получить десять минут на приборку бардака, который понаделала за свою жизнь.
Мы спросили, будет ли она отвечать на вопросы дальше, после того, как получит свои десять минут; показали, как пользоваться реостатом на случай, если вдруг возникнет дискомфорт, и, отойдя на несколько футов, повели между собой негромкий разговор. Хонор Вайсс отрешенно застыла, словно нас с Литтлуэем в комнате не было вообще.
Прошло десять минут, двадцать, полчаса. Через тридцать семь с половиной девушка подняла глава и сказала:
– Извините. Я веду себя как эгоистка.
Мы уверили, что все в порядке. Я осведомился о ее самочувствии.
– Что-то, боюсь, в сон клонит, – призналась она.
– У вас не сложилось впечатления, что мысли отнимают много умственной энергии?
– Не сказать чтобы. Не очень на то похоже. Это такой самозаряжающий процесс. Только я к нему не привыкла.
Литтлуэй: – Когда вы рассчитываете остановиться?
Пациентка: – Минут через пять, если не возражаете.
Литтлуэй: – Я понимаю, вам очень непросто описать свое теперешнее умственное состояние. Но, может, попытаетесь все-таки?
Пациентка: – Попытаюсь. Только суть здесь на самом деле не в описании. Это не принципиально. Важно то, что я сейчас сознаю.
Я: – Что вы сознаете?
Пациентка: – Что-то, о чем я всегда знала и во что мне верилось... Проще всего, наверное, будет сказать: поэты во все времена были правы. Я всегда любила музыку, поэзию, живопись, только на самом деле никак не понимала, что же они пытаются до меня донести. А донести они пытались вот что: в конечном счете именно большое, а не малое сохраняет достоверность (здесь примерно минутная пауза). Это же все, наверное, ужасно просто. Люди – по крайней мере, подобные мне – действительно бьются над ответом, стоит ли все оно того; есть ли и вправду какой-то прок от поэзии и музыки или это все так, подслащенная оболочка пилюли. Но мы всегда так безнадежно утянуты в круговерть обыденщины, что возможность толком рассудить так никогда и не появляется. Обыденщина загораживает вид. Великие поэты – они как оптимисты, которые без устали твердят: лучшие времена грядут. А мы в глубине души им не верим... Поэтому рутина тянет нас вниз, и хочется умереть, чтобы тебя не стало.
Я (перебиваю): – Как бы вы относились к смерти, если б всегда могли видеть дальше очерченного рутиной круга?
Пациентка (пауза): – Не знаю. Я думаю, смерть неизбежна. Но самоубийств бы не было, потому что... ну, это было бы ясно как на ладони. До вас бы дошло, чего бездумно лишаешься этим самым самоубийством. Только нам не хватает храбрости, потому и умираем...
Лицо Хонор на миг исказила боль, и она выдавила из себя:
– Саднить начинает.
Мы выключили реостат, отсоединили электроды и помогли ей перебраться в кресло. Едва успев сесть, девушка заснула. От меня не укрылось, что румянец не сходит с ее щек.
Понятное дело, меня теперь заботило в основном то, как скоро можно будет прибегнуть к операции. А вот Литтлуэй воспринимал эту затею без особого удовольствия. Начать с того, что коренные изменения в поведении произошли у Лонгстрита. Раньше от него буквально отбоя не было, настолько он навязывался для дальнейших экспериментов. Теперь им овладела апатия. Когда я однажды его на этот счет спросил, он ответил:
– Я б лучше жил как жил. В конце концов, чего уж я такого плохого натворил, а?
– А дочь ваша? – вставил Литтлуэй.
– Ну и что, ей разве плохо было? Она сама тоже тащилась. Тогда только сказала, что нет, когда люди пронюхали.
Литтлуэй воспринял это как признак рецидива. До операции Лонгстрит искренне каялся в содеянном кровосмесительстве, говорил, что был, видимо, не в своем уме, когда совершил его. Теперь же складывалось впечатление, что при возможности он и снова этим займется. Младшая дочь Лонгстрита – девица двадцати трех лет – отличалась на редкость низким уровнем интеллекта.
Мной беспокойство владело не в такой степени. Я догадывался, что Лонгстрит, видимо, о содеянном на самом деле никогда и не сожалел и теперь говорит начистоту. Кроме того, чувствовалось, что «рецидив» Лонгстрита отчасти можно объяснить и умственным истощением. Мозг постоянно был на взводе, как пружина, теперь он просто отходил в прежнее положение.
Беспокоило Литтлуэя и то, что Хонор Вайсс по мере увеличения числа тестов тоже стала выказывать все больше и больше напряжения. Спазмы наступали уже в считанные секунды после начала сеанса, Кусочек сплава к этому времени уже вышел из мозга, как и у Лонгстрита.
Однажды вечером мы с Литтлуэем за ужином об этом поспорили, Он утверждал, что операция может оказаться опасной, напомнил о Дике О'Салливане с его опухолью мозга, спросил, чем я могу объяснить головные боли Хонор Вайсс. Я согласился, что толком ничем, но заметил, что выяснить существует лишь один способ: кому-то из нас двоих подвергнуться операции. Литтлуэй заспорил, что требуются еще тесты и тесты, на что я сказал, что весь необходимый материал у нас уже собран, и теперь пора узнать именно то самое «почему», а не «как». И он, наконец, согласился.
27 февраля 1971 года Литтлуэй и Содди провели операцию на мне; обрили до темени голову, заморозили новокаином. Я все время пребывал в полном сознании, хотя когда откачали жидкость, перед глазами стало двоиться. Ничего не чувствовалось. Все два часа я неподвижно просидел в кресле, чувствуя небывалую расслабленность, граничащую со сном. Затем жидкость вкачали обратно, отверстия залепили. Рентген показал, что кусочек проник примерно на полдюйма, на этот раз ближе к правой фрактальной доле. (То, как именно сплав проникает в мозг, до сих пор неизвестно, хотя бесспорно, мозг удивительно мягок. Кажется вероятным, что он его каким-то образом впитывает: поверхность мертвого мозга не пропускает и гораздо более крупные частицы; только как именно это происходит, неизвестно).
Через четыре часа после операции просверлили второе отверстие и вживили электроды. Литтлуэй осторожно включил реостат.
Первое, что почувствовалось, это сам ток, наводняющий мозг. Ощущение не лишенное приятности: эдакая пузыристость, словно в аквариум наливают воду. Секунду спустя я отчетливо осознал непостижимо обострившуюся чувствительность, охватившую весь мозг. Уловил и местонахождение кусочка сплава, точно так, как угадывается пища в животе после того, как проглатываешь, или продукты выделения в кишечнике.
Ничего такого уж ошеломляющего в том, что возросла мыслительная способность, и не было. Очень похоже на ощущение, когда вспоминаешь вдруг что-то важное. Чувствовались умиротворенность и облегчение; представьте, например, человека, у которого сильная простуда, напрочь заложен нос, и тут вдруг глубокий вдох разом освобождает носовые проходы.
Я проделал уже такую бездну работы по феноменологии постижения ценности, что ничего из происходящего со мной сейчас не показалось мне ни странным, ни необъяснимым. Литтлуэй потом сказал, что с виду я не особо и изменился, так что несколько минут он даже сомневался, удался ли вообще эксперимент. Я сознавал, что поднимающиеся во мне силы – мои собственные. Но понятно было и то, почему Лонгстрит считал, что усиление вызвано исключительно током. Для всякого, у кого нет привычки к самоанализу, такое умственное «раскрытие» действует, должно быть, ошеломляюще. Есть в нем что-то от театрального действа; мне вспомнилось открытие рождественских пантомим, на которые меня водили в детстве: поднимается занавес, а там на сцене – и актеры, и костюмы, и декорации!
Довольно странно, но у меня не возникало ощущения, что все эти инсайты располагаются в коре именно фронтальных долей. Так или иначе, они задействовали все участки мозга, особенно гипоталамус.
Через первые тридцать секунд расслабленность сошла на нет, уступив место все скопляющейся силе и сосредоточенности. Вместе с тем я сознавал в себе способность проецировать эту сосредоточенность на цитадели мысли. Из всех сравнений самое наглядное здесь – внезапная прогалина света среди пелены густого тумана.
– Что ты ощущаешь? – послышался голос Литтлуэя.
– Обычное сознание.
– То есть все без изменений? – прозвучало удивленно и разочарованно.
– Что ты, изменение есть, да еще какое, Я же не сказал: «повседневное сознание». Я сказал: «обычное сознание». Так что ненормальным надо считать именно повседневное. А это вот и есть нормальное.
Часть вторая
Путешествие на край ночи
Прошел уже примерно год с той поры, как я не брался за свои мемуары. Слова, что на предыдущей странице, не были завершающими; после них я еще писал и писал – о ходе операции, об истинной природе моих инсайтов, о беседе с Литтлуэем. А затем понял, что продолжать ни к чему, так как окончательно очертился вопрос, над которым я раньше как-то не задумывался. Для кого я пишу? Для «обычных людей»? Или для людей будущего, тех, кто уже совершил эволюционный сказок? Если для последних, то объяснения мои звучат по большей части поверхностно; для первых – они толком ничего и не уяснят.
На вторую попытку меня подвигла цепь последовавших дальше событий.
Пришедшее ко мне в тот дождливый февральский день 1971-го озарение состояло в том, что использовать «невостребованные» области мозга нам мешает лишь простецкий трюк: как «включиться на передачу» (примерно то же, что с автомобилем, только мозгу на это самое «включение» требуется энергия, а она-то редко когда имеется у человека в наличии). Разъясним с помощью небольшой параллели. Мы все сознаем, что сексуальное желание нагнетается волевым усилием, то есть интенционально. Можно совершенно произвольно направить мысли на какой-нибудь сексуально стимулирующий предмет и вызвать эротическое возбуждение. Но если пытаться делать это в состоянии усталости или похмелья, результат получится гораздо более скромный, чем когда чувствуешь себя здоровым и бодрым.
Потому что при усталости становится просто меньше доступной энергии.
Мистический экстаз также можно вызывать произвольно, в теории так же легко, как и сексуальное возбуждение. Тогда почему такие состояния столь редки? Потому что они сжигают еще больше энергии, чем сексуальное возбуждение. И вот почему происходят они в основном у молодых. Но если у меня есть мощное электрическое устройство, требующее тока сильнее обычного, я просто ставлю трансформатор. Надо лишь полностью удостовериться, что имеется электричество, необходимое для эксплуатации такого устройства.
Так вот, причина, отчего сплав Нойманна дает такую умственную интенсификацию, должна быть очевидна. Сплав действует как трансформатор и производит в мозгу легкий «толчок», очень схожий с облегченностью, какую чувствуешь тогда, когда исчезает какой-то кризис или происходит что-нибудь неожиданно-приятное. Он, по крайней мере, напоминает коре передних долей об этой вспышке удовольствия. По своей сути небольшой электрический разряд вреден: при слишком большой продолжительности он начинает разрушать мозговую ткань. Легкой встряски памяти уже достаточно. Мозг вскоре осваивает этот трюк включения на передачу, скопления силы воли и «нагнетания» мистического ощущения – так же легко, как «нагнетание» сексуального желания.
Вот почему уже после второго сеанса с электродами мне больше не требовалось этого искусственного стимулятора. Я велел Литтлуэю вынуть их и вслед за тем удерживал ощущение одной лишь волей.
По мере повествования все это станет яснее. Для начала хватит и этого фрагментарного пояснения.
А как же с проблемой, послужившей началом этих исследований – процессом старения? Откуда мне на данном этапе знать, решена ли она.
Я могу лишь заявить, что все обстоит так. Шоу как-то заметил, что люди умирают из-за лени, судорожного поиска уверенности и неумения устроить жизнь так, чтобы она была полноценна. Со своей интуицией поэта он подошел к решению проблемы ближе любого из ученых-геронтологов, работавших сплошь под одним и тем же фальшивым лозунгом, что жизнь, по сути, – набор химических элементов. Люди умирают по той же самой причине, что и засыпают: чувства, когда их нечем занять, от скуки замыкаются. А вот человек, глубоко чем-то заинтересованный, способен бодрствовать всю ночь.
Я уже объяснял, что альфа-ритмы мозга представляют собой эдакий «шум мотора», все равно что автомобиль на холостом ходу. Стоит на что-то посмотреть, как эти волны прекращаются: автомобиль включается на передачу. Если долгое время находиться в темноте, они тоже прекратятся, но это уже потому, что мотор перестает работать.
Взрослый отличается от ребенка и животного одним важным качеством. Когда его глубоко занимает какая-то проблема, требующая интеллекта или воображения, альфа-ритмы также прекращаются. Мозг интеллигентного человека может включаться «на передачу» без обязательного присутствия зрительной опоры. Однако общеизвестно, что такая сосредоточенность не может удерживаться долго. Наша умственная энергия скудеет. Почему это происходит? В этом ключ ко всей загадке. Скудеет она не потому, что приходится использовать всю свою доступную энергию, при необходимости сосредоточенность можно поддерживать часами. Нет, скудеет она потому, что сужается диапазон чувства. Разумеется, сосредоточенность всегда сопровождается определенным сужением; само слово это подразумевает. Только попятное это движение, раз начавшись, уже необратимо. Мы пытаемся экономить на энергии, все равно что нерадивый работник, впопыхах выполняющий работу наспех. Каждому известно, что происходит, если пытаться в один присест одолеть длинную книгу: еще задолго до конца читается уже вполглаза, перескакиваешь, торопишься, и умственная энергия в итоге постепенно выхолащивается – истощение внимания, способное привести к своего рода умственной диспепсии.
Используем уже знакомую образность: при наличии глубокого интереса сознание у нас подобно прожектору, наведенному на изрядный по величине сектор тенет или невода. Можно выдать множество «соотношений». По мере того, как внимание ослабевает, луч прожектора сужается, вплоть до того, что начинает охватывать в конце одну лишь единственную ячею невода. Когда такое происходит, чувствуется умственная усталость.
На том же основана и главная причина старения. В молодости чувства у нас распахнуты настежь; жизнь прекрасна и удивительна; мы полны предвкушения: а что там дальше? Широк и диапазон прожектора внимания. С возрастом начинаешь ощущать, что уже знаешь наперед, что сулит завтрашний день. И внимание постепенно идет на убыль, так что эдакая скука от жизни становится обыденным состоянием, которое воспринимается как должное.
То основное, что я пытаюсь здесь наглядно разъяснить, нашим внукам будет казаться таким очевидным, что они будут дивиться, как вообще такое могло когда-то быть неизвестным. А именно, что жизнь удерживается волей. Всякое живое существо – это столкновение воли и привычки, свободы и автоматизма, человек достиг покуда самой высокой степени свободы; все прочие животные в сравнении с ним просто механизмы. Но именно автоматизм – вкрадчивый, ползучий – убивает.
Механизм побеждает; человек утрачивает волю, батарейки постепенно садятся, и свет тускнеет...
Теперь должно быть ясно, почему я с уверенностью могу утверждать, что решил основную проблему старения. Существуют еще и другие проблемы, относящиеся непосредственно к физическому старению: разрушение клеток организма космическими лучами и так далее. Это все решаемо. Решено главное: контроль над силами передних долей мозга – способность самопроизвольно регулировать луч внимания, максимально охватывая взором пространство «невода». Гнетущий автоматизм низвергнут, эмоциональным поэтам нет больше надобности призывать «огнем клокотать против гибели света». У нас под контролем выключатель.
Я не буду вдаваться в подробности моего инсайта и ощущения в те первые дни после эксперимента. Это будет так же нудно, как получать от друзей открытки к празднику, где все про одно и то же: как все хорошо. Кроме того, дело здесь не в удовольствии. Изменился умственный баланс. Получилось так, что я лишний раз утвердился в приверженностях, которые и без того уже ставил во главу угла. Я был извечным поклонником идей, мир вещей казался мне сравнительно скучным. У меня никогда не возникало соблазна сжигать до дна свой эмоциональный запас, как Хонор Вайсс, или претворять в дело свои умеренно извращенные сексуальные фантазии, как Захария Лонгстрит. Хотя бывали и периоды отчаяния, когда казалось, что все это – сплошное заблуждение; теперь я знал, что подобное со мной никогда не повторится. Солнце взошло, я мог видеть свой путь.
И в этом было все. Приятное состояние, но не так уж отличающееся от предыдущего. У меня и так не было в мыслях по десять раз на дню вызывать мистические экстазы. Здоровье видится абсолютно нормальным и естественным тем, у кого оно есть; так же и я относился к своему новому состоянию. Я работал как динамо-машина, ежедневно по многу часов отводя работе за письменным столом, и заметно похудел, так как тело избавилось от жировых излишков, утратил интерес к алкоголю (люди выпивают, чтобы вызвать состояние, которое я теперь мог вызывать обыкновенным усилием воли); стал еще и вегетарианцем. Оказалось также, что четыре-пять часов сна для меня вполне достаточно. Предположение Шоу насчет того, что его «долгожители» расстанутся со сном вообще, основано на неверном понимании функции сна: очищать файлы нашего ментального компьютера с помощью глубокого отдыха и сновидений. Однако при необходимости я мог обходиться без сна дни и недели.
Самым примечательным, пожалуй, новым свойством в те первые месяцы было мое неотступное предощущение будущего, простирающееся вперед на тысячелетия. Уэллс однажды разделил людей на тех, кто живет в настоящем, и тех, для кого будущее – реальность. Но даже для таких, как Уэллс, будущее обретает черты реальности лишь через длительные интервалы в единой вспышке интенсивности. У меня же теперь была причина полагать, что я, не исключено, являюсь первым «долгожителем» Шоу; мне было видно, что у жизни нет четко обозначенных ограничений, она – соотношение свободы и автоматизма, которое я решительно изменил; теоретически я мог бы считаться бессмертным, если только не возникнет каких-то непредвиденных проблем. Это была завораживающе странная идея. Мы все так свыкаемся с мыслью о смерти, с тем, что нас не будет в живых, когда внуки достигнут среднего возраста, что все наши размышления насчет двадцать первого века выглядят в какой-то степени безотносительно, поскольку дожить до него доведется из нас лишь немногим. Мы с легким любопытством прикидываем, что же будет с Землей еще через несколько столетий, но это едва ли нас трогает. Теперь мне открылось, что я, не исключено, буду по-прежнему жив и в двадцать пятом веке. И куда более того. Поскольку рано или поздно за счет интеллекта я, очевидно, выдамся в лидеры, то мне, вероятно, уготована беспрецедентная роль в истории будущего. Эту мысль я воспринимал без особого энтузиазма; здесь я всегда соглашался с Йитсом, по которому «так расцветает истина, где просвещенья свет»; вовлечение же в людскою круговерть действует на меня удручающе. Лишь нехитрый реализм заставлял меня смириться с фактом, что рано или поздно жизнь поставит меня мировым лидером над этими детсковатыми созданиями, зовущими себя людьми.
По логике, следующим шагом было сделать операцию Литтлуэю. Однако он был осторожен. И мои заверения никак не действовали. Не то чтобы он сомневался в моих словах; я просто догадывался, о чем он думает: мозг – инструмент необычайно тонкий, и спаси-помилуй, если эта грубая терапия с введением инородного тела, да еще с электрическими разрядами, вызовет расстройство, поначалу хотя и незаметное.
Кроме того, как я уже говорил, ни Захария Лонгстрит, ни Хонор Вайсс не пожелали продолжить сеансы. Хонор Вайсс, по видимому, окончательно «излечилась» от суицидных мыслей и депрессии в обычном смысле. Я знаю точно, почему она решила отказаться от дальнейших экспериментов. Под воздействием сплава Нойманна она смогла увидеть, что именно не так в ее беспорядочной эмоциональной жизни, открылся и ответ: ей хватает интеллекта достичь интенсивности, не обязательно основанной на эмоциях. С Лонгстритом, естественно, все было по-иному; ему «видение» могло показать лишь то, что для него лучший выход – смерть. А у Хонор Вайсс рассудок притуплен не был, и она была молода. Она отшатнулась от ответственности так, как свойственно эмоциональным натурам. Она предпочла укрыться в своем теплом и влажном гнездышке эмоций и «обычности».
Так поступает большинство людей. Вот почему существует смерть, эволюция отставляет тех, кто не принимает ее велений.
В общем, Литтлуэй на весь год отказался вести разговоры о своей операции. Торопить его я не видел смысла. Рассуждал он ясно, без малейшего намека на интеллектуальный упадок. Он и сам до всего дойдет.
Тем временем научную работу я, можно сказать, забросил. Предстояло столько переосмыслить, что эксперимент казался никчемной тратой времени.
Коллеги и студенты особой перемены во мне не заметили, разве то лишь, что я стал более жизнерадостным. Неудивительно. Представьте себе, скажем, тот покой и внутреннюю окрыленность, которую сообщает великая музыка Брукнера в трактовке Фуртвенглера: ощущение широких горизонтов, невероятной красоты и многоплановости жизни. Теперь это сопровождало меня неотступно. Я видел цель человеческой эволюции ясно, как собственную ладонь, еще долгие сотни лет она будет направлена на рост осознания того, что мы уме достигли. Это может уяснить любой, хоть немного вникающий в кибернетику. Кибернетика – наука о том, как заставлять машины думать самостоятельно – или, по крайней мере, имитировать это своими действиями. Поезду думать за себя не приходится – он бежит по рельсам, не дающим ему изменить курс. А вот управляемой ракете или самолету на авто-пилоте приходится постоянно учитывать окружающую обстановку и мобильно приспосабливаться к новым условиям. Так вот, люди в большинстве живут подобно поездам – катят себе сквозь жизнь, не сходя с рельс общего уклада и привычки. Вот уж несколько столетий эволюция метит создать новый тип человека, который видел бы мир обновленными глазами все время, мог бы перестраивать свой ум по сотне раз на дню, видя необычное в привычном. Мы ведем войну, бьемся против материи и автоматизма, До сих пор мы боролись вслепую и машинально. Настала пора повести бой в открытую и биться всеми резервами ума.
Вот что день за днем занимало меня в том судьбоносном 1971-м году, Но были еще и практические вопросы. Я хотел, чтобы ко мне присоединились другие. Первоочередной задачей виделось отыскать с десяток человек, которым можно доверять (Алек Лайелл был бы просто идеальным), и сделать им операцию на фронтальные доли. Вот оно, семя, которое требовалось срочно посеять.
Нелепо; я даже не подозревал настоящего потенциала нашего открытия. Я чувствовал, что энергия, жизненность и целеустремленность выросли во мне десятикратно; этого казалось достаточно.
Как раз накануне Рождества 1971-го Литтлуэй решил рискнуть и прооперироваться. По мне явно не прослеживалось никаких дурных последствий, и рассудок наверняка не пострадал. Мы планировали на Рождество возвратиться в Англию и по меньшей мере года два никуда не выезжать. Операцию с тем же успехом можно было проделать и там, как и в любом другом месте. Но в Висконсине была уже собрана аппаратура, кроме того, у нас была и помощь Гарви Гроссмана. Он был еще скептичнее Литтлуэя, однако его консервативный, эмпирический подход прошлом часто оказывался по-своему полезен.
Литтлуэй нервничал. Он, наверное, столько мыслей передумал о последствиях операции, что уже заранее настроил себя на неблагополучный исход. А все прошло как надо. Опять без труда впиталось зернышко сплава Нойманна. По настоянию Литтлуэя, кусочек использовался гораздо меньших размеров, чем прежде (он опасался, что появится раздражение, которое закончится кровоизлиянием в мозг). На силу эффекта в целом это не повлияло. Когда по электродам был пропущен ток, на лице у Литтлуэя обозначилось приятное удивление. Он рывком повернул было ко мне голову, но к счастью, ему не дали это сделать тиски с обивкой. Литтлуэй ничего не сказал; просто сидел, полностью расслабившись; лицо помолодело лет на двадцать. Наконец он подал знак вынуть электроды и сказал мне:
– Ладно, ты был прав. Извиняюсь.
После этого дальнейших сложностей с Литтлуэем не возникало, хотя ему больше, чем мне, пришлось потрудиться, чтобы научиться усилению без помощи электродов. Видимо, потому, что Литтлуэй на двадцать лет старше меня и в нем крепче укоренился стереотип привычки, или, может, от того, что психологически мозг мозгу в каком-то смысле все же рознь. Заодно с Литтлуэем и я как бы перенес всю операцию заново: был момент, когда он всерьез усомнился, можно ли вызвать инсайт без помощи тока. Но примерно на четвертом по счету сеансе он сказал:
– По-моему, я вник, уберите электроды.
И он действительно вник. После этого я оставил Литтлуэя одного почти на сутки. Я знал, что ему предстоит о многом поразмыслить, заново прочувствовать. Может показаться странным, но в ту ночь я начал подозревать, что мы, вероятно, коснулись лишь верхушки айсберга, что касается возможностей нашего открытия.
Произошло это достаточно ординарно. Мне снилось, что я вроде как получил заказ на сочинение фортепианного концерта (за всю свою жизнь я не сочинил ни такта). В самой что ни на есть кульминации сна я сел за пианино, махнул рукой оркестру, и полилась музыка – диковинная. Проснулся я, все еще помня ее отзвуки, причем знал, что это именно моя музыка, а не что-то из моих любимых композиторов.
Я лежал в постели, раздумывая над этим. Меня никогда глубоко не занимала природа снов, они казались мне ночной вариацией грез, наделенных незаслуженной достоверностью, покуда их не гасит разоблачающий свет дня. Иными словами, напоминает рассказ, который рассказываешь сам себе. Но откуда в таком случае взялась музыка? Вспомнилась история с Колриджем и его «Кубла Ханом»[120]120
«Кубла Хан» (1816) – поэма С. Колриджа, написанная в состоянии наркотического транса.
[Закрыть], в которую я никогда особо не верил; теперь она не казалась мне такой уж малореальной.
Да, действительно, сны в основном – не более чем фантазии спящего ума. Однако некоторым из них присуща реальность, элемент сюрпризности, подразумевающий какой-то более глубокий уровень психики, и, задумавшись, я понял очевидность этого. Да, бодрствующий ум, возможно, и гибок, но он не созидателен в подлинном смысле.
От этой внезапной догадки я просто оторопел. Вот он я, Говард Лестер, лежу у себя в постели и вроде как четко сознаю свою сущность. А вместе с тем там, под поверхностью моего сознания – даже под пластом интуиции, теперь мне доступным, – находится еще один Говард Лестер, имеющий больше права зваться моим именем. Я так, самозванец, а вот он и есть «настоящий Я».
Странноватое ощущение: чувствовалось, что твоя «подлинная сущность» кроется глубоко в тебе, словно какое-нибудь чудовище на дне моря. И одновременно с тем я ясно увидел, что новое мое качество владения собственным мозгом никак не сблизило меня с этим скрытым «Я». Я почти постоянно ловил себя на том, что подспудно сознаю некую «связанность» со Вселенной, свою принадлежность, инстинктивную связь с окружающим видимым миром и еще одним, тайным, что кроется под ним. Но сокровенная сущность лежит гораздо глубже.
Я не беспокоил Литтлуэя и на следующий день. Часа в четыре вечера он позвонил мне и попросил прийти к нему домой. Он жил в приятном для глаза, окруженном липами дощатом строении рядом со студенческим городком. Дверь открыл чернокожий домработник. Литтлуэй сидел в постели у себя наверху в комнате, выходящей окнами на запад; подоконник и раму золотил предвечерний декабрьский свет. Я замер, глядя на Литтлуэя распахнутыми глазами. Перемена с ним произошла просто неописуемая. Работая с человеком бок о бок вот уж несколько лет, я считал, что изучил уже каждую черточку на его лице. Теперь я готов был поклясться, что передо мной другой человек, имеющий с Литтлуэем изумительное сходство – возможно, двойник, – только совсем другого толка человек. Я уже говорил, что Литтлуэй походит на фермера – эдакого
пышущего здоровьем, сметливого, юморного – живая иллюстрация Джона Булля[121]121
Джон Булль – герой памфлетов английского публициста Джона Арбетнота (1667 – 1735) «История Джона Булля», символ упрямого и корыстного англичанина.
[Закрыть]. Не потому, что Литтлуэй под это «играл», просто это на самом деле был он. Этот же, передо мной, имел вид кроткий, интеллигентный, невинно-мечтательный. Бледность лица еще больше усугубляла эффект.
Эта «подмена личности» сохранилась и по сей день, будто мы вот только что в канун Рождества уехали из университета Висконсина. Коллеги сочли бы его за подставное лицо. Даже сейчас я никак не могу свыкнуться: слышу его голос за дверью, и он входит в комнату; я жду того, «старого» Литтлуэя, а входит его «двойник». Первые его слова:
– Ох уж и терпения у тебя было со мной, а? И неужели никогда не подмывало обложить меня «дуралеем чертовым»?
Я заверил его, что и в мыслях не было. Домработник принес нам чая (увы, из пакетиков), и мы прервали разговор. Затем Литтлуэй возобновил его уже на более серьезной ноте.








