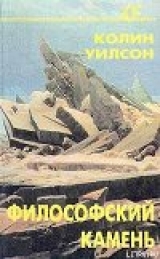
Текст книги "Философский камень"
Автор книги: Колин Уилсон
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Философский камень
Вступительное слово
Свое предисловие к пьесе «Назад к Мафусаилу» Бернард Шоу закончил надеждой, что «сотня более годных и более элегантных притч, написанных руками помоложе, вскоре оставят мою... далеко позади». Быть может, мысль о том, чтобы попытаться оставить Шоу далеко позади, отпугнула потенциальных соперников. Или, возможно, (что в целом более вероятно); «руки помоложе» просто не интересует написание притч о долгожительстве, да и вообще притч как таковых. Большинство моих современников, похоже, чувствуют стойкую уверенность, что мышление и написание романов несовместимы и что увлеченность идеями чревата дефицитом творческих качеств. А поскольку критикам также по нраву муссировать эту идею – очевидно, из-за какого-нибудь оборонительного трейд-юнионизма, – она, похоже, достигла в современной литературе статуса закона.
Так вот, ни у кого нет более проникновенного уважения к критикам, чем у меня, равно как и стремления постоянно звучать на манер оплачиваемого члена литературного истэблишмента. Но мне очень нравятся идеи. И это, похоже, дает мне довольно странный вид на современную литературу. Я подозреваю, что Герберт Уэллс является, вероятно, величайшим романистом двадцатого века и что его самые интересные романы – пусть не обязательно лучшие – это романы, написанные в последние годы. Насчет Шоу быть объективным я совершенно не могу; мне он кажется просто самым великим европейским писателем со времен Данте. И у меня абсолютно нет симпатии к эмоциональным или личностным проблемам, являющимся, по-видимому, неотъемлемым атрибутом современной пьесы или романа. Г-н Осборн сказал как-то, что его цель – заставить людей чувствовать. Мне бы хотелось заставить их перестать чувствовать и начать думать.
К счастью для меня, во мне нет ни оригинальности, ни творческого духа, поэтому я могу себе позволить игнорировать современные правила. Есть и еще один фактор в мою пользу. С той поры, как Шоу написал «Назад к Мафусаилу», научная фантастика стала устоявшимся жанром, и даже вполне респектабельным. Так что в недавние годы я случайно спохватился, что пишу несколько скромных работ в жанре научной фантастики.
Должен объяснить, как это произошло. В 1961 году я писал книгу под названием «Сила к мечте» – изучение творческого воображения, особенно у авторов фэнтези и историй ужасов. Большая часть книги была неизбежно посвящена творчеству Лавкрафта, затворнику города Провиденс в Род Айленде, умершему от недоедания и рака кишечника в 1937 году. Я указывал, что Лавкрафт владеет мрачной силой воображения, которая сравнима с манерой По, хотя он преимущественно писатель изуверства; его работы в основном публиковались в «Жутких историях» – второсортном журнале, и его творчество, в конце концов, привлекательно больше как история болезни, чем как литература.
Случилось так, что экземпляр моей книги попал в руки старого друга и издателя Лавкрафта – Августа Дерлета. И Дерлет мне написал, протестуя насчет того, что моя оценка Лавкрафта слишком жесткая, а заодно и спрашивая, почему я, коли уж я такой хороший, сам не попробую написать «лавкрафтовский» роман. А ответом здесь то, что я никогда не пишу, абы писать. Я пишу так, как математик использует лист бумаги – для вычислений, потому что мне так лучше думается. Романы же Лавкрафта подразумевают не идеи, а эмоции – эмоции буйного и полного отвержения нашей цивилизации, которых я, будучи по темпераменту довольно жизнерадостным, не разделяю.
Однако спустя пару лет аналогия, проскочившая в моем «Введении в новый экзистенциализм», стала семенем научно-фантастической притчи о «первородном грехе»– странной неспособности человека добиться максимума от своего сознания. Я облек ее в традицию Лавкрафта, и она
стала романом «Паразитами сознания», который должным образом был опубликован Августом Дерлетом. Английской критикой книга была встречена неожиданно хорошо; подозреваю, потому, что я не звучал серьезным тоном.
Поэтому, когда через два года я заинтересовался вопросами физиологии мозга – как сопутствующим продуктом романа о сенсорной депривации, – мне показалось естественным некоторые из этих идей развить еще в одном «лавкрафтовском» романе. Кроме того, с той самой поры, как я в одиннадцать лет прочел «Машину времени» Уэллса, я грезил написать решительный роман о путешествии во времени. Путешествие во времени – неизменно заманчивая идея, только звучит всегда уж очень несообразно. Даже когда ее использует мой друг Ван Вогт – самый мой любимый из современных писателей фантастов, – то и он придает ей звучание шутки. Вопрос о том, как придать этой идее убедительность – вот уж поистине барьер.
Казалось бы, головокружительная мешанина: Шоу, Лавкрафт, Уэллс, – но это то, в чем я нахожу огромное удовольствие. По сути, я так увлекся, что роман в сравнении со своим планировавшимся первоначально объемом разросся вдвое. Но и при этом я вынужден был отдельную его часть выделить в виде короткого романа, который также был опубликован Августом Дерлетом.
Последнее слово. У Лавкрафта условие игры: как можно ближе придерживаться естественных источников и никогда не изобретать факта, когда можно добыть какой-нибудь, пусть ненадежный, книжный источник. Я бы мог со скромностью сказать, что в этом конкретном случае превзошел Лавкрафта. Без малого все цитируемые источники подлинны, единственное крупное исключение составляет Ватиканский манускрипт, но и при этом существует значительное количество археологических свидетельств, мотивирующих гипотетическое содержание этого манускрипта. Рукопись Войнича, безусловно, существует и до сих пор не переведена.
Сиэттл – Корнуолл, ноябрь 1967 – июль 1968
«Но талант [Колина Уилсона] не в "творческом духе . Его талант – в книгах наподобие "Постороннего, причем не потому, что "Постороннии содержит какую-то оригинальную мысль» (Джон Брэйн, <Современным романист», обращение к Королевскому Обществу Искусств, 7 февраля 1968
Часть первая
В поисках абсолюта
Читая на днях книгу по музыке Ральфа Воана Уильямса[1]1
Воан Уильямс Ральф (1872 – 1958) – английский композитор, основатель новой школы в английской музыке.
[Закрыть] – под пластинку его замечательной Пятой симфонии, – я случайно остановился на следующих словах: «Всю жизнь я боролся за то, чтобы преодолеть дилетантство в своей технике, и вот теперь, когда, похоже, этого достиг, мне кажется, что воспользоваться этим уже поздно. Помнится, слова великого музыканта растрогали меня едва ли не до слез. Сам он умер где-то в восемьдесят шесть, хотя в плане актуальности – уровня музыки, которую он писал последние десять лет жизни, – замечание распространялось и на два предыдущих десятилетия. И я подумал: а что если по какой-нибудь счастливой случайности Воан Вильямс прожил бы еще лет двадцать пять... или, до– пустим, родился четвертью века позже, Смог бы я донести до него что-нибудь из того, что мне доступно на сегодня, а он бы тем временем жил и творил свою великую музыку? Случай с Бернардом Шоу[2]2
Шоу Джордж Бернард (1856 – 1950) – английский писатель, прославился как автор философских пьес. «Метабиологическая» драма «Назад к Мафусаилу» написана им в 1918 – 20 гг.
[Закрыть] и того нагляднее: к великому открытию он приблизился в пьесе «Назад к Мафусаилу» и в свои восемьдесят с небольшим шутливо замечал, что служит доказательством своей же теории насчет того, что человеку под силу дожить и до трехсот. Вместе с тем, он же, лежа два года спустя со сломанной ногой в больнице, произнес: «Хочу умереть, а вот не могу, не могу». Шоу был совсем уже близок, но он был один; человеку же, когда он в одиночестве, подчас недостает последней, решающей крупицы уверенности. Хватило бы у Колумба отваги достичь Сан-Сальвадора[3]3
Сан-Сальвадор (бывший Гуанахани) – остров в архипелаге Багамских островов, первая земля, открытая Х. Колумбом в 1492 г.
[Закрыть], плыви он на своей «Санта-Марии»[4]4
«Санта-Мария» – так называлась флагманская каравелла Х.Колумба.
[Закрыть] в одиночку?
Именно этот ход мысли и исполнил меня решимости изложить историю моего открытия точно в таком порядке, в каком она происходила. Тем самым я нарушаю обет хранить все в тайне, однако прослежу, чтобы повествование не попало к тем, кому оно может оказаться во вред, – иными словами, к большинству рода человеческого. Существовать же оно должно, пусть даже ему никогда не суждено выйти за пределы банковского сейфа. Графитовый набросок памяти с каждым годом становится все тоньше и тоньше.
Родился я в 1942 году в ноттингемширском поселке Хакналл Торкард. Отец у меня работал инженером-наладчиком на шахте «Биркин Бразерс». Тем, кто читал Д. Лоуренса[5]5
Лоуренс Дэвид Герберт (1885 – 1930) – английский писатель, автор психологических романов, запрещенных в свое время цензурой.
[Закрыть], название это знакомо; Лоуренс фактически родился в свое время по соседству, в Иствуде. В Хакналле похоронен в фамильном склепе Байрон, и в те времена к Ньюстедскому[6]6
Ньюстед – родовое поместье Дж. Байрона в графстве Ноттингемшир; близ него, в местечке Хакналл погребены останки поэта, умершего в Греции.
[Закрыть] аббатству – его дому – дорога все еще пролегала через типичный шахтерский поселок, сплошь невзрачные одноэтажные домишки. Декорация, на первый взгляд, романтичная; хотя какая может быть романтика среди грязи и скуки. Так что память о первых десяти годах жизни ассоциируется у меня с грязью и скукой. На память приходит шум дождя, запах рыбы и чипсов осенними вечерами и субботняя толчея у местной киношки. Я побывал в тех местах неделю-другую назад; все там до неузнаваемости изменилось. Теперь это пригород Ноттингема, с аэропортом, метро, вертолетными станциями на крышах высотных зданий. Тем не менее, не могу сказать, что перемена меня огорчила; стоит лишь прочесть несколько страниц «Радуги»[7]7
«Радуга» – роман Д. Г. Лоуренса, изданный в 1915 г.
[Закрыть], чтобы вспомнить, как ненавидел я эту дыру.
Все свое детство я разрывался между страстью к математике и к музыке. В математике я преуспевал всегда. Первую свою логарифмическую линейку я получил в подарок от отца на Рождество, еще когда мне было шесть лет. И, как большинство математиков, я был, можно сказать болезненно восприимчив к музыке. Помнится, как-то вечером, идя с охапкой библиотечных книг, я приостановился возле церкви, заслышав звучание хора. Там, очевидно, шла репетиция (скорее всего, какая-нибудь ахинея из Уэсли или Стэйнера[8]8
Уэсли, Стэйнер – английские композиторы эпохи Возрождения, авторы церковной музыки.
[Закрыть]), поскольку пропевался все один и тот же пассаж из полдесятка нот. Эффект был поистине магический; в студеном ночном воздухе голоса звучали отрешено и загадочно, словно скорбя о людском одиночестве. Внезапно я поймал себя на том, что плачу, и не успел я прекратить, как чувство наводнило меня и хлынуло, точно через прорванную плотину. Поспешив в церковный двор, я бросился на траву, где можно было как-то заглушить рыдания, и зашелся в безудержном, судорожном чувстве, да так, будто меня трясли за плечи. Удивительное это было ощущение. Идя потом домой (на душе – покой и странная легкость), я никак не мог взять в толк, что же такое со мной произошло.
Из-за моей любви к математике и способности проворно вычислять отец решил, что я должен стать инженером. Затея показалась мне разумной, хотя сама работа с техникой представлялась чем-то скучным. То же самое я почувствовал, когда отец взял меня с собой на шахту и показал машины, которые обслуживал. Мне вдруг показалось ужасно тщетным расходовать вот так жизнь в присмотре за массой мертвого металла, отслеживая, чтобы он функционировал более-менее на уровне. Для чего это все? Хотя возразить отцу что-либо внятное я не мог. Свободное время проходило у меня в основном за слушанием записей Доулэнда и Кэмпиона[9]9
Доуленд, Кэмпион – см. выше.
[Закрыть]; учился я и выдавливать мелодии Мессы на соседском электрооргане. Разумеется, музыка и близко не равнялась технике; стать посредственным исполнителем было бы моим потолком.
Я отчетливо помню то время, когда меня неожиданно поразила мысль о смерти. Я взял в библиотеке книгу о музыке прошлого. Меня почему-то неизменно околдовывала своей странной притягательностью холодная ладовая музыка Средневековья. В главе по древнегреческой музыке я открыл для себя «Застольную песнь» Сейкила, где в тексте звучит следующее:
Жизни солнце пускай светит тебе с улыбкой,
От боли и скорби вдали.
Жизнь так, увы, коротка.
Смерть – вездесущий дракон – ждет утопить тебя
В море земли.
Насчет «дракона» – гигантского мифического спрута – я слышал; знал о нем, очевидно, и Гомер (спрутом, скорее всего, считается Сцилла). Строки эти вызвали в душе холодок. Все равно, я отправился к нам на чердак и попробовал наиграть «Застольную песнь» на стареньком пианино, избрав для этого фригийский лад[10]10
Фригийский лад – одна из ладовых разновидностей античной музыки.
[Закрыть]; и так продолжал до тех пор, пока не очертилась форма мелодии. И снова в душу вселился холод; играя, я сбивчиво произносил слова вслух, чувствуя ту же немыслимую печаль, безбрежность пространств – то, что открылось мне там, на церковном дворе. И тут в уме прозвучало: «Что ты делаешь, глупец? Ведь это не литературная метафора, это истина. Из всех живущих в мире сегодня нет ни единого, кто останется в живых через сотню лет...» И мне разом, внезапно открылась реальность, правда о моей собственной смерти. От ужаса у меня буквально перехватило дыхание. Руки плетьми обвисли на клавиатуру, даже на стуле сидеть без опоры стало немыслимо трудно. И тут впервые за все время я понял, почему мысль о технике казалась мне тщетной. Потому что это – потеря времени. Время. Оно не стыкуется с реальностью. Все равно что открывать и закрывать рот, храня при этом молчание. Несообразность. Стрелка на моих часах тикает, словно часовая мина, возглашая суровый ультиматум жизни. А что делаю я? Учусь присматривать за машинами на шахте «Биркин»? Я знал, что инженером мне не быть никогда. Но если не это, то что? Что будет сообразным?
Странность была в том, что мой ужас нельзя было назвать беспросветным. Где-то глубоко внутри мерцала искорка счастья. Видеть пустоту вещей – в этом есть нечто возвышенное. Может, потому, что, осознав тщетность, смутно догадываешься, что где-то существует и ее противоположность. Я понятия не имел, в чем она, эта «противоположность». Лишь догадывался, что «Настольная песнь» Сейкила в чем-то превосходит математику, хотя бы тем, что составляет задачу, которую нельзя сформулировать математически. В итоге сложилось так, что мой интерес к науке ослаб, а страсть к музыке и поэзии окрепла еще больше. Но разрыв остался скрытым, и через день-два я о том забыл.
Более всего в жизни я обязан сэру Алистеру Лайеллу, о ком написал немало в других своих работах. С ним мы познакомились в декабре 1955-го, когда мне было тринадцать лет; с тех пор до самого конца своей жизни, оборвавшейся через двенадцать лет, он был мне самым близким из всех людей, включая отца и мать.
Осенью 1955-го я стал петь в хоре церкви Святого Фомы. Это был хор англиканской церкви, хотя семья у нас – если религия вообще имеет к ней какое-то отношение – считалась методистской; петь меня, впрочем, пригласил сам Мак-Эван Франклин – хормейстер, широко известный в музыкальных кругах Ноттингема. В то время у меня был чистый сопрано (сломался он лишь к шестнадцати годам), и нас было с полдюжины мальчиков, часто певших в школьной капелле. Франклин слушал нас в июле, в конце второго полугодия, и всех нас спросили, не желаем ли мы петь в хоре Святого Фомы в следующий, зимний концертный сезон, Франклин напланировал себе сезон с размахом: «Иуда Маккавей»[11]11
«Иуда Маккавей» – оратория Г.Ф. Генделя (см. ниже).
[Закрыть], мотеты ди Лассо[12]12
Лассо Орландо ди (ок. 1532 – 1594) – фламандский композитор, с 1564 г. – капельмейстер в Мюнхене, автор месс, мотетов и др.
[Закрыть], мадригалы Джезуальдо, кое-что из Бриттена[13]13
Бриттен Бенджамин (1913-1976) – английский композитор, писавший также музыку для церковных хоров.
[Закрыть]. Мотеты и мадригалы должны были звучать в «живой» трансляции по третьей программе Би-Би-Си. Четверо мальчиков интереса не проявили, а вот мы с еще одним вступили в хор. Я солировал в «Missa vinum bonum» Лассо и в бриттеновской «Мальчик родился». После концерта в гримерной меня представили высокому, чисто выбритому человеку с лицом, напомнившим мне портрет Томаса Карлейля[14]14
Карлейль Томас (1795 – 1881) – английский философ и историк, автор философского романа «Сартор Резартус».
[Закрыть], что висел у нас в классе. Я был так возбужден, что не особо обратил внимание, даже имени толком не запомнил, но вот потом в доме у Франклина, где мы пили кофе с пирожными, человек подошел, сел возле меня на кушетку и принялся расспрашивать о моих музыкальных вкусах. Вскоре мы сошлись на очень существенном: он, как и я, считал Генделя[15]15
Гендель Георг Фридрих (1685 – 1759) – выдающийся немецкий композитор, с 1710 г. живший в Лондоне. Автор более 40 опер, 27 ораторий и др.
[Закрыть] величайшим композитором в мире. Потом, не помню уж как, разговор перешел на математику бесконечных множеств, и я с восторгом обнаружил, что он понимает проблемы, которые Бертран Рассел[16]16
Рассел Бертран (1872 – 1970) – английский философ, логик, математик и общественный деятель, В написанном совместно с А. Уайтхедом (1861 – 1947) трехтомном труде «Principia Mathematica» («Принципы математики») (1910 – 1913) предпринял попытку логического обоснования математики.
[Закрыть] обсуждает в «Principia Mathematica» (я никак не мог уяснить, что за проблемы могут быть в основах математики).
То был один из случаев, что приключаются раз в жизни: двое умов с мгновенной и полной симпатией. Ему было сорок пять, мне – тринадцать, но ощущения разницы в возрасте не было никакой, будто мы близкие друзья вот уже двадцать лет, Причем это не так странно, как кажется. В условиях нашего городишки мне никогда не встречался человек, одинаково разделявший оба моих пристрастия: к науке и к музыке. Лайелл обо мне уже слышал: Франклин рассказал за обедом с неделю назад. Франклина всегда интриговала разноплановость книг, что я прихватывал с собой на репетиции: по математике, физике, химии, биологии. Лайелл заинтересовался описанием Франклина, потому и пришел тогда на концерт, думая поговорить со мной.
Ушел Лайелл рано, пригласив меня позвонить и навестить его в Снейнтоне, близлежащей деревушке. Когда он ушел, я спросил Франклина: «Как, вы говорите, его звать?» И тот сказал мне, что это сэр Алистер Лайелл, потомок сэра Чарльза Лайелла[17]17
Лайелл Чарльз (1797 – 1875) – английский геолог и палеонтолог, его основной труд «Принципы геологии» (1830 – 1833) оказал заметное влияние на формирование взглядов Ч. Дарвина.
[Закрыть], чьи «Принципы геологии» я читал буквально неделю назад. Должен признаться, я взволновался и растерялся. Никогда за всю свою жизнь я еще не беседовал с титулованной особой; куда там, даже и не видел никого с титулом. Снейнтон я знал; Лайелл, понял я, живет в одном из домов на центральной улице. А когда узнал, что домом ему служит «имение», окруженное парком, то и вообще не знал, куда деваться. Хорошо еще, что не уловил его имени, когда нас знакомил Франклин, иначе бы мямлил что-нибудь невнятное и краснел, а то и просто молчал бы и пялился. А так я пролежал всю ночь без сна, все пытаясь осмыслить: как же это, говорить с «сэром», а почтительности или стеснения при этом ровно столько, как в разговоре с бакалейщиком.
Спустя два дня я, чувствуя неловкость и робость, подъехал на велосипеде в Снейнтон, место отыскал достаточно легко – миля в сторону от деревни, – и там мои предчувствия подтвердились: высокая каменная стена, человек в будке при воротах, позвонивший сначала в дом и лишь затем указавший ехать по дороге прямо. Сам дом оказался не таким огромным, как я ожидал, но в моем представлении все равно непомерно большим. Затем дверь открыть подошел сам Лайелл, и робости моей как не бывало. Между нами моментально установилась та особая приязнь, что оставалась потом неизменной до конца. Я был представлен его жене – первой жене, леди Саре, уже в ту пору бледной и больной, – и мы не мешкая направились в его «музей» на верхнем этаже.
Музей Лайелла, ныне перемещенный в Ноттингем, известен настолько, что едва ли нуждается в описании. В то время, как впервые видел его я, по размерам он уступал теперешнему едва не вдвое, однако и при этом изумлял своей величиной. Главным экспонатом как тогда, так и сейчас был скелет Elasmothericum sibericum, вымершего предка носорога, у которого рог рос посреди лба, – без всякого сомнения, незапамятно древний прототип мифического единорога. Был там бивень мамонта, череп саблезубого тигра, а также части скелета плезиозавра[19]19
Плезиозавр – рептилия, обитавшая в морях в эпоху динозавров. Сохранившегося плезиозавра видят в Лох-Несском чудовище.
[Закрыть], которые Лайелл представил мне как Лох-Несское чудовище, Коллекция минералов сэра Чарльза Лайелла была исчерпывающе полной, что именно и очаровало меня больше всего в тот первый день. Лайелл, конечно же, был человеком, вызвавшим первую великую интеллектуальную революцию викторианской эпохи, раньше Дарвина, Уоллеса[20]20
Уоллес Альфред Рассел (1823 – 1913) – английский зоолог, активный сторонник теории естественного отбора.
[Закрыть], Тиндаля[21]21
Тиндаль Джон (1820 – 1893) – английский физик и популяризатор науки.
[Закрыть] и Хаксли[22]22
Хаксли Томас Генри (1825 – 1895) – английский зоолог, сторонник Ч. Дарвина.
[Закрыть]. До Лайелла господство удерживало старое библейское воззрение на сотворение мира, опиравшееся на теорию Кювье[23]23
Кювье Жорж (1769 – 1832) – французский естествоиспытатель, основоположник сравнительной анатомии и палеонтологии животных, выдвинувший в 1812 г. гипотезу о глобальных катастрофах в истории Земли.
[Закрыть] о глобальных катастрофах – периодических возмущениях, уничтожавших все живое, отчего у Бога возникала необходимость заселять Землю живыми существами по-новой. По Кювье, сотворений было не меньше четырех; это давало ему возможность объяснить наличие ископаемых останков рептилий, не вступая в конфликт с Библией и архиепископом Эшером. Именно тогда Чарльз Лайелл (1797 – 1875) сделал невероятный шаг, вступив в противоречие Библией и засвидетельствовав, что жизнь живой природы – одна непрерывная цепь, а время, необходимое для ее развития, исчисляется миллионами лет. Трудно передать, какой это вызвало взрыв негодования – по масштабам его превзошла разве что более поздняя теория Дарвина. Об этом с волнением читал всего-то неделю назад, теперь же вот перед моими глазами находилась непосредственно сама коллекция Лайелла, те самые ископаемые ящеры, что привели мыслителя к его умозаключениям. Озирая эту огромную комнату, уставленную скелетами, костями, образцами минералов, я впервые осознал реальность истории. Этот момент я помню так отчетливо, словно он произошел минут десять назад. Было здесь что-то от чувства, которое я испытал, наигрывая «Застольную песнь»: осознание, что жизнь человеческая быстротечна, замкнута и полностью отлучена от действительности, смерть – окончательный расчет, всемогущим взмахом смывающий нашу пустую круговерть. И опять же, здесь присутствовала некая сокровенная искорка счастья, восторг разума от истины любой ценой, даже если истина эта разрушительна. И в меня вкралась интуитивная догадка, что меж двумя этими чувствами противоречия нет, и торжество от нее не значит эдакого извращенного приятия всеобщего конца; нет, но то лишь, что реальность неким образом роднится с силой.
В тот день я понял, почему мы с Лайеллом говорили на равных. Мне открылось, что наше человеческое время – это иллюзия, и ум способен видеть сквозь него. В том музее произошло не что иное, как «пересечение времени с вневременным», мгновение за рамками времени. Мысленно оглядываясь, я вижу, что мной в тот день овладела полная интуитивная уверенность – уверенность, что моя жизнь достигла новой фазы, поворотного пункта.
Негодуя от мысли стать в перспективе инженером, я частенько грезил о жизни, которой действительно был бы доволен. Не было у меня ни определенных замыслов, ни четких ходов; знал лишь, что хочу, чтобы мне было дозволено думать и обучаться по своему усмотрению. Любимой книгой у меня был «Грилл Грэйндж» Пикока[24]24
Пикок Томас Лав (1785 – 1866) – английский писатель.
[Закрыть]; обожание у меня там вызывал мистер Фэлконер, которому богатство позволяет жить в башне, окруженному молоденькими служанками, и жизнь свою проводить в небрежном перелистывании книг из своей огромной библиотеки (меня вообще восхищал весь стиль жизни в Грилл Грэйндж: непринужденные беседы на возвышенные темы, и все это за роскошно накрытым столом или в прогулках на природе), Однако то, как мне будет житься последующие пять лет, я не представлял и во всех своих эпикурейских грезах. Для Лайелла возвышенные мысли были и жизнью, и пищей, и питьем. Сойдясь с ним поближе, я понял, почему мы друг для друга значим одинаково много, Ему никогда не встречался такой безоглядный приверженец возвышенного, как я. Даже коллеги по Королевскому Обществу казались ему слишком банальными, приземленными, впавшими в уютную тщету повседневного существования, теми, кто позволил светскости разбавить силу и первоначальную чистоту восприятия. Ранняя юность у него проходила одиноко; отца интересовала в основном охота да рыбалка, у младшего же брата были практические наклонности, обеспечившие ему миллионное состояние на торговле недвижимостью. Так что Лайеллу доставило удовлетворение встретиться с кем-то, напоминающим его самого в юности, через кого он мог вновь открыть волнующий мир науки и музыки, с тем, кто не перерос одержимости возвышенным. Поэтому ему было так же за счастье обрести меня, как и мне его; он, может статься, был счастлив даже больше, поскольку сформировал уже ментальную картину того, чего хотел, в то время как я лишь ощущал эдакую гнетущую неуемность. Детей у Лайелла никогда не было, первая его жена была бесплодна. Все это означает, что я пришел в место, где под меня было уже все подготовлено.
Даром что формально это не было выражено никак, я сделался, по существу, его приемным сыном. Родители у меня не возражали; едва ли не с самого начала – еще задолго до того, как до меня самого это дошло, – они лелеяли мысль, что Лайелл сделает меня своим наследником. Все это, безусловно, были благие пожелания, основанные скорее на неискушенности, чем на прозорливости или интуиции, тем не менее, родители во многом оказались правы.
Прежде всего, я проводил у Лайелла почти все выходные. На Пасху 1956-го он свозил меня с собой в Америку, осмотреть в Аризоне, под Уинслоу[25]25
В Аризоне, под Уинслоу – этот кратер диаметром 1.2 км возник в результате падения метеорита примерно 30 тыс. лет назад.
[Закрыть], метеоритный кратер и насобирать там образцы. (Через пять лет мы собирались отправиться в Сибирь, на Подкаменную Тунгуску[26]26
На Подкаменную Тунгуску – имеется в виду место, где 30 июня 1908 г. упал Тунгусский метеорит.
[Закрыть], на место взрыва – ядерного, как мы установили, к своему удовлетворению, – причем, вероятно, вызванного космическим пришельцем из другой галактики). По возвращении из Америки большинство своих книг и пожиток я переправил из Хакналла в Снейнтон Холл, и время впоследствии проводил большей частью там, а не дома. По окончании школы Лайелл сказал, что берется оплачивать мою учебу в университете. Он не пытался на меня влиять, но его личное мнение было мне известно: учеба в университете– лишь трата времени, и за все прошлое столетие лишь немногие выдающиеся умы оказались хоть чем-то обязаны университету. (Сам он обучался в Кембридже, но по собственному желанию ушел со второго курса и в дальнейшем занимался самообразованием). Так что на его предложение я ответил отказом. Кроме того, я знал, что он один может мне дать больше, чем дюжина кураторов. И никогда об этом не пожалел.
Возможно, это как-то нарушает логику повествования, но не могу не обрисовать, хотя бы частично, мою тогдашнюю жизнь в Снейнтоне. То был теплый, уютный дом, а помещения для прислуги такие громадные, что я в первые месяцы нередко терял в них ориентир. Особенно мне нравились окна двух передних комнат, идущие от пола до самого потолка. Напротив тянулся холм, где четко прорисовывались на фоне неба деревья; картины заката были поистине величавы. Леди Сара любила сидеть предвечерней порой в гостиной, поджаривая хлебцы на открытом огне (видимо, ей нравился запах), и выпивала по десятку чашек чая кряду. Мы с Лайеллом обычно спускались из лаборатории составить ей компанию. (На него я здесь ссылаюсь как на Лайелла, хотя, как и жена, я всегда звал его Алеком; для всех остальных он был Алистер. Кстати, забавно: садовник-шофер звал его Джеми. Мне редко доводилось встречать таких непосредственных, демократичных людей). После ужина мы обычно перемещались в фонотеку слушать пластинки, а иной раз и сами музицировали (Лайелл играл на кларнете и гобое, а также на фортепьяно; я тоже был сносным кларнетистом). Коллекция пластинок, в основном на 78 оборотов, была у него попросту громадной и занимала целую стену, от пола до потолка. Сэр Комптон Маккензи[27]27
Маккензи Комптон (1883 – 1972) – английский писатель-романист, популярный в начале века.
[Закрыть], остановившийся как-то в доме на выходные, когда я там был, заметил, что фонотека у Лайелла, пожалуй, самая богатая в стране, если разве не считать фирму «Грэмофон». Надо бы упомянуть здесь одно из забавных пристрастий Лайелла: ему, похоже, доставляли удовольствие длинные произведения, в силу самой уже длины. Мне кажется, он просто наслаждался интеллектуальной дисциплиной сосредоточения, длившегося порой часами. Если произведение было длинным, оно уже автоматически привлекало к себе его внимание. Так что у нас целые вечера уходили на прослушивание «Соперничества Между Гармонией и Изобретением» Вивальди, «Хорошо темперированного клавира»[28]28
«Хорошо темперированный клавир» – цикл прелюдий и фуг из 48 произведений, созданный И. С. Бахом (1685 – 1750).
[Закрыть] – полностью, целых опер Вагнера, последних пяти квартетов Бетховена, симфоний Брукнера[29]29
Брукнер Антон (1824 – 1896) – австрийский композитор, автор девяти симфоний, писал также церковную музыку.
[Закрыть] и Малера[30]30
Малер Густав (1860 – 1911) – австрийский композитор и дирижер.
[Закрыть], первых четырнадцати симфоний Гайдна[31]31
Гайдн Франц Йозеф (1732 – 1809) – австрийский композитор, утвердивший в музыке жанр симфонии, автор 104 симфоний.
[Закрыть]... Даже растянутые, бессвязные интерпретации Фуртвенглера[32]32
Фуртвенглер Вильгельм (1886 – 1954) – немецкий дирижер, долгое время руководил оркестрами в Вене и Лондоне.
[Закрыть] – и те его притягивали, потому что тянулись два часа.
Для него определенно были важны мои энтузиазм я заинтересованность. Едва мной овладевала усталость или безразличие, я тотчас же улавливал его разочарованность. Раз, когда жена высказалась в том духе, что Лайелл переутомляет меня работой или музыкой, он сказал:
– Чепуха. Человеку естественно быть творением ума. То, что работа мозга человека утомляет, это все бабушкины сказки. Усталости от работы мозга человек должен испытывать не больше – если он правильно его использует, – чем рыба от воды.
Лайелл был, разумеется, эклектик. Ему нравилось повторять цитату, которую Йитс[33]33
Йитс (Йейтс) Уильям Батлер (1865 – 1939) – ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии 1923 г.
[Закрыть] приписывает Пейтеру[34]34
Пейтер Уолтер (1839 – 1894) – английский писатель и критик, в поздних своих работах развивавший принципы эстетизма.
[Закрыть]: когда Пейтера спросили, откуда у него вдруг на полке тома политэкономии, он ответил: «Все, что занимало человека хотя бы секунду времени, достойно нашего изучения». Лайелл был ревностным противником понятия «специалист в такой-то области» и уж, разумеется, в науке или математике. Когда мы с ним только познакомились, он был известен в основном как микробиолог. Он был первым, кто культивировал риккетсий[35]35
Риккетсии – бактерии-возбудители сыпного тифа, лихорадки и других тяжелых заболеваний.
[Закрыть] (внутриклеточных паразитов микроскопического размера) отдельно от их живого носителя. Его эссе о мастигофоре[36]36
Мастигофоры, или жгутиковые – класс простейших одноклеточных животных.
[Закрыть] – одноклеточном животном – является классикой, переизданной во многих антологиях научной литературы, а работа по заболеваниям дрожжей, пусть и не с таким явным «литературным» уклоном, также является классикой своего рода. Однако Лайелл отказывался «печататься» как ученый, и я однажды слышал, как сэр Джулиан Хаксли[37]37
Хаксли Джулиан (1887 – 1975) – английский зоолог, внук Т.Г. Хаксли.
[Закрыть] отозвался как-то раз шутливо о Снейнтон Холле, как о некоей «лаборатории средневекового алхимика». Года с 1952-го Лайелл очаровался, можно сказать, впал в одержимость проблемой расширения Вселенной[38]38
Проблема расширения Вселенной – согласно теории расширения Вселенной, все космические объекты, не связанные друг с другом силой тяготения, удаляются друг от друга.
[Закрыть] и квази-звездными источниками радиоизлучения[39]39
Квази-звездные источники радиоизлучения (квазары) – мощные внегалактические источники электромагнитного излучения, открыты в 1960 г.
[Закрыть], причем по оснащенности обсерватория у него была одной из лучших частных обсерваторий в стране, если не во всей Европе (80-дюймовый телескоп-рефлектор сейчас стоит в моей собственной обсерватории недалеко от Ментона). В 1957-м его интерес решительно сместился в область молекулярной биологии и к проблемам генетики. Испытал он также и возрождение своего более раннего интереса к теории чисел (к этому делу приложил руку и я) и к тому, насколько ЭВМ способны решать неразрешимые прежде задачи.
Большинству читателей может показаться невероятным, что у человека столь разнообразных интересов оставалось еще время на музыку – а еще и на литературу, живопись, философию. Здесь требуется верное понимание. Лайелл считал, что в большинстве своем люди – даже самые выдающиеся – растрачивают свои интеллектуальные ресурсы попусту. Он любил подчеркивать, что сэр Уильям Роуан Гамильтон[40]40
Гамильтон Уильям Роуан (1805 – 1865) – ирландский математик и астроном; вряд ли можно согласиться с Лайеллом, что этот известный ученый был интеллектуальным неудачником.
[Закрыть] владел дюжиной языков, в том числе персидским, когда ему было девять лет, а Джон Стюарт Милль[41]41
Милль Джон Стюарт (1806 – 1873) – английскими философ, экономист и общественный деятель.
[Закрыть] прочел «Диалоги» Платона на греческом в семилетнем возрасте. «Оба эти человека были в интеллектуальном плане неудачниками, – писал он мне в письме, – если сравнивать их зрелые достижения с тем, как они прогрессировали в раннем возрасте». Лайелл считал, что ограниченность у людей – в основном из-за лени, невежества и нерешительности.
В этом новом жизненном укладе меня печалило лишь одно: отход от семьи. Прежде всего, оба мои брата начали относиться ко мне с неприкрытой завистью. Это огорчало. Со старшим, Арнольдом, особой симпатии у нас никогда и не было, Том же – на год младше меня – мне нравился. Стоило мне объявиться дома, как они начинали коситься на меня, словно на чужака, и отпускали ехидные замечания насчет «шикарной житухи», которой не хватает им. Спустя некоторое время такое же отношение появилось и у отца: он тоже начал относиться с глухой враждебностью. Лишь одна мама неизменно радовалась встречам со мной. Она понимала, что в Снейнтоне я предпочитаю жить вовсе не из-за того, чтобы «купаться в роскоши». Но и при всем при том я предпочитал не особо распространяться насчет моего там житья-бытья. Такую постоянную умственную нагрузку она сочла бы непомерной и ненормальной (именно так об этом отозвались некоторые мои друзья, которым я описал жизнь в Снейнтоне). Истина, однако, в том, что та жизнь была для меня идеальной. В тринадцать лет мой ум постоянно томился от голода; я чувствовал, что буквально меняюсь день ото дня. Без Лайелла это был бы период безмолвного отчаяния: все возрастающее желание жить миром «идей и ощущений» и глухая ненависть к окружающей повседневности, которая мешает это осуществить. Семя раздора проросло еще до встречи с Лайеллом: я уже тогда начинал видеть свою жизнь в школе и дома абсолютно пустой. То, что предложил Лайелл, – это как раз не непомерные интеллектуальные нагрузки, а именно жизнь, исполненная открытий и осмысленности. Тринадцать лет – возраст, о котором Шоу отзывался как о «рождении нравственной страсти», иными словами, возрасте, когда идеи – не абстракция, а нечто осязаемое, пища и питье. Возмужалость меняет укоренившееся представление о себе. Размывается остов, внутренняя сущность становится бесформенной – хаос, ждущий часа творения. Человек носит в себе тяжело дремлющее предвкушение; облака, грузные, свинцово-серые, ждут живительного ветра. И какая-нибудь книга, симфония, поэма – это уже не просто очередное «ощущение», но тайна, ветер, веющий из будущего. Вопрос смерти пока далеко, а уже и вопрос жизни представляется таким же неохватным. Ум созерцает перспективы времени, пустоту пространств, сознает при этом, что «обычность» повседневной жизни – не более чем иллюзия. И насколько повседневное подергивается ряской иллюзорности, настолько идеи кажутся единственной реальностью; ум же, облекающий их в форму, – единственной достоверной силой в этом мире слепых природных сил.








