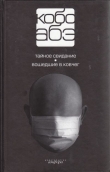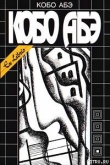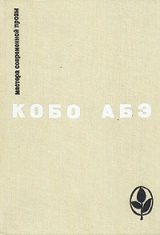
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Кобо Абэ
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)
Да, я не отрицаю: такое впечатление было вызвано и тем, что со мной случилось. Я должен идти вперед, шаг за шагом растаптывая свой вкус, если хочу создать чужое сердце, подходящее чужому лицу. Но это оказалось не таким трудным делом, как я предполагал. И, будто маска обладала способностью призывать осень, мое усталое сердце превратилось в сухой лист, готовый вот-вот упасть – стоит лишь слегка потрясти ветку. Я не особенно сентиментален, но удивился, что не почувствовал боли, хотя бы похожей на пощипывание глаз, как от мяты, хотя бы как комариный укус. Собственное «я», видимо, не то, что о нем говорят.
Но какое же, наконец, сердце собираюсь я нарисовать на этом старом, выцветшем холсте? Не сердце ребенка, конечно, и не мое собственное. Сердце для моих завтрашних планов… хотя я и не мог бы определить его словом, которое можно понять, заглянув в словарь, ну, например, йо-йо, туристская открытка, футляр для драгоценных камней, приворотное зелье… Как программу действий я представлял себе это сердце гораздо яснее, чем карту, полученную с помощью аэрофотосъемки. Сколько раз уже повторял я намеки, заставлявшие тебя задумываться. Но сейчас, когда все закончено и можно и говорить и слушать о содержании и последствиях того, что произошло, можно буквально пощупать происшедшее, вряд ли стоит ограничиваться намеками, боясь той боли, которую я причиню, если облеку свои ощущения в слова. Я воспользуюсь представившимся случаем и расскажу все. Я как совершенно чужой для тебя человек… решил соблазнить тебя… тебя – символ чужого.
Нет, подожди… Я совсем не собирался писать об этом… Я ведь не похож на малодушного человека, который тянет время, повторяя то, что известно и так. Я хочу лишь рассказать о своем странном, неожиданном даже для меня самого поведении после покупки йо-йо.
Примерно треть магазина игрушек занимали стенды, на которых были выставлены игрушечные пистолеты. Среди них несколько, видимо, импортных и достаточно дорогих, но действительно прекрасно сделанных. Я взял один из них – немного тяжеловат и дуло залито свинцом, в остальном же был в нем и механизм подачи патронов, и курок совершенно ничем не отличался от настоящего. Я вспомнил, что мне как-то попалась статья в газете, в которой говорилось, что игрушечный пистолет можно переделать и стрелять из него настоящими пулями. Может быть, и этот такой же? Интересно, можешь ли ты представить себе меня, с увлечением рассматривающего игрушечный пистолет? Самые близкие мои товарищи по лаборатории и те вряд ли смогли бы. Да и мне самому никогда бы такая мысль не пришла в голову, не будь я свидетелем своих собственных действий.
Хозяин магазина, заворачивая йо-йо, прошептал с искательной полуулыбкой: «Нравится? Может быть, показать, что у меня отложено?» И тогда на какое-то мгновение я начал сомневаться, я ли это. Или правильнее, пожалуй, сказать так: я растерялся оттого, что не реагировал на это так, как реагировал бы я. Растеряться и одновременно осознать это – нет ли тут противоречия? Нет, здесь виновата маска. Не обращая внимания на мое замешательство, маска согласно кивнула пугливо озирающемуся по сторонам хозяину магазина и, как бы используя возможность доказать свое существование, стала горячо договариваться о том, что было отложено.
Это был духовой пистолет «вальтер». С трех метров пробивает пятимиллиметровую доску – сильная штука, но и цена у него была порядочная – 25 тысяч иен. Как ты думаешь, что я сделал?.. Мне уступили за 23 тысячи, и я купил его. «Учтите, это ведь незаконно. Духовой пистолет – не духовое ружье, он приравнивается к настоящему. А незаконное хранение пистолета очень строго преследуется. Я серьезно прошу вас, внимательно отнеситесь к тому, что я сказал…» Но я все равно купил его.
У меня было странное состояние. Мое настоящее «я» с подлинным лицом пыталось что-то пропищать тоненьким голоском, забившись глубоко между кишками. Такого не должно было быть, но… Ведь я выбрал экстравертный агрессивный тип из единственного побуждения получить лицо охотника, пригодное для твоего соблазнителя. Теперь о другом… Я просил маску лишь об одном: помоги мне выздороветь. Я ведь ни разу не просил: делай как тебе нравится. И вот теперь у меня этот пистолет – что же мне с ним делать?
Но маска, будто нарочно выставляя напоказ торчащий из кармана твердый сверток, смеялась над моими затруднениями, наслаждалась ими. Она, конечно, и сама не знала как следует, что ответить на вопросы моего настоящего лица. Будущее – не что иное, как производное прошлого. У маски, которая не прожила и двадцати четырех часов после своего рождения, не должно было быть плана действий на завтра. Социальное уравнение человека – это, в сущности, математическая функция возраста, и маска, возраст которой равен нулю, ведет себя как младенец, чересчур непринужденно.
Да, этот младенец в темных очках, отражающийся в зеркале вокзального туалета, возможно, под влиянием того, что было спрятано у него в кармане, держал себя вызывающе агрессивно. И честно говоря, я не мог решить, что я должен делать – наплевать на этого младенца без возраста или опасаться его.
* * *
Ну, так что же делать?.. Но это не было «что делать» человека, в растерянности опустившего руки, а скорее полный любопытства вопрос. Во всяком случае, для маски это была первая самостоятельная прогулка, а у меня не было других планов, кроме как прогуливать ее. Прежде всего я хотел приучить ее к людям, но, подготовившись крайне неумело, все испортил и вынужден был, утешая, вести ее за руку. Однако после того, что случилось в магазине игрушек, хозяин и гость поменялись местами. О том, чтобы вести ее за руку, не могло быть и речи – ошеломленный я был способен лишь на то, чтобы слепо следовать за этим изголодавшимся духом, напоминавшим преступника, только что выпущенного на свободу.
Ну, так что же делать?.. Пока я слегка поглаживал пальцами бороду (может быть, это была реакция на бинты, обматывавшие раньше мое лицо), маска демонстративно принимала самые различные выражения, как охотник, жаждущий удачи: готовность, презрение, вопрос, алчность, вызов, внимание, желание, уверенность, стремление, любопытство… В общем, все возможные выражения, каждое в отдельности и в различных вариациях, какие только мыслимо представить себе в подобном случае, – она вынюхивала эти выражения, точно сорвавшаяся с привязи и сбежавшая от хозяина собака. Это было знаком того, что маска начинает спокойно относиться к реакции посторонних, и я не могу отрицать, что в какой-то степени – пусть дурачит других – испытывал даже удовлетворение от ее действий.
Но в то же время меня охватило страшное беспокойство. Как бы она ни отличалась от моего настоящего лица, я – это я. Я не был ни загипнотизирован, ни опьянен наркотиками, и за все, что совершит маска – например, за то, что в кармане спрятан духовой пистолет, – ответственность должен нести я, и ни кто иной. Характер маски совсем не случаен, он ничем не напоминал кролика, выскочившего из шляпы фокусника, – нет, он был частью меня самого, появившейся не по моей воле, а благодаря тому, что стража моего настоящего лица прочно прикрыла все входы и выходы. Теоретически понимая, что все это именно так, я не мог представить себе ее характера целиком, будто потерял память. Попробуй представить себе мое раздражение, когда существует лишь абстрактное «я», и мне не под силу вдохнуть в него желаемое содержание. Я был вконец расстроен и решил неприметно нажать на тормоза.
«Провал того, тридцать второго эксперимента: опыты были проведены плохо или же изъян оказался в самой гипотезе?»
Я решил избрать темой этот важный для лаборатории вопрос и попытаться вспомнить занятую мной позицию. Я высказал предположение, что в некоторых высокомолекулярных соединениях существует выражающаяся функционально зависимость между изменением коэффициента упругости под действием давления и изменениями под действием температуры, и получил весьма обнадеживающие результаты, но последний, тридцать второй эксперимент опрокинул все мои ожидания, и я оказался в весьма тяжелом положении.
Однако маска только досадливо нахмурила брови. С одной стороны, мне показалось это естественным, но в то же время я почувствовал укол самолюбию…
Заметки на полях. Собственно говоря, маска не более чем средство для моего выздоровления. Представь себе, что ты сдала комнату, а у тебя отняли весь дом – у любого самолюбие взыграет.
…И тогда я взорвался.
«Что же тебе, наконец, нужно? Стоит мне захотеть, и я в любую минуту сорву тебя!»
Но маска хладнокровно, беззаботно парировала:
«Видишь ли, я ведь никто. До сих пор мне пришлось отдать немало сил, чтобы быть кем-то, и теперь я непременно воспользуюсь этим случаем, я хочу отказаться от жалкого жребия стать кем-то иным. А ты сам? Разве, честно говоря, ты хочешь меня сделать кем-то иным? Да, по-моему, и не сможешь, так что давай оставим все как есть. Согласен? Взгляни-ка! Не выходной день, а такая толчея… толчея возникает не потому, что скапливаются люди, а люди скапливаются потому, что возникает толчея. Я не вру. Студенты, длинноволосые, точно хулиганы, целомудренные жены, накрашенные, точно известные своим распутством актрисы, замызганные девицы в модных платьях, тощие, точно манекены… Пусть это несбыточная мечта, но они вливаются в толчею, чтобы стать никем. Или, может быть, ты собираешься утверждать, что только мы с тобой другие?»
Мне нечего было ответить. Ответа и не могло быть. Ведь это были утверждения маски, а их она придумывала моей головой. (Ты сейчас, наверно, смеешься? Нет, ждать этого – значило бы желать слишком многого. Горькая шутка совсем не для того, чтобы рассмешить. Я был бы вполне удовлетворен, если бы ты признала, что в моих словах содержится хоть частица здравого смысла, но…)
Я оказался припертым к стене или под предлогом, что оказался припертым к стене, перестал сопротивляться и разрешил маске делать все, что она захочет. И тогда маска, хотя и была никем, придумала неожиданно разумный план, ничуть не менее дерзкий, чем случай с пистолетом. Он заключался в том, чтобы после обеда пойти к нашему дому и посмотреть, что там происходит. Нет, не что происходит в нашем доме, а что происходит во мне самом. Попытаюсь заглянуть домой, чтобы установить, насколько смогу я противиться роли соблазнителя, исполнение которой намечено на завтра. В глубине души я еще на что-то надеялся, но облечь эти надежды в слова никак не мог и с готовностью согласился подчиниться маске.
Постскриптум. Не собираюсь зарабатывать хорошую отметку, но, думается, я был слишком добр. Я напоминал человека, который, признавая гелиоцентрическую теорию, проповедует геоцентрическую. Нет, я считаю, что доброта – преступление, и немалое. Стоит подумать, к чему она может привести, и из всех пор моего тела, извиваясь, выползают черви стыда. Если я стыжусь перечесть написанное, представляешь, во сколько раз больший стыд испытываю я, когда подумаю, что ты это читаешь? Я и сам прекрасно знаю, что гелиоцентрическая теория верна, и тем не менее… видимо, я придавал слишком большое значение своему одиночеству… я вообразил, что оно трагичнее одиночества всего человечества. И в знак раскаяния я безжалостно выброшу из следующей тетради все фразы, в которых будет хоть намек на трагедию.
СЕРАЯ ТЕТРАДЬ
Хотя всего пять дней назад я ездил этой дорогой на электричке, свежесть восприятия была такой, будто прошло пять лет. Ничего удивительного. Для меня дорога настолько знакома, что я не заблудился бы и с закрытыми глазами, но ведь для маски это была совершенно новая дорога. Если же она и припоминала ее, то, наверно, потому, что еще до рождения, в утробной жизни, видела ее во сне.
Да, в самом деле… даже у облаков, напоминающих обросших белой бородой старцев, которые я видел по пути из окна вагона, даже у них есть воспоминания… Внутренняя поверхность маски промыта содовым раствором, и на ней пенятся маленькие пузырьки… Я инстинктивно провел тыльной стороной ладони по невспотевшему лбу и тут же посмотрел по сторонам – не заметил ли кто мою оплошность?.. Расстояние между мной и другими? Я могу позволить себе присоединяться к остальным, сохраняя естественную дистанцию. Вдруг мне неудержимо захотелось рассмеяться. Возбуждение, будто проник на вражескую территорию, сменилось умиротворением, связанным с возвращением домой; угрызения совести, словно совершил преступление, сменились радостью новых встреч. Что захочу, то и сделаю. Как дистрофик, которому разрешили наконец поесть, я в такт покачиванию вагона стал изо всех сил тянуться, точно лоза, выбрасывающая усы, к твоему белому лбу, бледно-розовому шраму от ожога на запястье, прожилкам на щиколотках, гладких и нежных, как раковина изнутри.
Что, слишком неожиданно? Если ты и подумаешь так, ну что ж, ничего не поделаешь. Скажешь, что это бред опьяненного маской – у меня нет оснований отрицать это. Действительно, в своих записках я впервые так пишу о тебе. Но это совсем не потому, что я отказался от тебя до поры, точно положил деньги на срочный вклад. Скорее, мне подумалось, что я не имею на это права. Судить о твоем теле лишенному лица привидению еще более нелепо, чем лягушке судить о пении птиц. Причиню лишь боль себе, да и тебе, наверно, тоже… Ну, а благодаря маске проклятие снято? Для меня это еще более трудный вопрос. Но эта проблема чем дальше, тем настойчивее будет требовать ответа. Подожду, ответить никогда не поздно.
Уже вылилась первая волна служащих, окончивших работу, и электричка была переполнена. Я чуть повернулся, и молодая женщина в зеленом пальто коснулась задом моего бедра. Я подался в сторону, чтобы она не почувствовала, что у меня пистолет, но ничего не вышло – нас прижали друг к другу еще сильнее. Правда, и сама женщина не особенно избегала меня, и я решил остаться в том же положении. С каждым толчком вагона мы прижимались все теснее, но теперь я не отстранялся. Она старательно делала вид, что дремлет. Пока я развлекался мыслью, что будет, если я пистолетом ткну ее в зад, мы подъехали наконец к станции, на которой мне нужно было выходить. Подойдя к дверям, я посмотрел на женщину – притворно-сосредоточенно она изучала рекламные щиты у платформы; сзади, судя по ее прическе, она не казалась молодой. Нет, никакой роли в дальнейших событиях этот случай не сыграл. Мне захотелось рассказать о нем только потому, что я подумал: такого, наверно, никогда бы не случилось, не надень я маску.
Постскриптум. Нет, этой части моих записок недостает откровенности. Недостает и откровенности, и честности. Уж не сказалось ли то, что мне стыдно перед тобой? С самого начала мне бы лучше не касаться этого. Если бы я только намекнул на эффективность маски, мне бы не пришлось тратить десять-двадцать строк на подобные эротические признания. Потому-то я и сказал, что недостает честности. И поскольку я наполовину обманул тебя, то не только не мог рассказать о своих истинных намерениях, но и неизбежно столкнулся с печальным фактом твоего непонимания.
У меня нет умысла превращать честность в предмет торга. Просто, раз уж я коснулся того, чего неизбежно должен был коснуться, постараюсь, ничего не утаивая, раскрыть истинные свои намерения. С точки зрения прописной морали я вел себя попросту бессовестно, и мое поведение достойно осуждения. Но если рассматривать его как поведение маски, то я думаю, оно может послужить важным ключом для понимания моих дальнейших поступков. Откровенно говоря, в те минуты я начал испытывать возбуждение. То, что произошло, может быть, еще и нельзя было назвать прелюбодеянием, но, во всяком случае, это был акт духовной мастурбации. Ну, а изменил ли я тебе? Нет, мне не хотелось бы так легко употреблять слово «измена». Если уж говорить об этом, то я беспрерывно изменяю тебе с тех пор, как мое лицо превратилось в обиталище пиявок. Кроме того, я боялся, что тебе это покажется гадким и ты не захочешь читать дальше. Потому-то я и не касался этого, но по меньшей мере семьдесят процентов моих мыслей занимают сексуальные химеры. В моих действиях они не обнаруживались, но потенциально я, в сущности, был сексуальным маньяком.
Часто говорят, что секс и смерть неразрывно связаны между собой, но истинный смысл этих слов я понял именно тогда. До этого я давал им лишь поверхностное толкование в том смысле, что завершение полового акта настолько самозабвенно, что может даже вызвать мысль о смерти. Но стоило мне лишиться лица и превратиться в заживо погребенного, как я впервые усмотрел в них совершенно реальный смысл. Так же как деревья приносят плоды до того, как приходит зима, как тростник дает семена, перед тем как засохнуть, секс не что иное, как борьба человека со смертью. Поэтому не будет ли правильным сказать, что эротическое возбуждение, не имеющее определенного объекта, – это жажда человеческого возрождения, испытываемая индивидуумом, стоящим на пороге смерти. Доказательством может служить то, что все солдаты подвержены эротизму. Если среди жителей города растет число эротоманов, то этот город, а может быть, и страна в целом должны быть готовы к множеству смертей. Когда человек забывает о смерти, половое влечение впервые превращается в любовь, направленную на определенный объект, и тогда обеспечено устойчивое воспроизводство рода человеческого.
Поведение маски в электричке объяснялось тем, что и я и женщина были невыносимо одиноки, но, исходя из моей классификации, маска, видимо, переживала переходную стадию от эротизма к любви – состояние эротической любви. Хоть маска еще не ожила окончательно, наполовину, уж во всяком случае, она начала жить. В этих условиях где ей было изменить тебе – у нее и возможностей-то для измены не было. По выработанной мною программе маска могла зажить полной жизнью только после встречи с тобой.
Вывод из этого дополнения можно, видимо, сделать такой. Благодаря маске мне удалось избежать крайнего возбуждения, которому подвержены сексуальные маньяки, но я по-прежнему оставался полуэротоманом; однако не этот эротизм привел меня к тебе. Я даже уверен, что он послужил стимулом для освобождения. И ради этого я должен был любым способом заставить тебя полюбить мою маску.
Речь идет о воспитании маски, а для этого нет ничего лучше, как заставить ее испытать все на себе, думал я, когда мочился в вокзальном туалете. Я решил избегать шумных торговых улиц и идти переулками. Мне не хотелось неожиданно встретить тебя около рыбного магазина. Я еще не был уверен, что смогу вынести эту неожиданную встречу, ну и, кроме того, хотелось, чтобы первая встреча между маской и тобой состоялась так, как я наметил с самого начала. И хоть встречи не произошло, у меня было чувство, будто я сел на мель. Без всякой причины ноги заплелись, и я чуть не споткнулся на ровном месте. Дыша ртом, как собака, чтобы остудить обжигавший меня горячий воздух, скопившийся под маской, я повторял и повторял, точно заклинание: «Понимаешь, я же здесь впервые. И то, что я вижу, и то, что слышу, – все для меня ново. И дома, которые потом попадутся мне на глаза, и люди, с которыми я, возможно, встречусь, – всех их я увижу впервые. Если даже что-то и совпадет с моими воспоминаниями, это будет либо ошибкой, либо случайностью или же видением, явившимся во сне. Да, и эта сломанная крышка люка… и сигнальный полицейский фонарь… и этот угол дома, где круглый год стоит лужа грязной воды из переполненной канализации… и выстроившиеся вдоль улицы огромные вязы… потом… потом…»
Потом, точно выплевывая песчинки изо рта, я постарался одно за другим изгнать из памяти цвета и образы, но что-то все равно оставалось, и я не мог от этого избавиться. Это была ты. Я весь напрягся и сказал маске: «Ты совершенно чужая. Завтрашняя встреча будет самой первой встречей с ней, ты никогда не видела ее, не слышала о ней. А свои впечатления – выбрось их из головы, и поскорее!» Но по мере того, как окружающий пейзаж растворялся и улетучивался из памяти, твой образ, только он, всплывал все яснее, и я был не в силах противиться этому.
В конце концов я… и маска, конечно, тоже… поставив в центр твой образ, будто мотылек, которого влечет свет, едва не касаясь нашего дома, стал ненасытно кружить вокруг него.
Соседки, спеша мимо с кошелками в руках, не обращали на меня никакого внимания – незнакомый прохожий; дети – дети самозабвенно играли, стараясь не упустить коротких минут, оставшихся до ужина. В общем, нечего было опасаться, что меня узнают. Когда я в пятый или шестой раз приблизился к дому, уже зажглись уличные фонари, начало быстро смеркаться. Я стал присматриваться, замедлив шаги настолько, чтобы не вызвать подозрений, и узнал, что ты дома: из окна во двор падал мягкий свет. Свет из столовой. Неужели и для себя одной ты аккуратно накрываешь на стол?
Я вдруг почувствовал нечто похожее на ревность к этому свету из столовой. И не к чему-то конкретному – будто там какой-то гость и он захватил мое место. Я, казалось, ревновал к самому факту, что там наша столовая и в ней ничего не изменилось, а с наступлением темноты в ней зажжена лампа. В ожидании ужина я бы сейчас читал под этим светом вечерний выпуск газеты, а вместо этого, с помощью маски спрятав свое лицо, вынужден слоняться под окном. Как это несправедливо, как трудно перенести это. Невозмутимый свет столовой, нисколько не потускневший оттого, что меня там нет… точно так же, наверно, как и ты…
И маска, которой до этого я был так доволен, на которую возлагал такие надежды, показалась мне ненадежной, поблекшей. И задуманный мной грандиозный спектакль, в котором я, надев маску, должен был с блеском выступить в роли другого человека, действительно оказался всего лишь спектаклем, бледным и слабым перед неумолимой повседневностью: наступает темнота, выключатель повернут – и свет заливает столовую. В тот миг, как маска встретится с твоей улыбкой, она тут же растает, как снег весной.
Чтобы избавиться от чувства поражения, я решил позволить маске пофантазировать. Мечты не совсем оформленные, как сама маска, но будут ли они мечтами или химерами повседневности, вылезшей из своей скорлупы, – я промолчу. И, решив закрыть на все глаза, снова стал с деловитым видом кружить вокруг дома.
* * *
Но фантазии не приободрили маску, наоборот, они только показали, насколько непреодолима и коварна пропасть между мной и ею.
Освободившись от цепей, маска первым делом без стеснения направится к нашему дому. И я окажусь в роли сводни. Калитка с оторванной петлей. Дорожка из гравия покрыта грязью, и поэтому шагов не слышно. Входная дверь в лишаях облупившейся краски. Полусгнивший водосточный желоб валяется у крыльца… тебе-то какая забота, это чужой дом! Нажав кнопку звонка и отступив на шаг, чтобы успокоить дыхание, я буду прислушиваться к тому, что ты делаешь. Шаги приближаются, зажигается свет над крыльцом, раздается твой голос: «Кто там?»
Нет, как бы подробно ни старался я рассказать обо всем, это ничего не даст. И необходимости нет, да прежде всего и невозможно. Не покажется ли, наоборот, странным, если я всеми правдами и неправдами превращу в связный текст свои обрывочные мечтания, похожие на небрежные строчки на грифельной доске, с которой стерто написанное и снова написано по стертому, неизвестно когда, неизвестно, в каком порядке – может быть, даже лучше сравнить их с каракулями в общественной уборной? Я хочу выбрать только две-три сцены, ограничившись самым необходимым, чтобы ты поняла, какой удар нанесли мне эти фантазии.
Первая – это жалкая сцена после того, как я услышал твой голос, похожий на шепот. Я стремительно всунул ногу в щель опасливо приоткрытой двери, с силой рванул ее и быстро приставил пистолет к твоему лицу, испуганному, точно ты вдруг захлебнулась ветром. Представь себе мое замешательство. Ни капли симпатии. Меня часто раздражала твоя невозмутимость – это правда, но все равно не было никакой необходимости вести себя как бандит из кинофильма. Если уж я соблазнитель, то неужели не мог придумать какой-нибудь ход, более подходящий для соблазнителя? В конце концов, поскольку все это происходило в моем воображении, годилась любая заведомая ложь, ну, к примеру, что я однокашник твоего мужа и зашел по старой дружбе – хотелось, чтобы я вел себя именно так. В общем, никакого обольстителя из меня не вышло. Уж не был ли я мстителем? А может быть, в моей маске с самого начала была упрятана жажда мести? Действительно, я был настроен агрессивно, испытывал ненависть, даже чувство мести – и все это было направлено против предубеждения людей, стремившихся отнять у меня вместе с лицом и право гражданства. А по отношению к тебе?.. Не знаю… думаю, нет, но не знаю… А охватившее меня неистовство совершенно парализовало разум, отняло способность рассуждать.
Это была ревность. Нечто подобное ревности, основанной на воображении, я уже испытывал много раз, но сейчас было другое. Острая чувственная дрожь, которой я даже не могу сразу придумать название. Нет, пожалуй, правильнее сказать «перистальтика». Обручи боли через равные промежутки времени один за другим поднимались от ног к голове. Ты лучше всего поймешь, что это такое, если представишь себе движение лапок сороконожки. Я действительно считаю, что ревность – это животное чувство, которое может легко толкнуть даже на убийство. Существует два взгляда на ревность: что она является порождением культуры и что она представляет собой первобытный инстинкт, которым обладают и дикие животные. Судя по тому, что случилось тогда со мной, верно, думается, второе.
Но к чему же, наконец, должен был я так ревновать? Причина опять настолько дурацкая, что я просто не решаюсь писать о ней. Я ревновал к маске, к тому, что она будет трогать руками твое тело… К тому, что ты не отбросишь решительно ее руки. Не будешь сопротивляться до конца, даже с риском для жизни. Вот что вызывало мою ревность, и кровь стучала в висках, и перед глазами плыли круги. Смешная история, если подумать. Ведь все твои действия существовали пока лишь в моем воображении, были выдумкой самой маски – следовательно, я сам создал причину для ревности и сам же ревную к следствию.
Если я так отчетливо сознавал все, то должен был бы немедленно прекратить фантазии или приказать маске начать все заново, но… почему-то я не делал этого. И не только не делал, но, будто тоскуя по ревности, наоборот, можно даже сказать, натравливал, подстрекая маску. Нет, тут была, пожалуй, не тоска, а все та же месть. Я попал в какой-то порочный круг – все время подливал масла в огонь, муки ревности заставляли меня толкать маску на насилие, насилие же разжигало еще большую ревность. А если так, то и та самая первая сцена была продиктована моим собственным, скрытым желанием. Значит, существуют, видимо, проблемы, которым я должен смело посмотреть прямо в глаза, не сваливая все только на маску. Хорошо, ну а что, если… предположение не особенно приятно, но… если я еще до того, как лишился лица… еще с тех пор, как вел семейную жизнь, как все люди… сам тайно взращивал ростки ревности, ревновал тебя? Вполне возможно. Грустное открытие. Теперь я спохватился, но уже поздно.
Слишком поздно. Маска, которая должна была стать посредником между нами, оказалась бессовестным типом. Конечно, ничего бы не изменилось, будь она ласковым соблазнителем. Наоборот, появилась бы даже возможность страдать от злокачественной ревности, не находящей выхода. И в результате – одна из многих сцен насилия, так схожих между собой.
Твой страх вылился для меня в чувственные конвульсии, чего я и сам не ожидал… нет, довольно… каким бы это ни было спектаклем, созданным как протест против повседневности, то, что случилось, выходит за рамки допустимого. Если все это сон, то хотелось бы, чтобы он был облачен в изящные одежды аллегорий, а тут фантазии, которым недостает вымысла, фантазии, похожие на невыдуманный рассказ. Довольно банальностей!
Последняя сцена, какой бы банальной она ни была, – я не собираюсь притворяться, что ничего не произошло. Дело в том, что сцена была не просто банальной – она представляла собой апогей мерзости и в то же время стала переломным моментом, определившим мои дальнейшие действия. Направив на тебя пистолет, я стал вырывать у тебя признание: «Знаю, чем здесь без меня занималась! Не скрывай, ничего не выйдет. Знаю, что занималась». С невероятным упорством, медленно, но неотвратимо преследовал я тебя. Уже не было сил терпеть. Пришло время положить конец этим грязным, диким фантазиям. Как же сделать так, чтобы все было понятно? Самый лучший, единственный способ – я твердо был в этом убежден – сорвать маску в тот самый миг, как ты только откроешь рот, чтобы ответить мне.
Но кому должно быть понятно? Маске? Мне? Или, может быть, тебе?.. Да, об этом, пожалуй, я как следует не подумал. Естественно, что не подумал. Но я хотел, чтобы стало понятно не кому-то из нас, а самой идее «лица», которое загнало меня в такое положение.
Я начал чувствовать невыносимую опустошенность оттого, что между мной и маской образовалась такая пропасть. Может быть, я уже предчувствовал надвигающуюся катастрофу? Хотя маска, как видно из самого названия, была всего лишь фальшивым лицом и не должна была оказывать никакого влияния на мою личность, но стоило ей появиться перед твоими глазами, как она улетала так далеко, что до нее уже невозможно было дотянуться рукой, и, окончательно растерявшись, я провожал ее беспомощным взглядом. Так, вопреки моим планам, породившим маску, я вынужден был признать победу лица. Чтобы я слился в одну личность, необходимо было, сорвав маску, прекратить саму комедию масок.
Впрочем, как и следовало ожидать, маска тоже не особенно упрямилась. Как только она убедилась в моей решимости, тут же с горькой усмешкой поджала хвост и прекратила свои фантазии. Я тоже перестал ее преследовать. Сколько бы я ни настраивал себя против фантазий, у меня и в мыслях не было отказаться от своих завтрашних планов, и, значит, мы с маской – соучастники преступления, одного поля ягоды… Нет, было бы неверно назвать нас соучастниками. Не нужно опускаться до такого самоуничижения. Во всяком случае, в завтрашние планы не входило потрясать пистолетом. Сексуальные мотивы были, конечно, но они не могли иметь ничего общего с тем бесстыдством. Показаться распутником случайной, абстрактной попутчице в электричке – куда ни шло, но предстать в таком свете перед собственной женой – кому захочется?
Когда я в последний раз проходил мимо дома и сквозь изгородь заглянул в окно столовой, я увидел множество бинтов, свисавших с потолка лентами, точно белая морская капуста. Ожидая, что послезавтра я возвращусь из командировки, ты выстирала старые бинты, которыми я обматывал лицо. В ту минуту мне показалось, что сердце прорвало диафрагму и провалилось вниз. Я все еще любил тебя. Возможно, вел себя не так, как следует, но любил по-прежнему. И самое трагичное то, что утвердить свою любовь я мог только таким поведением. Я был похож на ребенка, которого не пустили на экскурсию, – ему остается лишь ревновать к историческим местам и древним памятникам.