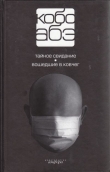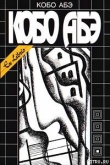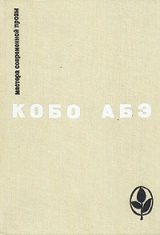
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Кобо Абэ
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 39 страниц)
Внутри у меня все сжимается. Я убираю егофотографию, оставив только фотографию женщины. Утро еще не наступило, но бутылка виски уже пуста. Радио беспрерывно передает американские народные песни. Под одеялом жарко, я не отрываю глаз от плода мушмулы. В моем воображении женщина превращается в маленькую девочку. Мушмула, покрытая очаровательной тонкой пленкой, напоминающей перепонку лягушачьей лапки. Женщине, несомненно, пошла бы короткая ярко-красная юбка. Где это у меня причудливо переплетается и смешивается, как в репродукции Пикассо, висящей в комнате женщины, с воспоминанием о той странной девушке, которая служит в ателье у моей жены. Головокружительный акробатический номер с бесконечно повторяющимся падением с абсолютно безопасного каната, разложенного на земле. А что, если пойти с женщиной в ателье к моей жене и заказать ей там платье? Хотя постой, она ведь говорила, что хочет подыскать себе работу. Может быть, устроить ее к жене?.. Перепонка лягушачьей лапки стала еще очаровательнее, превратилась в оливкового цвета резину… что разрушается, что остается?.. на пластиковом потолке, отделанном под дерево, появляется все то же лицо… смеющаяся луна… почему так страшен сон, будто меня догоняет полная луна, который я вижу два-три раза в год? Сколько ни ломал голову, что так и осталось для меня загадкой…
* * *
4 часа 56 минут… раздражающий звонок будильника, словно провели по нервам наждачной бумагой… в горле горит, оно забито мокротой, даже курить не хочется… в отличие от обычного вчерашнее опьянение продолжается, кажется, и сегодня. Сколько ни лью на лицо холодную воду – в глазах резь, будто долго стоял на голове, сколько ни сморкаюсь – из носа продолжает течь.
То, что еще только намечено на сегодня, уже записано в донесении. И ничего не остается, как действовать, будто все уже совершено. Маленькая комната почти без мебели кажется непомерно просторной. Может, потому, что холодно. Греюсь, обхватив руками теплый чайник на газовой плитке. Выпью чашку кофе покрепче и пойду. Если выйду в половине шестого, то в шесть десять доберусь туда, где живет женщина. Возьму машину, несколько раз для вида проедусь перед «Камелией» и уеду – будет точно 6 часом 30 минут, как и сказано в донесении.
Я побрился, переоделся и уже пил кофе, просматривая вчерашнюю вечернюю газету, когда снова раздался звонок. На этот раз не будильника… звонок телефона… телефон – единственная стоящая вещь в моей комнате… я его установил не специально, имея в виду свою работу, а просто чтобы иногда, когда проспишь, можно было позвонить в агентство. Но, насколько я припоминаю, последние полмесяца такого не случилось ни разу… я даже подумывал, не отказаться ли мне от него… звонок раздается в третий раз… не представляю, кто бы это мог быть… Возможно, ошиблись номером?.. постой, а вдруг женщина… внезапно оказалась втянутой в какую-то историю, заставившую ее снова сменить штору на лимонную?.. или жена?.. если жена, да еще в половине шестого, то не иначе, как аппендицит или острая пневмония… не дожидаясь четвертого звонка, беру трубку.
– Кто это?
– Вы спали?.. – Тусклый, слабый голос. Ну, конечно же, Тасиро.
– Что случилось, в такую рань?.. – И грубо: – Вы подумали, который час?
– Да, я уж решил, если вы не проснетесь после еще одного звонка, – положу трубку. Мне очень нужно с вами поговорить…
– Послушайте, на улице ведь еще совершенная тьма. Знаете ли, все хорошо в меру.
– Нет, нет, небо уже начинает светлеть. И такой печальный у него цвет. Вот прошла машина, развозящая молоко, а вот и топот газетчиков. Залаяла собака. Прогрохотал первый трамвай.
– Хватит болтать. Я кладу трубку.
– Не делайте этого! Вы потом пожалеете, что так отнеслись к последним, прощальным словам человека. Я скоро покончу с собой. Ночь не спал, все думал. Нет, я уже сыт по горло. О, снова газетчик бежит! Газета?.. в сегодняшнем вечернем выпуске будет заметка о моей смерти… причина… причина, в чем же она?.. невроз, наверно…
– Я восхищен вашей великолепной игрой. Но, к сожалению, я тороплюсь. Нельзя ли попросить вас продолжить спектакль, ну хотя бы завтра.
– Вы не верите? Бесчувственный человек. Неужели из моих слов нельзя понять, правду я говорю или лгу? Хотя любая ложь, изреченная, заключает в себе определенный смысл. Но на этот раз я заставлю вас поверить. Я заставлю вас раскаиваться всю жизнь. Меня это очень радует. Я заставлю вас до конца понять, что значит быть виновным в бесчувствии.
– Откуда вы звоните?
– Безразлично откуда. Вы как будто забеспокоились.
– Забеспокоился? Разве на меня это похоже?
– Что вы говорите?
– Я кладу трубку.
– Подождите! Я у вас не отниму много времени. Я ведь вот-вот умру. Когда умираешь, так хочется говорить и слушать. Для вас я был не больше чем обыкновенный червяк, и поэтому вы так спокойно присутствуете при моей кончине, да? Ну что ж, давайте договоримся: считайте, будто я притворяюсь, что умираю. Ладно? И, решив это, слушайте меня, спокойно попивая чай.
– Я пью кофе.
– Тем лучше. Вам это больше подходит. Вы слышите? Это я поднимаюсь на подставку… чемодан, с которым я езжу… теперь завязываю веревку вокруг шеи… нет, просовываю голову в веревочную петлю…
– Завещание написали?
– Нет. Я думал об этом, но, вели завещание писать серьезно, ему не будет конца… если же писать коротко – ну, например, «до свидания», – то и писать не стоит.
– Напоследок вы ничего не хотите сказать о начальнике отдела Нэмуро?
– Бесчувственный человек, вот уж поистине так. Даже не человек, а свинья. Разве так говорят с тем, кто вот-вот умрет? Ужасно… того человека… пропавшего без вести, я его презираю… разве это не малодушие?.. такое может сделать только трус… и вот из-за подобного ничтожества подняли невообразимый шум… я бы такого не сделал… ну вот, повернул петлю вокруг шеи. Теперь положение веревки – о'кэй… она и сейчас уже так стягивает шею, что, чувствую, вот-вот пойдет из носа кровь. Я ухожу дальше, чем любой пропавший без вести. Ухожу в непроглядную даль.
– Покончить с собой или пропасть без вести – разве не одно и то же? Ко всему еще – мертвое тело отвратительно. Пропасть же без вести – значит, стать прозрачнее воздуха, чище стекла…
– Постойте, что-то идет. Итак, я умираю. Оттолкну чемодан, на котором стою. Сейчас оттолкну. Скажите жене начальника отдела: нанимать сыщика ради человека, пропавшего без вести, – слишком большая роскошь…
– Почему роскошь? Для кого?..
Ответа не последовало. Мне показалось, что раздался звук, будто ногой раздавили резиновый мешок с водой, но и этот звук был заглушен страшным шумом – видимо, трубка обо что-то сильно стукнулась, и после этого я уже не слышал ничего. Только какой-то глухой звук, точно в ящике копошится собачонка… почудилось, наверно?.. я, конечно, не думаю, что он и в самом деле покончил с собой, но… что же делать? Если он действительно повесился, меня, как последнего человека, с которым он общался, полиция возьмет в оборот – семь потов сойдет. Возьмет в оборот – это точно, но какое лучше всего дать объяснение? Сплошная нелепица. Может быть, так сказать: все произошло оттого, что я был бесчувственной свиньей? Самым убедительным объяснением для полиции будет такая схема: я шантажом довел бедного человека до самоубийства. Ничего не поделаешь – для подобных людей это – единственное логическое объяснение причины и следствия. Да, отомстил он мне что надо. Так ловко, что я даже не понял, что он мстит… нет, он, конечно, не покончил со собой… он просто ненормальный… такой у него характер – он не может жить без того, чтобы не привлекать внимания окружающих экстравагантными выходками… это аналогично тому, как некоторые любят, когда на груди у них болтаются ордена… сейчас он поднес трубку ко рту и смеется или, может быть, плачет. Ага, какой-то звук… скрипнула дверь… Но я слышу громкий мужской вопль… кричит человек… хриплый испуганный голос…
Значит, правда! Я опускаю трубку и убеждаюсь, что кругом тишина.
* * *
И снова темная дорога… слишком темная дорога… заброшенная долина времени, когда мгла, точно щеткой, смела и женщин, вышедших за покупками к ужину, и грузовики, развозящие молоко, и серебристые автомашины, когда разложена по полочкам большая часть тех, кто ежедневно ходит на работу, и лишь людям, которые по дороге домой забредают кое-куда и притворяются пропавшими без вести, возвращаться еще рано… я останавливаюсь… как раз у того места, где онисчез.
В окне женщины та же, что и вчера, бело-коричневая полосатая штора… прежде всего мне бы следовало сообщить ей о самоубийстве Тасиро, но я почему-то все еще колеблюсь.
Пусть мое донесение о «Камелии» – само совершенство, но утверждение Тасиро, что он напал на егослед – хоть это и противоречит действительности, – большой шаг вперед в розысках, это позволило бы мне без зазрения совести говорить о блестящем успехе, но Тасиро смешал все мои карты. И на следующее утро мне волей-неволей пришлось идти в «Камелию».
Прорываясь в промежутки между домами, дует ветер. Поток холодного воздуха, ударяясь об острые углы зданий, завывает на таких низких тонах, что ухо не может уловить их… все поры на теле застывают, и застывшая кровь, влившись в сердце, превращает его в красный ледяной мешок в форме сердца. Выщербленный асфальтовый тротуар. На загоне по-прежнему валяется все тот же рваный белый мяч. В свете ртутного фонаря мои запыленные ботинки сверкают, будто позолоченные. Труп растрескавшейся дороги. Заброшенный, как и я, люк в пожухлой траве.
Сегодня я принес заявление об уходе. Если найдутся доказательства, что я был последним человеком, с кем вел свой последний разговор Тасиро, мне не избежать преследования полиции. А я еще больше ухудшил свое положение хотя бы уже тем, что немедленно не сообщил в полицию о случившемся. Чрезвычайно запутанная ситуация – для шефа она невыносима. Нельзя сказать, что шеф предложил мне уйти с работы, – это верно, но он и не отверг моего заявления. По выражению лица ни о чем не догадаешься, лишь глаза ласковее, чем обычно… Работать самостоятельно – это, конечно, хорошо, но стоит мне хоть чуть ослабить вожжи, и человека начинает заносить, а считают, что я придираюсь из-за дурного характера. Сколько угодно примеров того, что конец жизни почти всегда болото… у тебя, по-моему, большое самообладание, может быть, потому и совершаешь эту ошибку… наша профессия такая – весь путь перед тобой усеян ловушками… не хочу сказать ничего плохого, но для тебя лучше всего раз и навсегда сменить профессию… мир огромный, люди живут по-разному… ждем вас у себя в качестве уважаемого клиента, заявителя с толстой пачкой денег. По старой памяти мы подберем вам самого лучшего агента и сделаем для вас все, что в наших силах…
Полдня я сидел дома и ждал. Хорошие ли известия, плохие ли – хуже всего, когда ты бежишь от них. Но полиция так и не показалась. Кажется, худшего я избежал. Опасность была не столь уж нереальной, хотя о моих разговорах с Тасиро знали только женщина, шеф, ну и сам Тасиро.
Ожидание невыносимо… работаешь, но результат заранее известен и не зависит от твоих собственных сил, а ожидание – какие бы усилия ты ни прилагал, ничего изменить не может. К тому же от двухдневного пьянства я чувствовал себя отвратительно – три раза меня выворачивало. А может быть, за тем окном женщина тоже ждет? Скорее всего, полосатая штора не служит знаком того, что он вернулся. В противном случае был бы, конечно, звонок в агентство и я получил бы сведения от шефа. Полосатая штора означает что-то другое. Может быть, женщина все еще ждет? Но у меня не хватает мужества позвонить у той двери. Сменилась штора, и там внутри, несомненно, произошли какие-то перемены, даже если он и не вернулся. А кроме того, и во мне произошла перемена. Я ушел со службы в агентстве, которому женщина поручила розыск, я уже не агент, и женщина для меня уже не заявительница. Шеф дал мне последнее поручение: узнать, имеет ли она намерение продолжать розыски, даже если они будут поручены другому сотруднику, но и это я решил сделать лишь после того, как завтра утром порыскаю в «Камелии». Малодушие, может быть, но другого выхода у меня нет, и я не знаю, куда себя девать.
Онисчез, брат заявительницы убит, егоподчиненный Тасиро покончил с собой, моя жена ни разу не позвонила, и единственный человек, кто остался у меня, – женщина, которая не устает ждать.
Все исчезают. В глазах сослуживцев из агентства я, как это ни странно, тоже, видимо, буду одним из тех, кто исчез. Нет, не только я. И женщина, разговаривающая сама с собой и пробуждающаяся только опьянев, – ведь фактически подтвердить ее существование может лишь налоговый инспектор из муниципалитета. Смешная игра в прятки, когда несуществующие люди ищут друг друга.
Как ни сверкает ртутный фонарь, кроме тьмы, ничего не видно. Иногда подходит автобус и слышны шаги, но людей не видно… есть лишь уставшая от ожиданий черная, пустая перспектива… но я продолжаю ждать… медленно иду, останавливаюсь, поворачиваюсь на каблуках и снова иду… буду ждать сколько угодно… пока ждет женщина, буду ждать вместе с ней и я… точно по трубам, разносится звук с силой захлопнутых где-то вдали металлических дверей и отдается в ушах, как глубокий вздох земли. Тихий собачий вой прорезает пустоту. Действительно ли все исчезают?
* * *
Значит, за мной следили – ничего другого я предположить не могу. На улице все однотонно, краски еще не вернулись, но уже достаточно светло, чтобы различать очертания предметов. Как раз час, когда автомобили только начинают тушить фары, а в «Камелии» еще горит свет и сквозь черную сетчатую штору видно, что делается внутри. Кафе, темные дела которого все время привлекают мое внимание, битком набито волнующимися людьми. Мое донесение могло остаться в неизменном виде, стоило лишь исправить число с четырнадцатого на пятнадцатое… По всей вероятности, из кафе еще плохо видна улица. Действительно, все с сосредоточенным видом повернулись к стойке и совершенно не обращают внимания на то, что происходит на улице, и не принимают никаких мер предосторожности. Не исключено, что сторож со стоянки каким-то способом тайно связался с ними…
Я тоже не собираюсь остерегаться. Моя цель – встретиться с кем-нибудь из завсегдатаев и расспросить о нем. Я уже безработный и не собираюсь силой вытягивать из него сведения, окажись он неразговорчивым, и совсем не думаю о том, чтобы принуждать его к этому с помощью шантажа, запугивая разоблачением темных дел, которые здесь творятся. Обратив внимание, что объявление «Требуется официантка» написано заново, толкаю дверь кафе, в которое я уже приходил столько раз, и в тот миг, как я беспечно окунаюсь в шум и духоту…
У меня не было времени рассмотреть, что там происходит. Я лишь наткнулся на враждебные взгляды нескольких человек, обернувшихся в мою сторону, и в то же мгновение рука, протянувшаяся из-за двери, схватила меня за шиворот, а другая изо всех сил ударила по голове. Нет, это была не рука, а скорее палка. Похоже, гибкая резиновая дубинка. Тупо сдавило грудь. Во рту вкус желудочного сока. Меня били по лицу, пинали ногами, но особой боли я не ощущал. Боль я почувствовал, когда меня выволокли из кафе, бросили около стоявшей рядом машины и стали бить ногами по голове и животу. Резкая боль вспыхивает фейерверком, пробегает искрой, дав импульс сердцу. Может быть, от этого и я прихожу в сознание. Кто-то открывает дверцу машины, другой, взяв меня под мышки, вталкивает внутрь. Торчащие наружу ноги втискивают под приборную доску и грубо захлопывают дверцу. Сработано специалистами. Жаль, что не удалось рассмотреть лица человека, который заталкивал меня в машину.
Боль возвращает мне энергию. Пробую пошевелить плечами – к счастью, от этого как будто боль не усиливается. Руки в крови. Смотрю в зеркало над ветровым стеклом – все лицо залито кровью, будто его специально разрисовали кисточкой. Нос распух, дыхание тяжелое. Достаю из-под сиденья старое полотенце для протирки стекол и вытираю кровь. Но запекшуюся кровь так легко не сотрешь. Да и из носа кровь все еще идет. Зажимаю нос, откидываю голову и некоторое время остаюсь в таком положении. Но медлить нельзя. Там, где я нахожусь, сейчас еще почти безлюдно, окно «Камелии» уже превратилось в черное зеркало, пейзаж приобрел краски, вот-вот наступит утро, и на тихую безлюдную улицу хлынет поток людей. Мне не для чего выставлять такое лицо на всеобщее обозрение. Сворачиваю жгутиками бумажную салфетку и затыкаю нос. Ощущая взгляды, несомненно устремленные на меня из окна «Камелии», медленно отъезжаю. Сторожка автомобильной стоянки еще погружена во тьму, и старика, к сожалению, разглядеть невозможно.
* * *
И снова белое небо… и белая дорога, точно привязанная к этому небу… фонари уже сомкнули веки, дорога расширяется – на глаз метров десять… только кое-где в распахнутых парадных еще сохранились остатки ночи. Последние машины, развозящие молоко, проносились мимо вниз по склону, громыхая пустыми бутылками.
К счастью прохожих нет, я взлетаю по лестнице, прыгая через две ступеньки. И вот белый звонок у белой металлической двери с темно-зелеными наличниками… прошел всего лишь один день, а у меня состояние как у матроса, ступившего на сушу после многомесячного плаванья… какое бы значение ни таила в себе полосатая штора, человеку с окровавленным лицом, конечно же, разрешат войти.
После второго звонка шторка окошечка в двери наконец приоткрывается. В такое время задержка вполне естественна. Звук поспешно снимаемой цепочки. Ручка поворачивается, дверь широко распахивается, и, как я и ожидал, испуганный голос:
– Что случилось? В такую рань…
– «Камелия». Разрешите умыться…
Во всяком случае, в прихожей мужских ботинок не видно. Женщина, с сеткой на голове и в какой-то стеганой пижаме, кажется девочкой, и я никак не могу совместить ее с цветной фотографией, на которую, не отрываясь, смотрел две ночи подряд.
– «Камелия»? То самое кафе?
Снимаю пальто, стягиваю пиджак – ворот и рукава рубахи залиты кровью. Обмакиваю вату в теплую воду, приготовленную в умывальнике, и, тщательно смывая с лица запекшуюся кровь, коротко рассказываю о случившемся, тяжело при этом вздыхая, тяжелее, чем необходимо. Тревожные сведения, полученные от сторожа автостоянки… рассказ шофера Томияма, подтвердившего эти сведения… нелегальное посредничество в устройстве шоферов на временную работу…
– Пораненные места лучше не трогать. Сменить воду?
– Видимо, это кровь из носа… ран как будто нет… щиплет, но это, вероятно, ссадины.
– Вы, наверно, сами сделали что-нибудь такое, что им пришлось так вас избить.
– Избили – значит, наверно, сделал.
– Они безумно боятся попасться на глаза постороннему человеку.
– Вы уже знаете, что Тасиро покончил с собой?
– Покончил с собой?
– Он во что бы то ни стало хотел убежать.
– Что его к этому побудило? Должна ведь быть какая-то причина?
– Что побудило?.. Видите ли, это долгий разговор… в общем, он сбился с дороги… где я?.. действительно ли я живу так, как мне кажется?.. подтвердить это могли только другие, но ни один из них не взглянул в его сторону…
– Тогда мне следовало бы давным-давно умереть, вы не думаете? – В ее голосе снова слышится напряжение. – Рубаха мужа будет вам впору… наденете?
– Да, из-за него я потерял работу. Мой шеф страдает ярко выраженной полициебоязнью, и, если возникает хотя бы малейшая опасность оказаться втянутым в какие-нибудь неприятности, он тут же увольняет человека. Я могу рассчитывать, что вы разрешите мне продолжать работу оставшиеся два дня, хотя меня и уволили?
– Наверно, из-за меня.
– Вы сменили штору.
– Залила кофе. Позавчера, кажется. Совершенно верно, в день похорон брата… да, точно, вскоре после того, как вы заезжали ко мне… пятна от кофе очень плохо отходят… поэтому я отдала в чистку… разговаривала с кем-то, и он сказал, что очень бы хотел выпить кофе… пока я наливала, все было хорошо, а когда понесла, сзади кто-то пощекотал меня…
Неожиданно я чувствую тошноту. Резкая боль, возникнув у глаз, захватывает всю черепную коробку и, как в фокусе, концентрируется в затылке и сжимает горло.
– Кто же вас пощекотал? Вы опять размечтались о муже?
– Да, судя по тому, где пощекотали, видимо, так.
– Мне очень нравилась та лимонная штора.
– Через два-три дня повешу обратно.
– Осталось пятьдесят восемь часов. Двое суток и десять часов… до того момента, как истечет срок договора о розыске… договор на неделю, но воскресенье отбрасывается, и счет составляется исходя из шести дней.
– Я работать пойду. Пусть вас это не беспокоит…
Тошнота подступает все сильнее. Желудок становится тяжелым, будто в него погрузили грязный ком глины.
– В одном Токио не меньше восьмидесяти тысяч шоферов такси. Крупных таксомоторных компаний около четырехсот, а если прибавить и мелкие, то больше тысячи. Можно ежедневно обходить эти компании, но все равно в день больше чем в пяти не побываешь…
– Вы себя плохо чувствуете?
– Да, неважно…
– Вам бы лучше прилечь…
Головная боль и тошнота сузили поле зрения, все мое сознание бесстыдно вцепилось в напрягшиеся маленькие руки женщины. Будто в них сосредоточился весь мир. Наклонившись вперед и изо всех сил стараясь сдержать готовую вырваться рвоту, я впервые проникаю в спальню… неубранная после сна белая постель… вмятина на ней, оставленная женщиной… нос полон спекшейся крови и не ощущает запаха, но я все равно улавливаю его… вмятина от середины постели до стены – оставленное мне ложе для сна… оливковая перепонка лягушачьей лапки…
– …Простите… что там ни говори, а в сравнении с настоящим городом карта, которую мы нарисовали, слишком примитивна…
– Лучше помолчать, когда плохо себя чувствуешь… у вас еще целых тридцать четыре часа…
Женщина сидит на полу у кровати и, оставаясь невидимой, пристально смотрит на меня. Она действительно смотрит на меня? Или, как и тот гость, которого она угощала кофе, я тоже причислен к видениям – ее собеседникам, – когда она разговаривает сама с собой?..
Это огромное сердце, которое бьется, не зная, для кого оно бьется… город… изменив положение, ищу женщину… но ее уже нигде нет… где же я, на которого смотрит женщина, которой нет?..
– Сколько времени, а?..
– Пять минут…
Торшер около подушки неожиданно загорается – прямо передо мной стоит женщина. Стеганую пижаму она сменила на светло-желтое кимоно, сетка с волос исчезла, волосы рассыпаны по плечам.
– Пять минут какого?
– Пять минут назад истек срок договора.
– Как? – От неожиданности я подскакиваю на постели. – Что это значит?
Можете не беспокоиться. – Женщина поворачивается, отходит на несколько шагов и останавливается посреди комнаты. – С завтрашнего дня я решила пойти работать…
Перед тем как она повернулась, в выражении ее лица промелькнула неясная тень, оставившая легкий привкус на моих губах. Незнакомые воспоминания сковывают грудь. Почему я так отчетливо представляю себе, что делала женщина до того, как зажгла свет? Теперь ее взгляд, скользнув мимо стены, у которой стоит кровать, устремляется к окну рядом с туалетным столиком… к темно-коричневой шторе с простым рисунком в виде белых квадратиков неправильной формы…
– Что вы увидели?
– Окна…
– Нет, я спрашиваю, что вы видите в окне?
– Я же говорю, окна… много окон… в них, то в одном, то в другом, гасят свет… и только в такие минуты я могу почувствовать – там есть люди…
– Значит, сейчас уже ночь?
– Пять минут…
– Это я так долго спал?
– Нет еще… будете спать…
Откинув голову, она медленно встряхивает волосами, и они качаются из стороны в сторону. Сквозь кимоно можно ясно увидеть, как в такт этим движениям колышется ее грудь. Я напрягаюсь, потихоньку спускаю левую ногу на пол, перемещаю на нее центр тяжести и вскакиваю с кровати. Делаю шаг вперед, протягиваю руки, обнимаю ее и неожиданно сильно щекочу. Женщина коротко вскрикивает, вырывается из моих рук и пытается убежать. Но бежит она не к окну, не к двери, а прямо ко мне. Мы сталкиваемся и падаем на кровать. В моих глазах смеются коричневые веснушки, между пальцами натягивается нежная оливковая пленка. Вмятина на постели, оставленная женщиной… приготовленное мне ложе для сна…
Напротив кровати стоит платяной шкаф. Матово-белые большие металлические ручки. Поверхность шкафа, отделенная под бамбук, светло-коричневая и отполирована так, что на расстоянии двух метров можно смотреться в нее как в зеркало. Женщина где-то, видимо на кухне, тихо напевает. Доносятся лишь отдельные звуки, поэтому разобрать, что за песня – невозможно. Надев пиджак, я иду… идет и женщина… она проходит миме лимонной шторы, и сразу лицо ее становится черным, волосы – белыми, губы – тоже белыми. Зрачки – белыми, белки – черными, веснушки превращаются в белые точки, будто это пыль на скулах каменной скульптуры… крадучись, я направляюсь к двери.
* * *
Вдруг я замедляю шаг и останавливаюсь. Останавливаюсь, точно меня отбрасывает назад пружина воздуха. Центр тяжести, перенесенный с пальцев левой ноги на пятку правой, снова возвращается к левой и сосредоточивается в колене. Потому что подъем очень крутой.
Дорога не асфальтированная, а покрытая грубым бетоном, и, видимо, чтобы предотвратить скольжение, через каждые десять сантиметров в нем прорезаны узкие бороздки. Но пешеходам от этого пользы мало. К тому же пыль и крошки от стирающихся на шершавом бетоне покрышек постепенно забили все неровности, и в дождливый день, если ботинки на резине, да еще старые, идти по такой дороге – дело, наверно, нелегкое. Видно, она рассчитана на автомашины. Бороздки через каждые десять сантиметров, по всей вероятности, могут сослужить им службу. Не исключено, что они оказываются эффективными и для отвода воды в кювет, когда талый снег и грязь забивают водостоки.
Впрочем, все эти ухищрения напрасны, так как машин здесь совсем мало. Из-за отсутствия тротуара во всю ширину дороги, поглощенные беседой, не обращая ни на что внимания, идут несколько женщин с сумками в руках. Посреди дороги мчится вниз мальчишка на роликах, завывая как сирена. Я поспешно посторонился, потому что тоже шел посреди дороги.
Тут я замедляю шаг и останавливаюсь. Останавливаюсь, точно меня отбрасывает назад пружина воздуха. Центр тяжести, перенесенный с пальцев левой ноги на пятку правой, снова возвращается к левой и сосредоточивается в колене.
Слева – крутая стена, сложенная из камней. Справа – почти отвесный обрыв, начинающийся сразу же за низким, лишь для видимости, металлическим ограждением и неглубоким кюветом. Стена, казалось, перерезает и дорогу впереди, которая круто поворачивает здесь влево и потом должна резко пойти в гору, к жилому массиву на холме. Через пять-шесть шагов обзор расширится, и я увижу улицу, которая мне нужна. В этом можно не сомневаться. Пейзаж, его даже не замечаешь – так привычна стала мне эта дорога, по которой я могу идти хоть с закрытыми глазами… дорога, ставшая такой родной – сколько сотен раз ходил я по ней… и сейчас, как всегда, иду по ней – я возвращаюсь домой.
Но тут я непроизвольно останавливаюсь. Останавливаюсь, точно меня отбрасывает пружина воздуха. Останавливаюсь с желанием бежать назад от этой удивительно четкой картины, от этого вида крутой дороги, на которую обычно не обращал внимания. Причина, заставившая меня остановиться, была, конечно, ясна, но в это трудно поверить. Почему-то пейзаж, который должен был открыться сразу же за поворотом, пейзаж, казалось знакомый мне не хуже дороги, расстилавшейся сейчас передо мной, я никак не могу вспомнить.
Оснований для беспокойства пока еще не было. Такие провалы памяти, по-моему, бывали у меня уже неоднократно. Надо подождать. Когда смотришь на стену, выложенную квадратами, смещается фокус и чувство дистанции теряется. Забыть на какой-то миг имя знакомого человека – в этом нет ничего странного. Вот я сейчас упрусь в землю левой пяткой, уравновешу центр тяжести – много времени это не займет – и спокойно дождусь, пока фокус восстановится. Ведь за поворотом улица, где мой дом, – это совершенно точно. Я просто никак не могу вспомнить, но то, что он существует, – факт неопровержимый.
Небо по сезону сплошь затянуто негустыми синевато-серыми тучами, и уже надвигаются вечерние сумерки, хотя часы показывают двадцать восемь минут пятого. Еще достаточно светло, чтобы различить бороздки, прорезающие дорогу через каждые десять сантиметров, но не настолько светло, чтобы предметы отбрасывали тень. Стена слева уже вся темная, виной тому, видимо, материал, из которого она сложена, да к тому же и влажный мох быстрее впитывает мглу. Я скольжу взглядом вверх по стене, дохожу до прерывистой неровной линии – в этом месте небо пронзительно-светлое. Рассмотреть, что там, конечно, невозможно, но на середине холма, я это знаю, должны стоять три небольших деревянных жилых дома и около них – окруженное деревьями не то общежитие, не то гостиница. Там, от самого конца склона, идет еще одна дорога, но я редко ею пользовался и поэтому плохо помню – тут уж ничего не поделаешь. Я даже возлагаю надежду на то, что где-то в тайниках памяти, хоть и нечетко, что-то все же сохранилось. Иначе такого воспоминания не родилось бы, когда расстилавшаяся передо мной дорога распахнула двери в прошлое. А может быть, в действительности совершенно неизвестное место представляется мне знакомым потому, что, по мне, весь мир за пределами моего поля зрения пусть хоть исчезнет. Но исчезла тем не менее лишь улица, где мой дом.
Север… в какой же он стороне? Не могу даже определить положение солнца, а еще пытаюсь совершенно точно угадать направление! В долине, что внизу, под обрывом, это бы удалось сделать. Я нахожусь на такой высоте, что ряды домов там оказались значительно ниже уровня моих глаз, и я вижу лишь черепичные и железные крыши – поле, где вместо овощей – люди и лес антенн, улавливающих радиоволны, – все это напоминает геометрические фигуры игрушечного лабиринта, вижу трубу бани, торчащую рядом с каменной оградой. Прямо напротив меня… но я уверен, что смогу точно проделать в уме весь путь через лабиринт до бани, что стоит у меня на дороге… Вот я присаживаюсь у недавно открытого магазина. Улица, по которой любят прогуливаться старики, покуривая сигареты. Улица, по которой после трех часов спешат женщины с банными принадлежностями. Дорога – объезд у самого обрыва, – по которой снуют грузовички, развозящие керосин. На ее обочинах громоздятся горы обломков рекламных щитов.
Переступаю с ноги на ногу, дышать становится все труднее. И по мере того как дышать становится все труднее, начинает расти беспокойство. А может быть, оттого, что растет беспокойство, дышать становится все труднее. И мне не только не удается восстановить фокус, но, хуже того, улица за поворотом все больше превращается для меня в белое пятно, будто ее стерли отличным ластиком. Стерт цвет, стерты очертания, стерты формы, наконец, стерто, кажется, само существование этой улицы. Сзади слышатся шаги. Меня обгоняет мужчина, по виду служащий, с папкой в левой руке и с зонтом в правой. Ссутулившись, загребая ногами, он идет, размахивая зонтом в такт шагам. Видимо, оторвалась застежка, и складки зонта, точно дыша, то расходятся, то сходятся. Окликнуть его не хватало смелости, но в какой-то миг захотелось пойти за ним следом. Может, это и есть самое главное – вот так, не колеблясь, и не раздумывая, идти вперед? Во всяком случае, через каких-нибудь пять-шесть шагов я смогу увидеть, что там за поворотом. Мне кажется, что если удастся своими глазами убедиться в реальности пейзажа, все легко разрешится, как застрявшая в горле пилюля легко проглатывается с водой. Мужчина как раз заворачивает за угол. Он исчезает, но никакого вопля не слышно. Видимо, улица там существует, в чем он и был абсолютно уверен. То, что удалось мужчине, должно удаться и мне. Всего каких-то пять-шесть шагов, какие-то десять секунд – невелика потеря.