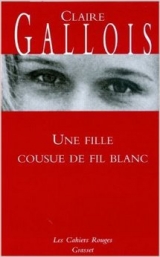
Текст книги "Шито белыми нитками"
Автор книги: Клер Галлуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
В нашей парижской квартире мебель была в чехлах, пепельницы вытряхнуты, вазы пустые, ковры скатаны. Захлопали двери. В передней на кресло был брошен плащ, его забыла здесь Клер. Валери мимоходом спокойно подхватила его, прошла во вторую прихожую, стена которой из раздвижных зеркал примыкает к нашим спальням, и, хотя там был полумрак, я видела, как она натянула на себя новый плащ Клер и вертелась во все стороны, чтобы рассмотреть, идет ли он ей. Я потихоньку приблизилась и сказала ей очень вежливо:
– Ты что, берешь его себе?
Она взглянула на меня в зеркало и ответила:
– Уж конечно, я оставлю его себе, с какой стати он должен доставаться кому-то другому.
Мы долго-долго смотрели друг на друга в зеркало, пока изображение не затуманилось.
– Что это на тебя нашло? Чего ты в конце концов хочешь? – сказала Валери.
Это было, ей-богу, не нарочно, просто я сморозила глупость:
– Хочу, чтобы плащ остался у Клер.
Ненавижу перекроенный нос Валери. Ненавижу ее особый запах. Ненавижу ее вместе с ее слабительными. Ненавижу ее в сочельник. Вот Клер в сочельник подарит тебе разрезальный нож из бузины, на котором острием перочинного ножа она сама вырезала трех соловьев. По крайней мере она сказала, что это соловьи.
Прибежала Анриетта, держа на руках Шарля, закутанного в купальный халат. Лицо у нее было мокрое, разбухло как губка. Фартук она сняла, и из-за черного платья казалось, что она в трауре; она сказала нам:
– Какое несчастье, нет, это просто невозможно, такая красивая девочка, лучше вас всех, я совсем голову потеряла, вот уже третий раз купаю ваших братцев, а они, бедненькие мои купальщики, даже не скандалят.
За спиной Анриетты Валери повертела пальцем у виска и взглянула на Алена. Анриетта открыла в гостиной ставни, принесла большой кувшин сангрии – красного вина с плававшими в нем кружочками апельсинов и лимонов. Тоненько позвякивали ледышки. Она сказала, что ведь надо все же хорошо принять беднягу Алена, вдовца, не успевшего стать мужем. Ален достал из кармана записную книжку и начал золотым карандашиком отмечать галочками фамилии в списке. Потом поставил на колени телефон. Валери протянула ему бокал, весь запотевший, с липким ободком по краю. Он положил руку на голову Валери, сидевшей с ним рядом, и, зажав телефонную трубку между ухом и плечом, стал свободной рукой набирать номера телефонов. Отхлебывая маленькими глотками вино, он сообщал всем, что Клер умерла. Да, сразу. Нет, не мучилась. Лицо у нее, благодарение богу, совсем не пострадало.
Бабушка Картэ явилась ужинать с нами. Ключи от нашей квартиры прицеплены у нее к общей связке, и еще издали слышно, как она ими позвякивает. Вся в черном, надушенная «Эмерод де Коти», она говорит так тихо, что все умолкают, иначе не слышно слов, плечи у нее совсем согнутые, и ее мучит одышка. В шелковых складках платья прятались жемчужины четок, и ее пальцы перебирали их. Опа купила заливного цыпленка и ананасный торт. И велела Анриетте поднять с постели Оливье и Шарля, чтобы мы все вместе помолились. Она так печально поцеловала нас, что мурашки пошли по коже.
Она поцеловала также Алена, притянув его к себе за галстук. Бабушка обладала особым даром превращать нас всех в малых детей. Стоит ей появиться на пороге, как туг же надо вскакивать, обрывать разговор, смотреть только на нее. Она бросает как бы в шутку:
– Кто знает, долго ли еще вам суждено меня видеть? В мои годы весишь чуть больше перышка, порыв ветра подхватит и… – фьюить! – унесет вашу бабулю.
Теперь из-за Клер она, должно быть, чувствовала себя задетой. Она прошла в столовую, опираясь на руку Алена. Взглянула в проем большого окна сквозь лазурные очки и напомнила о том дне, – да не вчера ли это было? – когда мы все так передрались, что поданные на десерт сливочные сырки, пролетая над столом, шмякались об оконное стекло. Она спохватилась и, чтобы подправить картину, сказала:
– Но в глубине души, дорогие мои детки, вы крепко любите друг друга, правда? Теперь вам надо еще сильнее любить друг друга, чтобы потом не пришлось себя укорять.
Она вздохнула и еще раз вздохнула:
– Вашей бедной мамочке… верно, хотелось бы, чтобы я была там?
Мы отвечали:
– Да, бабуля, но она боялась, что это тебя утомит.
Погрузив нос в носовой платок, она проговорила сквозь батист:
– И для чего только щадить мою старую жизнь?
Мы не знали, что ответить. Столовую затопляли краски и запахи летнего вечера. Словно наши слова и жесты были ненастоящими, словно Клер и не думала умирать. Самый мой любимый торт ананасный.
Обычно посередине обеденного стола три бронзовых амура держат на своих крыльях корзину, наполненную камелиями или черным виноградом. Мамины кольца сверкают, когда она вертит в руках хрустальную подставку для ножей. Граненые пробки преломляют темный или бледный отблеск вина в графинах. Стулья у нас с выгнутыми ножками, с настоящими резными копытцами, но, к несчастью, Оливье, Шарль и я порвали кожу на сиденьях. Из-за шафрановых занавесей столовая всегда будто залита солнцем. Когда Анриетта разносит блюда, от рук ее пышет жаром, а платье слегка трещит в пройме. Против света волосы Клер кажутся на удивление блеклыми. Положив локти на стол, она подмигивает Шарлю, тот смеется и шлепает ложкой в своем пюре. Мама ударяет черенком ножа Клер по локтю:
– Нарочно ты что ли?
Если Клер говорит «да», разыгрывается сцена. За каждой едой бывает сцепа. Оливье непременно желает пить молоко из кубка, как американские солдаты. Он требует, чтобы ему стригли голову под машинку, устраивает со своим пулеметом засаду в коридоре и осыпает нам ноги стрелами. Я дразню его, говорю, что он точь-в-точь штатский немец на развалинах Берлина – с тощими икрами и уродливым черепом. За столом я непременно стараюсь залпом выпить его молоко. Он вопит, мама сердится – насколько же всем спокойнее, когда я в пансионе. На глаза у меня навертываются слезы, щиплет в носу, но я улыбаюсь маме, улыбаюсь прямо ей в лицо, и она кричит:
– Не смей на меня так смотреть! Да уйми ты ее, Жером.
Папе все это просто осточертело, он встает и объявляет, что идет в кино. И громко хлопает входной дверью, но, поскольку через десять минут он все равно вернется, нас это не тревожит, А мама тем временем плачет, Она говорит, что они с папой были так счастливы, пока мы не появились на свет, и что мы порвали кожаную обивку на стульях.
Сейчас никто не ссорился. Бабушка, проворно орудуя пальцами, расправлялась с остовом цыпленка. Куриную гузку она называет «укромным местечком». Ален по оплошности налил мне вина, и я выпила. Валери, загибая пальцы, вместе с Аленом вспоминала все мелочи, которыми придется заниматься завтра. Отменить уведомления о предстоящей свадьбе. Отослать подарки, за которые Клер еще не успела поблагодарить. Подсчитать совместные расходы папы и Алена на квартиру для новобрачных. Валери подняла увлажнившийся взгляд:
– И вы будете там жить один, Ален? Как все это грустно!
Ален предложил, чтобы мы все перешли на «ты». Он спокойно и рассудительно посматривал на нас. Когда потом, в декабре, он женился, Анриетта сказала, словно спорила с кем-то:
– Уж этот-то не помирал от горя, сразу видно было.
Но в монастырях они все такие, смерть для них – заупокойная месса, и только. В пансионе, когда умирала одна из сестер, нам обычно давали шоколадный крем. Голова у бабушки совсем отяжелела, она подпирала ладонями лоб и говорила обо всех, кто умер на ее веку: о тетушке Клемане, которой в восемьдесят лет ничего не стоило перекинуть ногу через стул; о своем брате, маленьком Жан-Луи, который утонул сразу после обеда сорок лет назад; о старой подруге Клотильде и еще о множестве других людей, которых мы не знали. Только о нашем дедушке она забыла, но мы не стали ей напоминать.
Клер отходила все дальше и дальше. Я боялась, вдруг кто-нибудь произнесет ее имя. Боялась, вдруг Клер вернется. Я вспомнила аромат лилий в клинике и вышла из-за стола – день был таким необычным, что никто ничего мне не сказал. Я не захотела ночевать в спальне Клер.
И отправилась в комнату, которая у нас называлась «Наполеон», потому что папа превратил ее почти что в мавзолей императора: в запертой на ключ витрине хранится треуголка, пистолеты его сына, Римского короля, с перламутровой рукояткой, сабли трех-четырех маршалов вроде Нея или Ла Бедуайера, а также фанфары и знамена их полков. Повсюду в комнате эмблема Наполеона – золотые пчелы: на степах, занавесях и даже на кровати, доставленной из Мальмезона. До чего же, вероятно, тоскливо в этом Мальмезоне по воскресеньям.
Я легла, натянув простыню на голову, надавила кулаками глазные яблоки, чтобы замельтешили красные звездочки – это я обожаю. Но я стала думать о Клер, о ее неплотно прикрытых веках, о неестественно сложенных руках, о холоде кожи, который я ощутила, когда пришлось ее поцеловать.
В нашем загородном доме Клер, бывало, потащит меня за собой ночью в сад. Освещенные окна исчезают за поворотом аллеи, делается так темно, что мы беремся за руки, чтобы не потерять друг друга. Вдруг Клер, не предупреждая, выпускает мою руку, и я не знаю, близко или далеко она от меня. Она дует в сложенные раковиной ладони, сначала это крик совы или гудок парохода в тумане, потом он переходит в жалобу, словно кто-то ужасно несчастный стонет в темноте, и вдруг я ощущаю руки Клер на своем лице, словно прикосновение души, отлетающей от земли.
Я принялась орать. Орала я с такой силой, что нити, удерживавшие меня в «Наполеоне», порвались, и я устремилась к горизонту; за моей спиной один за другим рушились в бездну годы, и я была свободна, меня увлекали за собой небесные светила – те, что августовскими ночами свершают свой оборот вокруг солнца, а мы внизу говорим: «Гляди-ка, звездочка покатилась…»
И тут меня разбудили. Валери трясла меня за плечо:
– Ты что, больна?
Я сказала:
– Я видела Клер в ногах своей кровати.
В конце концов мой страх передался и ей. Валери перетащила свой матрас в «Наполеон». Время от времени мы спрашивали друг друга: «Спишь?», чтобы не поддаться сну. Нам чудилось, будто этим мы защищаемся от Клер и ей до нас не добраться. Две машины, рокоча моторами, въехали на нашу улицу и остановились как раз под окнами: слышно было, как хлопают дверцы, смеются люди. Я встала, перегнулась через перила балкона. И увидела двух женщин в длинных платьях, словно сошедших с обложки модного журнала, и двух мужчин в смокингах, в точности такая сцена, участницей которой я представляю себя в будущем, одна из тех сцен, что позволяют мне терпеливо дожидаться, пока я вырасту; но в тот момент это и правда вывело меня из себя и я крикнула:
– Вы что, не можете помолчать немного? В доме покойник.
Воцарилась тишина. Машины бесшумно отъехали. Спустя некоторое время Валери сказала:
– Все-таки ты уж чересчур.
Папа резко распахнул дверь «Наполеона». И обнаружил, что мы лежим вдвоем на одном матрасе – так мы в конце концов уснули вместе, прижавшись друг к другу.
– Бедные мои девочки, – сказал он, – бросили вас совсем одних.
Крупными шагами он подошел к окну, раздвинул жалюзи, из-за яркого солнца мы заползли под простыни. С улицы, где проехала поливальная машина, доносился запах дождя. Папа без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки и небритыми щеками напоминал какого-то узника из кинофильма.
Пана не любит, когда мы поздно встаем; он входит к нам в спальни, приставляет к губам большой палец, словно мундштук горна, и кричит, поднимая, как по тревоге:
– Подъем! Боши идут врассыпную, цепью!
Обалдело вскакиваешь с постели, и, пока сообразишь, что это шутка, сон как рукой сняло, и бесполезно пытаться снова заснуть. Но сегодня папа торопил нас совсем иначе, словно получил еще одну телеграмму; мы сели, закутавшись в простыни, протирая глаза, и Валери проворчала:
– Папа, еще шести нет.
– Подъем!
– Но что случилось, в конце концов? – запротестовала Валери. – Прежде всего выйди отсюда, дай нам одеться.
В эту минуту появился Шарль, он волочил по полу своего мишку Селеста, держа его за лапу. Шарль вцепился в папину ногу и твердил, подражая Валери:
– Что случилось, папа? Что случилось?
Папа тряхнул Шарля, чтобы тот выпустил его штанину, и влепил ему парочку подзатыльников, пожалуй чересчур сильных; Шарль недоуменно вскинул на него глаза и вдруг завыл, сначала вроде бы нерешительно, потом завопил отчаянно. Папа заткнул уши:
– Да замолчите же вы наконец! Вы что, забыли, что у вас умерла сестра?
Тут вошел Оливье, босой, еще не совсем проснувшийся; он увидел, что Шарля наказали, уголки его губ опустились, и, желая защитить брата, он сказал:
– А мне плевать, что она умерла.
Мы все затаили дыхание и смотрели на папу. Папа утонул в молчании, руки его бессильно повисли, он заплакал, но теперь совсем беззвучно. Он поцеловал нас, как в те дни, когда особенно любил и называл «милые вы мои».
Анриетта толкнула дверь, застегивая на ходу блузу, которую обычно надевала, чтобы купать Оливье и Шарля; увидев нас, она прижала ладони к лицу и залилась слезами. Папа, слабо улыбаясь, спросил:
– Вы тоже любили Клер, Анриетта?
– Не могу этому поверить, – рыдала Анриетта, – не могу поверить, мсье.
Папа помотал головой, совсем как лошадь. Наконец сказал, не глядя на нас:
– Сегодня утром на пальцах у Клер выступили черные пятна.
Мы бесшумно оделись. Даже Оливье и Шарль не проронили ни слова. За завтраком слышно было только позвякивание чашек о блюдца, потом мы в строгом порядке спустились по лестнице вместе с папой, стараясь шагать совсем неслышно.
Был канун 14 июля. К балконам уже прикрепляли флаги, цветочницы поливали выставленные на тротуаре горшки с цветами, и на пыльном асфальте растекались круглые лужицы.
Для клиники час был еще ранний; вазы с цветами, стоявшие на полу в коридоре, еще не внесли обратно в палаты; монахини в белых ночных одеяниях, еле шевеля губами, дочитывали молитвы, и поэтому не могли с нами поздороваться.
Перед палатой Клер цветов не было. Папа приоткрыл дверь, и мы друг за дружкой протиснулись туда; мама молча поднялась нам навстречу и коснулась плеча каждого из нас, словно пересчитывая. Она не плакала, от нее веяло каменным спокойствием. Она приподняла штору и сказала, что не решается совсем ее отдернуть из-за пятен.
– Взгляни, Жером, еще одно появилось на подбородке.
Мы выстроились вокруг кровати Клер и, стараясь не подать виду, искали глазами пятна. Маленькие круглые пятна. Фиолетовые. А не черные. Оливье и Шарль еще не видели Клер. Оливье оперся о край матраса, стал на цыпочки, широко открыл рот, но не произнес ни слова. Папа приподнял Шарля, наклонил его над Клер, мама сказала:
– Нет-нет, Жером, он еще слишком мал.
– Я хочу, чтобы он запомнил, – ответил папа.
Шарль, потянувшись руками к лицу Клер, запечатлел на нем слюнявый поцелуй. Папа опустил его на пол; Шарль вздохнул, обвел нас взглядом, снова повернулся к Клер и, ухватившись за простыню, хотел вскарабкаться на постель.
– Не трогай, детка, – сказал папа.
Клер стала неподвижно твердой, это сразу было заметно. Папа подтолкнул Оливье:
– Хочешь поцеловать Клер?
Оливье быстро-быстро замотал головой и попятился к стене.
– Поцелуйте Клер, – раздраженно сказал папа, – все поцелуйте.
Мы не могли. Клер медленно погружалась на дно, к центру земли. Лицо ее поблекло, как отцветшие цветы, которые вот-вот осыплются. Мы боялись Клер. Папа настаивал:
– В последний раз.
Он притянул Валери за шею, она упиралась.
– Как? Ты не хочешь?
Валери сказала:
– Да нет, конечно, хочу.
Но не сдвинулась с места. Мама словно вдруг очнулась, она спокойно сказала:
– Оставь их, Жером, они правы, это негигиенично.
Мама вечно воюет с микробами. Стоит кому-нибудь из посторонних поговорить в нашем доме по телефону, она, едва дождавшись, когда положат трубку, тут же протирает аппарат ватой, смоченной одеколоном.
Мы, ничего не понимая, взглянули на маму. А потом, конечно, сразу вспомнили все эти истории, которые любят рассказывать, о могильных червях и прочем, и бросились к Клер, мы крепко целовали ее, так крепко. «Клер, умоляю тебя, не сгнивай никогда». И мы принялись вопить – словно таким способом еще можно было удержать Клер, вернуть Клер. Сразу же появилась монашенка:
– Пожалуйста, потише, вас слышно в том конце коридора!
Около полудня монашенка объяснила:
– Все это из-за жары. Если вы будете ждать дольше, у вас могут быть неприятности.
Она откинула назад монашеское покрывало, заколов его булавкой, на лбу и на носу у нее блестели капельки пота, выглядела она совсем нестарой. Она взяла блюдце с водой, веточку букса и две свечи, я помогла ей вынести все это в коридор; там я спросила:
– А лилии оставите?
Она ответила, что лилии брали из соседней палаты. Она ходила быстрыми шагами, и ее кожаные туфли поскрипывали.
Когда мне делали операцию аппендицита, меня положили на каталку, покрытую белой простыней, повезли по коридорам, а я смеялась и твердила: «Быстрей, еще быстрей», и у меня кружилась голова.
Так же поступили они и с Клер. Два санитара привезли в палату каталку и поставили рядом с кроватью. Они приподняли Клер за плечи и за ноги – тело ее не прогнулось посредине, оно оставалось прямым, точно ствол дерева, – и опустили его на каталку.
Мы отошли в глубь палаты, уступив место каталке, папа с мамой стояли впереди, заслоняя от нас кровать. Папа обеими руками поддерживал маму, а мама сказала:
– Поосторожнее, ох, да поосторожнее… – когда перекладывали Клер.
Монашенка хлопотала, снимала с матраса простыню, расстегивала пуговицы на наволочке; она шепнула, не переставая сноровисто двигать пальцами:
– Не держитесь все вместе, а то получится настоящая процессия.
Мы ничего не ответили. Ma на склонилась над Клер в головах каталки, лицо у нее было такое, как бывает, когда мы болеем и она говорит нам:
– Усни, мама тут, с тобой, твоя боль перейдет к маме.
И правда. Просыпаешься окрепшей, а мама словно и не пошевельнулась, ты по-прежнему прижимаешь ее руку к сердцу. А у нее уже припасен для тебя сюрприз: то ли абрикосы, то ли куколка, наряженная сиделкой. Мама погладила Клер по щеке, прежде чем монахиня натянула на ее лицо простыню. Папа подхватил на руки Шарля, который ходит слишком медленно, и мы вышли в коридор. Впереди вприпрыжку спешила монашенка, подметая подолом плитки пола; другие сестры, прижавшись к степе, крестились, когда мы проходили мимо. Каталку поместили в лифт, а мы стали спускаться вниз по лестнице, все, кроме мамы, – она по-прежнему крепко сжимала железную ручку каталки.
Мы вышли в сад. Солнце уже высоко поднялось над цветником, и нельзя было различить, какое небо: голубое или белое, ветер приносил с собой запахи песка и нагретого асфальта. Каталка с трудом продвигалась по гравию, Клер подбрасывало на ней, и мама положила ладонь на сложенные руки Клер, в том месте, где под простыней отчетливо выступал холмик. Оливье ныл:
– Мама, у меня во рту пересохло, пить хочу.
Мама едва слышно проговорила:
– Сейчас, сейчас.
Мы остановились перед небольшим одноэтажным домиком, стоявшим в стороне. Нас уже ждали люди в черном, в полосатых брюках. Они обнажили головы и знаком велели продвинуть каталку дальше – так загоняют в гараж машину. Внутри было свежо и хорошо пахло. И кругом было множество всяких цветов – гладиолусы, анютины глазки, лилии, розы, маргаритки и еще букеты, венки из одних только белых цветов, лежавших даже на черно-белых плитах пола. Соломенные стулья выстроились вдоль стен, как в ризнице. Ален был уже здесь, он встал, держась очень прямо, скрестив руки на втянутом животе, словно старался сдержать икоту. Он взглянул на каталку, потянулся было к Клер, потом закрыл глаза. Распахнулись двустворчатые двери, и мы увидели яркую, выкрашенную в зеленый цвет комнату и на помосте – гроб. Клер вовсе не была такой большой. Мы сразу догадались, что это гроб, какая-то совсем новая мебель, вроде буфета из «Галери Барбес». Валери моргнула и выдавила из глаз две слезинки, блеснувшие у нее на щеках. Санитары втолкнули папу, маму и Алена в комнату и захлопнули дверь у нас перед носом.
Мы стояли, прислушиваясь к тому, что происходило за дверью: вот зашуршали простыни, заскрипела каталка^ скрежет колес о камень, шумное дыхание людей, несущих какую-то тяжесть и чей-то голос:
– Осторожно… хоп!
Шарль сосал большой палец. Вышли санитары с пустой каталкой, они кивнули нам на прощание и на цыпочках удалились.
В дверях появился папа, дрожавший всем телом, он велел нам войти. Мама стояла к нам спиной, и, когда папа дотронулся до ее плеча, чтобы обратить на нас внимание, она рывком высвободилась, даже не обернувшись к нам, Ален удерживал дыхание, он тоже на нас не взглянул.
Никто теперь не мог поцеловать Клер. Обтянутые крепом стенки помоста были слишком высоки. Не знаю, кто позаботился о Клер, люди в черном или санитары, только она опять стала прежней. Убрали вату, окутывавшую ее голову, волосы снова падали свободно, на ней было белое подвенечное платье. Надо было бы запретить смотреть на эту притворно уснувшую Клер, заключенную в атласный футляр, как в чрево кита.
Я думаю, перед умершим всегда чувствуешь себя дурак дураком. Прощай, Клер, прощай твой последний земной облик, как выражается папа. Уходи от нас поскорее, уходи подальше – ведь то, что ты еще здесь, уже ничему не поможет. Уходи, пока нам не стало стыдно.
Люди в черном попросили у папы разрешения действовать, папа склонил голову, они подняли крышку, хорошенько пригнали ее к гробу, достали из сумки горелку, один из них надел прозрачную маску. И они запаяли Клер.
Едва вылетели первые голубые искорки, мама сразу же увела нас на улицу. Выйдя на солнце, она провела по волосам гребенкой – у нее были коротко подстриженные волосы, каштановые и белокурые вперемежку, – взяла Оливье и Шарля за руки и сказала:
– А сейчас мы с вами вкусно позавтракаем, ладно?
Клер пошла с нами. Она догнала нас в обсаженной кустарником аллее. На ней была шелковая желтая кофта с большим вырезом, широкие черные расклешенные книзу брюки, золотистые итальянские босоножки. Волосы ее струились по плечам, она ступала по гравию совершенно бесшумно. Солнце завладело миром. Я вдохнула так глубоко, что оно осветило до дна мои легкие, две темно-рубиновые пещеры, и сделала несколько па. Валери ущипнула меня с вывертом, шепнув:
– Ты что, с ума сошла?
От жары нас бросало в дрожь. Голова гудела от этого белесого солнца, обрушившегося на нас, едва мы вышли из домика, где осталась Клер. Папа шагал, закрыв лицо ладонями, точь-в-точь Адам, изгнанный из земного рая, каким он изображен в книге по Священной истории. Я попробовала: сквозь пальцы все отлично видно. К нам приблизились родители Алена… пожилой господин с трудом подкатил свою жену, колеса глубоко врезались в гравий.
Старая дама до того толстая, что уже никогда больше не сможет ходить. Она так и живет в кресле с велосипедной передачей, его можно вкатывать даже по лестнице. Когда ей делается скучно, она стучит палкой об пол и ей подают наверх бутерброды с паштетом из гусиной печенки.
Она утверждает, что в свое время у нее была такая тонкая талия, что даже Клер не влезла бы в ее корсет новобрачной. Из глаз ее катились голубые слезы. Опа непременно хотела нас поцеловать, и пожилой господин тоже. Мама обычно против этого возражает: на губе у него какая-то болячка, как знать, не рак ли это.
Они сказали нам, что очень любили Клер. Называли ее «ваша бедненькая сестричка». Они высказали предположение, что мы, должно быть, очень несчастны. Особенно мама. Пожилой господин похлопал маму по плечу и, повернувшись к папе, намекнул ему, что существует все-таки нечто еще худшее, чем потерять свое дитя: потерять мужа. Старая дама запротестовала, она сказала:
– О нет, что ты, Фернан.
Отец Алена прижал рукой дужку очков, чтобы лучше разглядеть свою супругу. Среди наступившего молчания мы услышали птиц, они пели гораздо громче обычного. Мама потянулась к папе, чтобы взять его под руку. И Клер прошла между ними. Папа шагал с таким видом, будто все происходившее было ненастоящим, в глазах у него стояли слезы. Мать Алена вытянула шею в мамину сторону и выдохнула:
– К счастью, у вас, Вероника, осталось еще четверо.
– Умоляю вас, – устало проговорила мама.
Если волосы у Клер темно-рыжие, а полные губы уже не открывают верхний ряд зубов, то это потому, что я смотрю на нее.
Завтрак вовсе не был вкусным, как пообещала мама: лапша, все та же лапша, которую нам дают в сентябре, когда мы возвращаемся под дождем, распространяя вокруг запах промокших учебников. Мама заставила Оливье и Шарля выкупаться и облачиться в пижамы. Прямо среди дня, ну и ну. Завтракали мы за не покрытым скатертью столом, это тоже было впервые.
Прижавшись лбом к столу, я изображала лошадь, которую вот-вот сразит револьверный выстрел; Валери проговорила:
– Ох! Да перестань ты строить из себя неизвестно что.
И внезапно она начала рыдать. Казалось, звуки вырывались у нее прямо из живота. Мама посмотрела на нас. Ей, верно, хотелось нас любить, но никто сейчас не осмелился бы приставать к пей, да, впрочем, вряд ли она даже слышала хныканье Валери. И папа тоже о нас забыл, он жевал сухое печенье, макая его в апельсиновый джем, как в дни, когда у него бывало несварение желудка. Обычно в таких случаях мама ему говорила:
– Ну вот, ты начинаешь уже копировать своего бедного отца.
Дедушка всем нам предпочитал Клер. Он всегда брал ее с собой, когда ездил лечиться в Шательгийон, и она играла там в рулетку в казино, и он подарил ей изумрудные серьги бабушки номер один. Он говорил Клер:
Пока тебе нет восемнадцати, можешь садиться ко мне на колени.
И даже когда ей исполнилось восемнадцать, он продолжал говорить «пока тебе нет восемнадцати». Дедушке не дарована была радость испытать эту боль, он уже умер. Я помню все очень хорошо, потому что это был день моего рождения и я не получила подарка. Дедушка лежал, вернее, полусидел в постели и дышал при помощи свистящей резиновой груши. Мама отослала нас с Анриеттой в Булонский лес, а когда мы вернулись, он уже был мертв. Словом, так нам сказали, и тетя Ребекка увезла нас за город, и мы каждый день ели жареную картошку, пока по приехала мама и не заставила всех нас, Оливье, Шарля и меня, выпить по ложке касторки. Опа поставила в уборной два ночных горшка, а я восседала «на троне», как выражается Анриетта, и мы втроем все утро развлекались, стараясь произвести как можно больше шума, ну, в общем, состязались, кто лучше всех сумеет подражать дедушке. Мы с Оливье придумали, как называть дедушку, чтобы никто не догадался: Помпон И – когда-то у нас жил кот с таким именем, у которого, как и у дедушки, тоже вечно были колики.
А потом по большой красной лестнице, где окна доходили до самого потолка, вереницей потянулись люди. Облаченные в черное, они по очереди звонили у двери, и шепот их траурных голосов отдавался эхом, точно в пустом доме.
После завтрака мама заболела. Она соорудила себе нечто вроде саркофага, улеглась на большую папину кровать, возвела глаза к потолку. Когда папа касался рукой ее ног, она, вздрогнув, вскрикивала:
– Что случилось?
Люди интересовались маминым недугом, хотели ее видеть, застывали на миг на пороге спальни, прислонившись к дверному косяку, глядели на нее, качая головой, и удалялись, поскрипывая туфлями. Они шли и скрипели вдоль всего коридора, бросая вокруг себя настороженные взгляды, словно дорога была полна ловушек. Нормальным голосом они начинали говорить только в папином кабинете.
Я усаживалась напротив, по-моему торжественно серьезная, и ожидала их вопросов. Желая хоть чем-то быть полезной, бабушка Картэ заперла Оливье и Шарля в столовой. Опа вязала, раскачиваясь, волосы ее из-за шафрановых занавесей розовато пенились. Под столом Оливье с Шарлем изображали грузовик, но совсем тихонько, словно у него было всего две скорости. Не знаю, чего мы ждали. Все равно чего, может, напева дудочки в тростинке. Горя мы уже не испытывали, но наши жесты, наши слова сковывала какая-то осторожность, предписывавшая нам молчание, тайну.
Мадам Эмбер пли мадам Сарт – а за их спиной стояли мужья и незамужние дочки – из деликатности еле нажимали на звонок. Я бежала в переднюю, чтобы первой оказаться у двери, потом медленно открывала ее и смотрела им прямо в глаза. Дамы говорили:
– Бедная девочка…
Но я отступала, прежде чем они успевали коснуться моей щеки или подбородка. Я вела их в папин кабинет, даме предлагала расположиться в плюшевом, пропахшем пылью кресле, все прочие тоже рассаживались, сложив на коленях руки, на хлипких стульях стиля ампир, на которых можно сидеть только очень прямо. Сама я садилась под портретами-близнецами маршала Петэна и генерала де Голля; мое платье в зеленую и розовую полоску казалось чересчур ярким, а торчавшие из-под него ноги – чересчур голыми. Я все еще никак не могла взять в толк, что на нас обрушилось страшное несчастье и люди являлись к нам выразить свое сочувствие, надеясь, что и мы ответим им тем же, когда настанет их черед страдать.
Говорят, кожа у прокаженных утрачивает чувствительность и они не замечают ожога, даже не догадываются о нем, пока не увидят собственными глазами – только тогда они и узнают, что обгорели.
Боюсь, что я тоже прокаженная: я никогда не страдаю. Меня это порой даже беспокоит, и я царапаю бритвой ляжки. Гляжу на длинные красные полосы, скрытые юбкой, и немного горжусь. Однажды мама заметила мои царапины, когда я с размаху села на стул. Она с каким-то волнением поцеловала меня, и я слышала, как она рассказывала бабушке, что я умерщвляю плоть. Я никак не могу попять, что уж такого серьезного в смерти Клер. Ее нет с нами, но ведь это часто случалось.
Являвшиеся к нам с визитом люди не скрывали своего разочарования оттого, что их встречала только я, а не какой-нибудь более взрослый представитель нашего осиротевшего семейства. Тем не менее я вызывала у них известный интерес, потому что они меня совсем не знали: все эти годы я жила в пансионе. Я выглядела недостаточно печальной, они смотрели на меня с осуждением – на мои чересчур голые ноги, чересчур яркое платье, – может стоило меня пожурить. Им непременно хотелось видеть папу. Папа был занят с агентами похоронного бюро. А мама? Я вела их взглянуть на лежавшую маму. Они спрашивали меня:
– А где ваша бедняжка сестра?
Валери ездила по разным поручениям, связанным < похоронами. А раз так, они желали выслушать рассказ о том, как умерла Клер.
Мы помним все назубок. В воскресенье утром Клер отправилась к своим друзьям. К каким друзьям? Я не знаю друзей Клер. Известно, что она была одна, это подтвердили свидетели. Она ехала на велосипеде по дорожке, но дорожке, обсаженной кустами боярышника, отпустив руль. Когда Клер едет на велосипеде, она всегда отпускает руль. Опа сказала кому-то «здравствуй». И много-много раз сказала «прощай».








