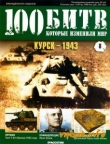Текст книги "Откровения немецкого истребителя танков. Танковый стрелок"
Автор книги: Клаус Штикельмайер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Клаус Штикельмайер
Откровения немецкого истребителя танков
Танковый стрелок
Глава 1
Вывезен в Германию
Тысячи раз, когда меня спрашивали: «Что заставило тебя вернутьсяв Германию?» – тысячи раз я отвечал: «Я не возвращался, я родился в Канаде, а в Германии никогда не был».
В марте 1939 года, за два месяца до четырнадцатого дня рождения, меня выдернули из публичной школы Саддеби на Фредерик-стрит в Китченере, штат Онтарио, и вместе с братом Оскаром, на полтора года младше меня, посадили на поезд до Нью-Йорка. Там мы впятером сели на скоростной лайнер «Европа», ходивший до германского Бремерхафена.
В Китченере, готовя себя и брата к дороге, все, о чем я мог позаботиться, – торопливо и тихо собрать наши канадские паспорта и бесплатные билеты. Этот морок прошел, оставив нас без объяснения, почему нужно было уезжать из Канады – или, собственно говоря, почему мы должны молчать о своем неминуемом исходе. Мне часто хотелось понять, почему почти 70 лет назад меня и Оскара тайком отправили в Германию.
Мой отец, теплотехник рубашечной фабрики Форсайта в Китченере, часто читал немецкие иллюстрированные журналы. Об этом я знал. Он, и это я тоже знал, заходил после работы в магазин фруктов и овощей «Коларко», рядом с ратушей, и, думаю, болтал с «синьором» Коларко об успехах стран Оси.
Да, мой отец имел прогерманские взгляды, но нужно смотреть дальше, чем прилавок зеленщика, чтобы объяснить, что заставило его и мать отправить нас с Оскаром в Германию.
Прибыв в Канаду с Украины в 1924 году, мои родители – смотрите соответствующие карты, чтобы найти тот район Украины, откуда они происходят, – почти год проработав на меннонитской ферме «Пенсильвания-датч» под Ватерлоо, штат Онтарио, переехали в район Портаж ля Прери штата Манитоба. Железная дорога «Канадиан пасифик» одалживала денег на проезд в Канаду многим иммигрантам-меннонитам, при условии, что они поселятся рядом с трассой дороги.
Я родился 25 мая 1925 года в секторе 1–13-9 муниципалитета Вестбурн и достаточно вырос, чтобы пойти в школу, когда родители уехали из Вестбурна и вернулись в Онтарио. В Манитобе они пытались возделывать 160 акров из большого куска плохой земли, который наши десять семейств купили, пока участок был под снегом. Каждый год практически на всем участке половодье не давало вовремя начать сев.
У всех меннонитов, над которыми висел долг «Канадиан пасифик», он считался платой за проезд и долгие годы, пока долг не был выплачен, был главной финансовой вехой.
Главной причиной такой нищеты была, конечно, Великая депрессия. Она лишила отца всякой надежды избавиться от долгов.
Мои родители никогда не были в Германии. Так же, как наши прадеды, прапрадеды и прапрапрадеды. Однако, поскольку их родным языком был немецкий, они сохранили с Германией тесные культурные и экономические связи. Германоговорящее население меннонитских колоний на Украине десятилетиями выписывало из Германии сельскохозяйственные машины, книги, а с начала 1900-х и автомобили. В одной из следующих историй, «Советские танки, попавшие в засаду у озера Лессен в Восточной Пруссии», я подробно рассказываю о традиционных связях моих предков с Германией.
Пока мы не переехали в Китченер в 1937 году, мы жили в Ватерлоо, дом 132 по южной Кинг-стрит. Каждый субботний вечер кружок меннонитов, включающий моих отца и мать, собирался в доме 132. Это была кучка полиглотов, говорящих на верхненемецком, нижненемецком, русском, украинском и немного на английском. Верхненемецкий – официальный язык Германии, Австрии и Швейцарии. Нижненемецкий, или «Пляттдойч» – от немецкого «плятт» «равнина», – народный язык, на котором говорят в равнинной Северной Германии.
Каждое письмо от родни или друзей со старой родины, которое доходило до этого кружка в те трудные времена, было аккуратно написано на верхненемецком, какой бы неказистой ни была бумага, – и так же выглядело письмо, написанное в ответ.
По утрам в субботу Объединенная меннонитская церковь В-К, или Ватерлоо-Китченер, на Джордж-стрит в Ватерлоо, вела в церковном подвале занятия школы немецкого языка. Признаться, в первые месяцы жизни в Германии мне очень пригодился тот довольно примитивный немецкий, выученный в В-К. Однако оказалось, что тот оторванный от жизни язык единственного учебника, подкрепленного единственным учителем, чопорной леди из порядочной семьи русских меннонитов, не научил меня спрашивать на чистом немецком языке, где находится ближайший туалет.
В 1985 году, через 50 лет после того, как я последний раз пришел на урок немецкого в В-К, родственники бывшего школьного смотрителя подарили мне учебник, которым я по крайней мере единожды пользовался на давным-давно прошедшем субботнем уроке. Он, можно сказать, был моим, потому что на нем, на третьей странице обложки, мальчишеским почерком было написано мое полное имя и наш адрес.
Этот старый учебник, сам по себе, – хороший показатель отношения русских меннонитов к немецкому языку. Его полный титул – «Deutsche Lesebuch fur Volksschulen in Russland» (учебник немецкого языка для начальных школ в России). Изданный в 1919 году Готлибом Саабом в Пришибе, городке, с северо-востока примыкающем к Молочной, одной из старейших меннонитских колоний на Украине, он годами использовался в В-К вместе с десятком таких же, а попал в Канаду, скорее всего, в начале 20-х – с людьми, которым был дорог немецкий.
В моей скромной библиотеке стоит, по соседству с тем учебником, и книга под названием «Стихи Николауса Ленау». У нее тисненые корешок и обложка, издана она в 1877 году в Штутгарте. Надпись на форзаце гласит: «Получено в подарок от отца на центральном вокзале Вильгельмсхафена перед тем, как я уехал в Канаду». Эта книга – из той горы книг, что мой отец забрал с Украины в Канаду, а из Канады – в Германию, – показывает его любовь к литературе. Уверен, что он ценил ее больше, чем все другие.
Николас Ленау – псевдоним Нимбша Эдлера фон Штрехленау (1802–1850). Житель Венгрии, Ленау черпал вдохновение в том, что было вне Германии. Неудивительно, что отец проявлял к его книге такую симпатию.
Всю свою взрослую жизнь отец писал множество стихов и прозы, все под псевдонимом Фриц Зенн. У меня есть книга из 311 страниц, изданная в Виннипеге уже после его смерти, в 1987 году, под названием «Фриц Зенн: избранные стихи и проза». Многое из написанного показывает огромную ностальгию по возлюбленному меннонитскому мирку, оставленному на Украине.
Мама часто говорила, что будучи одиноким молодым человеком на Украине, наш отец много времени проводил над книгами. Он был, подчеркивала она, младшим ребенком из девяти в богатой семье, и от него не ждали тяжелого труда. Это и оставило ему много времени на занятия литературой.
Возможно, усилило прогерманские настроения отца то, что с 1917 года он состоял в меннонитской организации самообороны, полувоенной кавалерии, которая должна была защищать зажиточные меннонитские колонии на Украине от печально известных бандитов Махно. Эту оборонную организацию недолго обучали немецкие офицеры и унтеры. Многие пацифистски настроенные меннониты осуждали своих братьев, воевавших с анархистами.
В начале 1939 года отец стал задумываться об эмиграции из Канады в Германию, в основном под влиянием Конфедерации немцев за границей, пропагандистской организации, поддерживаемой Третьим рейхом и действовавшей в союзе со многими общественными объединениями немцев в Северной Америке.
В те дни крупнейший немецкий клуб в Китченере, Конкордия-клаб, располагался над одним из двух кинотеатров – «Капитол» и «Лирик» – на Кинг-Вест-стрит. Субботним вечером родители, оба правоверные меннониты, троих мальчиков, которые вместе с нами отплыли в Германию, выводили всех или почти всех своих десятерых детей на танцпол в «Конкордии».
Хотя мои родители не были завсегдатаями клуба, летом 1938 года семья была на ежегодном пикнике на испятнанном коровьими лепешками Кауфман-флэтс, вверх от Китченера по течению Гранд-Ривер. На пикнике отец был счастлив заработать пару долларов мытьем пивных стаканов за барной стойкой в палатке, где гости пили пиво. Может быть, иногда ему доставалась и дополнительная награда в виде стакана с пивом, протянутого в жаркой духоте одним из потных барменов.
Может быть, из Германии Конфедерация помогла с деньгами на поезд и пароход. В ответ вербовщики явно надеялись на проявления членами нашей семьи безграничной любви к Третьему рейху.
Думаю, что Фриц Зенн, или, если хотите, Герхард Йохан Штикельмайер, не мыслил себя канадским фермером или заводским рабочим. Германия манила его – так что, в качестве первого шага своего нераскрытого плана переправить всю семью в эту Землю обетованную, он отправил туда своего первого и второго сына, пусть и в самое неуместное время. Мама просто смирилась. Мы с Оскаром выехали из Китченера в Нью-Йорк 20 марта 1939 года и 22 марта отправились в путь через океан.
В любом случае мы, пятеро изгнанников, на борту «Европы» обнаружили в одном из салонов высокий, в наш рост, шкаф темно-красного полированного дерева, набитый пластинками. Весь рейс каждый день мы заставляли эту штуку играть часами без остановки. Подчеркну удовольствие, полученное от пластинок, потому что всего через неделю после отплытия из Нью-Йорка, в Бремерхафене, мир повернулся к нам совсем безрадостной стороной.
Рекламный листок, который я сохранил на память об этом рейсе, гласит, что «Европа» отплыла из Нью-Йорка 22 марта 1939 года, 27 марта миновала волнолом французского порта Шербур, покрыв расстояние в 3128 морских миль за 4 дня 22 часа и 6 минут. Чтобы добраться из Шербура до Бремерхафена, «Европа» прошла еще 535 морских миль, что продлило наш путь на два дня, – неделя на весь рейс.
Здесь я лучше прерву свой рассказ и вставлю в него две газетные статьи, а также выдержки еще из двух. Четыре статьи из «Китченер Дэйли Рекорд», изданные между 16 и 24 марта 1939 года, сохранились в архиве газеты на микрофильмах. Три из них находятся в приложении А.
Микрофильм довольно стар; как бы то ни было, копии, сделанные с него от моего имени Герхардом и Кати Фризен, отражают беспокойство деятельностью нацистов в Канаде в то время, когда мы с Оскаром покидали страну. Обратите внимание, что «Китченер Дэйли Рекорд» напечатала наши имена в пятницу, 24 марта, когда «Европа» уплыла из Нью-Йорка.
Евреи бойкотируют товары из Китченера-Ватерлоо: акция считается ответом на активность наци во всем районе.
Никто сегодня не вспоминал генерального прокурора Конанта и его расследование сообщений о деятельности нацистов в Двух городах и вокруг, а обе полиции – городская и полиция провинции – отказались комментировать объявление.
Но хотя нет никаких признаков того, что полиция проверяет наши сообщения, кое-что все же удалось узнать. Обнаружилось, что с четырьмя детьми семейства Эсау, отправленными в Германию, поехали и Бруно и Оскар Штикельмайеры, дом 821 по восточной Кинг-стрит.
ПОЛИЦИЯ МОЛЧИТ
Предположения, что местный бизнес может пострадать от дурной славы, которая ляжет на местную общину, оправдались, когда «Рекорд» получила сведения о том, что, по крайней мере, один местный производитель бойкотируется евреями Торонто. Последние заявили, что не намерены покупать ничего, сделанного у нас в округе.
«Ничего не могу сказать для прессы», – заявил газете сержант В.К. Оливер из полиции провинции. Он отказался подтвердить или опровергнуть сообщение, что полиция может начать в пригороде проверку на предмет деятельности наци. Инспектор Джордан, руководящий местной полицией, выехал из города, и с ним невозможно связаться.
Глава 2
Чужая земля Дойчланд
После того как мы сошли на берег в Бремерхафене, нас повезли в Хоенкирхен, старую деревню в 20 километрах к северо-востоку от Вильгельмсхафена, портового города на берегу Северного моря. В районное крестьянское объединение входило полдюжины крестьян с большими значками НСДАП напоказ, которые сидели в конце длинного стола в зале деревенского магистрата; на другом конце стола мы, мальчишки, ждали своей участи. Кто кому достался, я так и не понял. С тем же успехом крестьяне могли выбирать нас, бросая кости.
То, что я знаю – что я попал к Герхарду Ибену с хутора Карлсек, что километрах в четырех на северо-запад от Хоенкирхена, с хутора было видно дамбу на берегу Северного моря. Сурового вида хозяйка, которую с самого начала интересовало, насколько плох мой немецкий, попросила меня прочитать название местной еженедельной газеты. Поскольку литеры J и F в готическом шрифте очень похожи, я прочитал вместо «Йеферше Вохенблатт» «Феферше…». Над этим заржало все семейство. Там были две дочери Ибенов, обе ходили в среднюю школу в Йефере, районном центре в 16 километрах на северо-запад от Вильгельмсхафена.
Через пару дней после прибытия в Карлсек мне дали большую метлу из пиассавы и сказали содрать толстый слой мха, сплошь покрывавший стену одного из кирпичных домов. Пока я воевал со мхом, подъехали зеваки на телеге. Носатый возница сказал своей такой же носатой жене: «Dat is Gerd sien Amerikaner» («Это Гердов американец»). В дополнение к тому, что меня считали едва ли не вещью, это говорило о том, что ни о какой Канаде местные не слышали.
Каждый, кто приходил к Ибенам посмотреть на «американера», должен был согласиться с заявлением хозяина, что Германия спасла юнца германского рода от дегенеративной жизни в Америке. Что я мог на это сказать? Разве мои родители не отправили меня в Дойчланд?
Рядом с Йефером стоял Упйефер, где располагался военный аэродром, которым до сих пор пользуется бундесвер, наследник Вермахта. В 1939 году самолеты из Упйефера иногда летали на низкой высоте над селениями вроде Карлсека, каждый раз чуть не распугивая деревенщину по глубоким канавам с водой.
Однажды, когда за столом болтали о том, что две воздушные машины с Упйефера распугали полстада, я заметил, что в Канаде мы, мальчишки, сделали модель самолета из бальсы, с мотором из двух резиновых лент на каждый винт. «Невозможно!» – выпалили Ибены и кто там еще был. Я должен, орали они, говорить правду и не болтать о самолетах в «Америке», говорить нужно о самолетах в Упйефере – настоящих живых германских самолетах. По каждому поводу Дойчланд, Дойчланд превыше всего – вот что царило в головах невежественных, позорных ублюдков, из которых состоял Карлсек!
Неполных полгода спустя я уже занимался не только очисткой кирпичных стен от тугого толстого мха. Во время жатвы 1939 года я, например, таскал мешки с тяжелым зерном от молотилки вверх по приставной лестнице – шаткой приставной лестнице – в амбар, которым служил чердак жилого дома.
Я был у них молодым батраком, лишенным части прав. Старший работник, достаточно неплохой парень Герд Брандт, записался в пехоту, только чтобы вырваться из Карлсека.
Моя комната была в том месте, что называлось задней кухней, маленьком закутке в верхнем конце длинного хлева. Я говорю «верхнем конце», потому что хлев стоял на чуть заметном склоне, для частичного стока нечистот по канавам, идущим сразу за стойлами со скотиной, в сторону нижнего конца.
На серой дощатой двери моего неудобного жилища на четырех кнопках висел черно-белый журнальный портрет Адольфа, с росписью под изображением, состоящей из короткого Adolf и наклонного размашистого Hitler.
Воду для умывания – по крайней мере, в теплое время года – я носил в ведре из похожей на крепостной ров канавы с лягушками, окружавшей хутор почти со всех сторон.
Дом, милый дом!
Каждую неделю – я был иностранцем, живущим в пограничной зоне, – мне нужно было ходить в полицейский участок в Хоенкирхене, отмечаться и идти обратно на ферму. Если мне везло, я мог встретить одного-двух канадцев – в участке или около. Им тоже надо было отмечаться лично.
По возвращении на ферму в Карлсеке меня неизбежно расспрашивали о том, что я видел по дороге. Как растет овес такого-то и такого-то и сколько голов скота пасется в округе?
Я знал, что отдал за все это своих приятелей, оставшихся в Канаде. Отдал летнее катание на роликовых коньках. Отдал Альберт-стрит-хилл в Китченере, где мы катались с горы на лыжах и санках, где наверху стояли синагога и водонапорная башня, а внизу восточного склона – «Рампелз Буш». Я отдал так много.
Я отдал, резко и сразу, все свое детство.
Ничего себе! За несколько недель до начала Второй мировой войны мои родители и все остальные дети – трое, все родились в Канаде – приехали в Германию. В Вильгельмсхафен, если быть точным.
Жилье, отведенное им, располагалось на первом этаже жилого дома времен Первой мировой, без лифта, на Казерненштрассе, короткой улице, с одной стороны которой была Рунштрассе и огромные казармы Кригсмарине, и высокая стена базы подводных лодок из кирпича с колючей проволокой наверху – с другой. С полдюжины домов на север от Казерненштрассе нависали над мостом Кайзера Вильгельма, называемого также «К-В Брюке», что напоминало о канадском «К-В» – Китченер-Ватерлоо. Этот старый разводной мост еще действует и сегодня, соединяя город с коммерческим пляжем, где находится, например, морской аквариум.
Общие туалеты – не ванные, которых не было, – располагались в доме на лестничной клетке, между этажами. И это еще не все. Рядом с каждой дверью туалета находился платный газовый счетчик каждой квартиры. Нужно было постоянно подкармливать счетчик монетами, иначе он без предупреждения отключал газ.
На дальнем конце Казерненштрассе стоял небольшой бакалейный магазин, которым управляла старая дева Эмми Зайлер. Эмма решила угостить новую семью и продала маме немного рокфора. Не зная, что рокфор должен содержать прожилки плесени, отец решил, что сыр отравлен. Он воскликнул: «Die meint wohl, wir essen im Dunkeln!» («Она думает, что мы едим в темноте!») Их стол в Канаде, а до этого на Украине, вряд ли включал деликатесы, популярные в Западной Европе. Нам, включая и родителей, приходилось учиться каждый день.
НСДАП (Nazionalsocialistische Deutsche Arbeitspartei, или просто «наци») вскоре предоставила отцу место его первой работы в Германии, электротехническую фирму Юлиуса Хармса, мастера-электрика и человека с большими политическими связями, чья жена Аманда, как я потом узнал, в молодости была девушкой из коктейль-холла. Фирма Юлиуса находилась на Марктштрассе, в самом центре Вильгельмсхафена.
Новый работник в империи Хармса был назначен заведовать складом. Большие и малые мотки электропровода самых разных марок, неисчислимое множество защелок, лестниц различной длины, специального инструмента – всем этим богатством и ведал мой отец.
Когда Хозяин – так мы часто называли его в Канаде – навестил меня в Карлсеке, у него отвалилась челюсть. Он быстро сел на поезд до Вильгельмсхафена и пришел на прием к городскому политическому боссу, крейсляйтеру (районному политическому руководителю) Майеру, чтобы вызволить меня от Ибенов. Майер, который, кажется, не был чужд некоторой гуманности, обещал помочь в воссоединении двух мальчиков с семьей в Вильгельмсхафене. Оскар работал на ферме в Каролинензиле, дальше по берегу Северного моря, на восток от Хоенкирхена.
В жестко организованной НСДАП каждый крейсляйтер, подчиненный своему гауляйтеру (политическому руководителю провинции), руководит следующими классами нижестоящих: ортсгруппенляйтерами (политический руководитель городского или сельского района), целленляйтерами (политический руководитель части городского района или графства) и блокляйтерами (квартальный политический смотритель).
В большом городе вроде Вильгельмсхафена блокляйтеры просто кишели.
Даже крейсляйтер Майер не мог забрать меня из Карлсека, не приведя весомую причину моего перевода из деревни в город. Решение пришло просто – старое доброе ученичество. Однако прошло полгода, прежде чем Юлиус Хармс стал моим мастером, а я стал одним из трех его учеников, которых он учил ремеслу электрика. Снова в моей судьбе от меня ничто не зависело.
Неожиданно у меня оказался договор, связавший меня на три года – с 26 апреля 1940 года до 25 апреля 1943-го, – три года хорошего поведения, тяжелого труда, регулярного посещения ремесленной школы – и почти никакого заработка. За первый год – 3 рейхсмарки в неделю, за второй – 4 рейхсмарки в неделю, и за третий год – 5 рейхсмарок в неделю. В то время одна рейхсмарка стоила один доллар. Днем получки была суббота – после того как я к полудню выметал подъездную дорожку, двор и склад на Марктштрассе, 39.
То, что в качестве части своего ученичества я должен посещать занятия «Гитлеровской молодежи», появилось на последнем из четырех листов моего договора, в разделе Besonders Bestimmunget («особые условия»): «Ученик должен регулярно посещать занятия «Гитлерюгенда».
В полном противоречии с моими ожиданиями, единственный человек в компании, который имел максимум власти, чтобы давить на нас, учеников, по политической линии, так этого и не делал, да и все остальные тоже.
Нашего спасителя звали Карл Пот. Мастер-электрик и правая рука Хармса, в Первую мировую войну он служил старшиной на кайзеровском флоте – за четверть века до нашего знакомства.
Карл верил своим работникам, а они верили ему.
Однажды он сказал мне, что «Гитлерюгенд», в общем, занимается показухой. Такие разговоры могли довести его до концлагеря. Трудно было поверить, что его сын работает в городской штаб-квартире «Гитлерюгенда».
На работе ученик часто рвал одежду. Быстрый ремонт состоял в том, что порванное место сшивали тонким медным проводом. К концу недели вид был слегка оборванный, как у меня, когда я однажды встретил Аманду недалеко от Марктштрассе.
Вскоре после этого Карл, оценивающе поглядев на меня, сказал: «Ты выглядишь как оборванец» – и был прав. Однако он на этом не остановился. Несколькими днями позже он выдал мне карточку на новые рабочие штаны и куртку. Он понимал подчиненных, особенно учеников.
Старый Карл, маленький человек с серьезным видом, любил курить сигару, по крайней мере иногда, пока обходил места работ.
Отец недолго работал на Юлиуса, крейсляйтер Майер нашел ему место счетовода в городской налоговой службе. Чтобы научиться всем фискальным делам, ему пришлось пройти обширное обучение в финансовой школе во Фленсбурге, городке у германо-датской границы.
К этому времени родители поняли, что такое жизнь в перенаселенной стране в военное время. Отец, наверное, однажды высказал свое разочарование вслух, потому что крейсляйтер Майер отчитал его: «Избавляйся от своих канадских взглядов!»
У фирмы Юлиуса было много государственных контрактов в военных доках Вильгельмсхафена. Я неделями не выходил оттуда, учась у рабочих и даже молодых мастеров, как тянуть провод милями – километрами, на самом деле – в огромных зданиях вроде машиностроительного корпуса номер три, двигаясь по лесам, стоящим высоко, на уровне корабельных снастей. В одном немецком морском романе есть совет старого моряка молодому матросу парусного корабля: «Одна рука кораблю, другая себе». Это годилось и для того, кто, как мы, занимался электротехническими работами на опасной высоте.
Работая в доках, я набрел на несколько слабых мест в режиме безопасности.
Например, однажды в 1940 году один дружелюбно настроенный молодой докер предложил мне прогуляться по крупнейшему немецкому линкору «Тирпиц», стоящему у достроечного пирса. Судно, к которому относятся последующие даты, быстро строилось на глазах гордых докеров – заложено 20 октября 1936 года, спущено 1 апреля 1939 года и закончено 25 февраля 1941 года.
У берегового конца длинных сходен, ведущих к открытой части шлюпочной палубы, стоял часовой-матрос. Работники доков, у многих ящики с инструментом, шли потоком мимо него, направляясь внутрь гиганта.
Чтобы попасть на судно, я просто смешался с рабочими, у которых не было ни именных бирок, ни пропусков. Одежда на них была та же, что и на мне, – синие штаны и куртки.
Под палубой, куда бы ни шли я и мой проводник, – а это было всего несколько сот метров, – опасность быть замеченными и арестованными возрастала десятикратно. Мы нигде не задерживались, потому что, например, каждый рабочий и его помощники могли легко понять, что два юнца с непокрытой головой никак не похожи на профессиональных работников. Кроме того, рабочие обычно быстро знакомились с рабочими других профессий, работающими рядом, как мы познакомились на работе с моим напарником. В результате, как пара молодых бродяг в незнакомом городе, плутающих по незнакомым аллеям, мы с ним устало двигались по стальным коридорам внутри «Тирпица», пока не вышли обратно к человеческому потоку на сходнях.
Будь я арестован на «Тирпице» или рядом, со мной бы, к счастью, обошлись довольно снисходительно, как с 15-летним правонарушителем.
Да, я нанес «Тирпицу» краткий визит за 4 года и три месяца до того, как 12 ноября 1944 года несколько британских бомб «толбой» заставили его перевернуться, унеся примерно 1200 жизней, в гавани Тромсе, у северной оконечности длинного атлантического побережья Норвегии.
За мостом Кайзера Вильгельма и направо, у основания берегового вала между идущей по берегу дорогой и прибрежной зоной, Кригсмарине построил новое здание картографической службы. Внутри здание еще не было закончено; там требовалось хорошее электрическое освещение, и вот тут появляемся мы, парни из электротехнической фирмы Хармса.
Здание картографов содержало тысячи морских карт, порученных заботам команды картографов, каждый из которых был освобожден от военной службы из-за преклонного возраста. Один особенно разговорчивый картограф, живший в Англии, любил, когда коллеги называли его Хьюи.
Хранившиеся в здании гидрографические карты, местные и иностранные, все считались секретными, но мы, парни Хармса, десятками листали их во время отдыха – еще одно слабое место в безопасности Германии.
Ремесленная школа занимала полдня в неделю, свободных от работы. Протокол НСДАП требовал, чтобы в начале каждой смены в классе один из учеников маршировал к доске, поворачивался и кричал, выставив правую руку вперед, так что правая ладонь была напротив правого глаза: «Мы начинаем занятие с троекратного приветствия нашему фюреру! Зиг хайль («Да здравствует победа»)! Зиг хайль! Зиг хайль!» Затем предводитель, стараясь как мог, выкрикивал несколько лозунгов НСДАП. «Труд облагораживает!» – был в числе любимых учениками, за краткость. Другое приемлемое высказывание, также легко запоминаемое, гласило: «Лучше будь молотом, чем наковальней!»
Пока не подошла моя очередь кричать лозунги, я прислушивался к другим и взял от молодого парня из «угольной корзины» (богатой углем части Рурской долины) неполитическую мудрость: «Кто добыл капусту летом, тот заквасил ее на зиму». Этим я и отделался. Наверное, преподаватель и остальные ученики решили, что я недостаточно долго прожил в Германии, чтобы выступить с чем-то более подобающим.
К 1941 году наша семья жила в Феддервардергродене, западном пригороде Вильгельмсхафена. Это место в народе называли «кроличьи дома», потому что дома строчной застройки выглядели как садки для домашних кроликов.
В Феддервардергродене, как и в городе, печати в карточках на скудный паек напоминали о днях почти без хлеба, а светящиеся значки – о сумрачных ночах.
Почти каждый день, и уж точно почти каждую ночь, жалкие условия жизни в Вильгельмсхафене и вокруг ухудшали налеты авиации союзников, на целые часы разгонявших молодых и старых в разного рода бомбоубежища.
В отличие от центра крупных городов типа Вильгельмсхафена, в пригородах не было 30-метровых цилиндрических башен-убежищ с метровыми бетонными стенами и слегка заостренными толстыми бетонными верхушками. Внутри каждого такого убежища была рампа, по спирали идущая вверх, вокруг центрального бетонного столба. Отстоя на несколько метров от столба, вверх шли ряды деревянных скамеек, прикрепленных прямо к рампе.
Убежища в подвалах домов в новых пригородах, таких, как Федцервардергроден, построенных перед Второй мировой войной, были сделаны, я бы сказал, в ожидании войны и налетов. Очень толстые фанерные двери и ставни, а также рамы и мощная фурнитура входили в конструкцию здания с самого начала. Никакой самодеятельности.
В то время как центр Вильгельмсхафена, включая верфи, притягивал множество фугасных и зажигательных бомб, Феддервардергродену доставались лишь маленькие шестигранные зажигательные бомбочки длиной 45 сантиметров. Часто они сыпались вниз связками по семь-шесть бомб вокруг седьмой в центре.
В середине 1941 года отца, которому тогда было 47 лет, неожиданно призвали на службу в армию офицером для особых поручений в чине ефрейтора. Обычно такой офицер исполнял обязанности переводчика. Отец вырос на Украине. Он жил там с рождения в 1894 году до 1924 года – то есть 30 лет. И, конечно, мог говорить по-украински и по-русски. Через 18 лет после своей эмиграции с Украины он пережил один из самых важных моментов своей жизни. Будучи на Украине, он смог посетить свою родину, Хальбштадт, и другие места, которые он помнил с детства. Однако за это ему пришлось дорого заплатить.
В конце лета 1942 года, через 2,5 года после начала моего ученичества, мне пришлось явиться для регистрации в призывном пункте, включая физическое обследование и предварительную классификацию. Полсотни неодетых молодых людей болтались по пивной, дожидаясь своей очереди встать в круг, нарисованный белым мелом на деревянной дорожке для игры в кегли.
В пяти метрах от мелового круга трое военных, сидящих за длинным столом, решали, осмотрев очередного голого Адониса, в какую часть Вермахта он годен. Фактически их первой заботой было пополнение тех частей Вермахта, которые несли наибольшие потери. То есть в первую очередь пехоты.
Я слышал, что такие тройки, особенно в городах, брали механиков и электриков в танковые войска. Моя квалификация, какой бы низкой она ни была, пошла в зачет, и мне сказали, что мне светит батальон пополнения личного состава танковых войск.
Весь процесс регистрации имел привкус архаичности и излишней строгости, переходящей в комизм. Не считая прочих мелких унижений, таких, как приказ двигаться быстрее, каждый парень во время осмотра в меловом круге должен был по команде повернуться кругом, наклониться и показать военным свой анус, руками раздвинув ягодицы. Как говорили, на этой стадии «мустерунга» рекрутов проверяли на геморрой.
Не помню, как называлась по-немецки эта пивная в Вильгельмсхафене, но два и три четверти года спустя она была известна как «Старборд лайт» («правый отличительный огонь». – Прим. перев.) и обслуживала британцев из состава ККГ – контрольной комиссии по Германии.