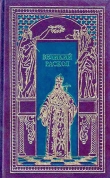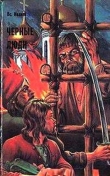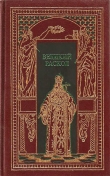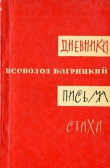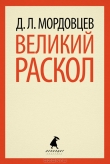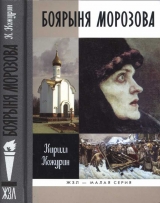
Текст книги "Боярыня Морозова"
Автор книги: Кирилл Кожурин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Всю свою душу вкладывала Феодосия Прокопьевна в дела благотворительности, являя собой образец подлинной христианской любви. Протопоп Аввакум, который станет впоследствии духовным отцом боярыни Морозовой, писал об этой любви в таких замечательных словах: «…Разумеете ли силу любви? Не сию, глаголю, любовь, еже любит рачитель блудный рачительницу или пьяница пьяницу; тако же любятся тати с татями и мытарь с мытарем: ядят и пьют и друг друга, восхитя чюжая, с любовию да пиют. Ни, ни! – се бо есть пагубная, бесовская любовь. Истинная же любовь о Господе Бозе и Спасе нашем, Исусе Христе; сия есть от трудов и пота лица своего. Алчна накорми; жадна напой; нага одежи; странна в дом свой введи; священство и иночество почитай, главу свою до земли им преклоняй; в темницу пришед, седящим упокоение сотвори; о вдовице и о сиром попекись; грешника на покаяние приведи; заповедь Божию творити научи; должнаго искупи; обидимаго заступи; мимоходящему путь укажи и проводи и поклонись. И о всех и за вся молитвы Богу приноси, о здравии и спасении всех православных христиан. Се бо есть сила любви. Аще время привлечет и пострадать брата ради, не оторцыся по Христову словеси» [144]144
Там же. С. 169–170.
[Закрыть].
Пьер Паскаль пишет: «Боярыня Морозова была истинной христианкой. Ничто – ни тщеславие окружающего ее светского общества, ни ее сестра, ни ее сын – не могло отвлечь ее от приготовления к смертному часу. В среде, стремившейся прежде всего следовать разным прихотям царя, она никогда не хотела покоряться новым обычаям: она всегда крестилась двумя перстами. Она проводила целые часы за молитвой…» [145]145
Паскаль П. Указ. соч. С. 386.
[Закрыть]
В доме боярыни Морозовой строго соблюдался церковный устав. День начинался и заканчивался молитвой. Вместе с хозяйкой молились и все домочадцы. Молитва эта всегда была глубокой и сердечной, так что часто можно было увидеть, как из глаз боярыни лились слезы – «яко бисерие драгое схождаху». Часто молилась она и по ночам, ведь известно, что молитва особенно благодатна в ту пору, когда, по словам святого Иоанна Златоуста, «никто не смущает, когда ум спокоен, когда великая тишина и нет никакого волнения в доме, потому что никто не препятствует нам заняться молитвою и не отвлекает от нее, когда возбужденная душа может обстоятельно высказать всё Врачу душ». Ночью боярыня сама вставала на молитву, не давая будить себя слугам, по совету отца духовного клала 300 поклонов да творила 700 молитв Исусовых…
Однако ни придворные обязанности, ни хозяйственная и благотворительная деятельность, ни даже воспитание любимого сына не могли удовлетворить такую незаурядную женщину, какою была Феодосия Морозова. Несмотря на свою близость к царскому двору, никоновских нововведений боярыня не приняла, продолжая придерживаться старой православной веры, хотя ей и приходилось порой «лицемериться».
Встреча с протопопом Аввакумом полностью изменила ее жизнь. В нем Морозова увидела живой пример мученичества за веру, того духовного подвига, к которому с юных лет страстно стремилась ее душа. Под влиянием его пламенных речей и длительных бесед с ним Феодосия Прокопьевна становится не просто горячей поклонницей, но и духовной дочерью огнепального протопопа. Вслед за ней духовной дочерью Аввакума стала и ее младшая сестра Евдокия, княгиня Урусова.
Глава четвертая
«Аще и умру, не предам благоверия»
Видев же [И су с] народы, милосердова о них, яко веху смятени и отвержени, яко овца не имущя пастыря. Тогда глагола учеником Своим: жатва убо многа, делателий же мало. Молитеся убо Господину жатве, яко да изведет делателя на жатву Свою.
Мф. 9, 36–38
Огнепальный протопоп
Протопоп Аввакум Петрович родился в селе Григорове Закудемского стана Нижегородского уезда в семье священника местной церкви Петра Кондратьева 25 ноября 1620 года. Основные деятели движения боголюбцев были земляками Аввакума: патриарх Никон, протопоп Иоанн Неронов, епископ Павел Коломенский, архиепископ Иларион Рязанский. Со всеми этими людьми в дальнейшем будет тесно связана его жизнь.
Воспитанием детей в семье занималась мать Мария (в иночестве Марфа) – большая постница и молитвенница, сумевшая передать своим детям горячую веру во Христа. Под ее влиянием у Аввакума с юных лет развивается стремление к аскетической жизни. Матери он обязан и своей любовью к чтению божественных книг.
Аввакум рос впечатлительным ребенком. Как-то раз, увидев у соседа умершую скотину, он был настолько сильно потрясен, что встал среди ночи перед образами и долго плакал, помышляя о своей душе и о предстоящей с неизбежностью смерти. С тех пор он привык к ночной молитве…
Пятнадцати лет Аввакум остался без отца, а в семнадцать, по настоянию матери, женился на скромной односельчанке – дочери кузнеца Анастасии Марковне, которая стала его верной помощницей и соратницей. На двадцать первом году он был рукоположен в диаконы, а в 1644 году поставлен в священники к церкви Рождества Христова в селе Лопатищи.
Став священником, Аввакум начал вести поистине подвижнический образ жизни. Вся его жизнь превратилась в почти непрерывное богослужение. Перед тем как служить Божественную литургию, он почти не спал, проводя время за чтением. Когда подходило время заутрени, сам шел благовестить в колокол, а когда на звонницу прибегал проснувшийся пономарь, передавал колокол ему и шел в церковь читать полунощницу. Продолжительная заутреня сменялась правилом ко Святому Причастию, которое Аввакум также вычитывал сам. На службе он учил прихожан стоять с благоговением и до самого отпуста не выходить из храма. После обедни читалось душеполезное поучение. Пообедав и отдохнув два часа, Аввакум снова брался за книгу. Затем служились вечерня и павечерница, а после ужина еще читались дополнительные каноны и молитвы. С наступлением ночи, уже в потемках, Аввакум клал земные поклоны: сам делал 300 поклонов, говорил 600 молитв Исусовых и 100 молитв Богородице; супруге же, которая была такой же строгой подвижницей с юных лет, делал снисхождение: «понеже робятка у нее пищат» – 200 поклонов и 400 молитв.
Столь добросовестное и ревностное исполнение своих священнических обязанностей и строгость нравственных требований к себе и к пастве, с одной стороны, привлекали к Аввакуму множество людей, желавших быть его духовными чадами, а с другой – нажили ему немало врагов, негодовавших на его суровые обличения. Аввакум смело обличал недостатки и нравственную распущенность прихожан, невзирая на их богатство и знатность. «Нищим подати не хощет, – говорил Аввакум про одного своего прихожанина, – а что подаст, ино смеху достойно, денежку и полденежку, или кусок корки сухие. А имеет тысящи серебра и злата, и на псах ожерелья шелковые».
Первый конфликт произошел уже в Лопатищах. Аввакум начал укорять местного начальника за неправду и был жестоко избит и волочен по земле прямо в священнических ризах. Другой начальник его также избил и даже пытался застрелить. Наконец в 1646 году у Аввакума отняли всё его имущество и выгнали из села…
* * *
Изгнанный Аввакум бежит в Москву. Здесь он находит покровительство у царского духовника Стефана Внифантьева и у протопопа Казанского собора Иоанна Неронова. Он был представлен самому царю Алексею Михайловичу и с царской грамотой возвратился в Лопатищи. Однако в начале 1652 года вновь был изгнан оттуда местными властями и вновь появляется в Москве.
Аввакум пробыл в столице до весны 1652 года. Он принимал самое активное участие в кружке ревнителей благочестия. 23 марта его назначили протопопом в Юрьевец-Повольский, куда он прибыл вдохновленный идеями ревнителей благочестия об исправлении церковных нравов. Однако не прошло и двух месяцев, как Аввакум своей обличительной проповедью, требовательностью к пастве и настойчивым проведением единогласного пения восстановил против себя юрьевецкое духовенство и народ. «Дьявол научил попов, и мужиков, и баб: пришли к патриархову приказу, где я духовныя дела делал, и вытаща меня ис приказу собранием, – человек с тысящу и с полторы их было, – среди улицы били батожьем и топтали. И бабы были с рычагами, грех ради моих убили замертва и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежал и, ухватя меня, на лошеди умчал в мое дворишко, и пушкарей около двора поставил. Людие же ко двору приступают, и по граду молва велика» [146]146
Житие протопопа Аввакума… С. 63–64.
[Закрыть]. Аввакуму снова пришлось спасаться в Москве.
Как раз к этому времени патриархом Московским и всея Руси становится Никон, активно взявшийся за проведение церковной реформы. Его новшества вызвали широкий протест, в ответ на который незамедлительно последовали репрессии. В августе 1653 года, когда на Кубенское озеро под строгий «начал» был отправлен выступивший против Никона Иоанн Неронов, Аввакум (заменивший его в должности настоятеля Казанского собора на Красной площади в Москве) и костромской протопоп Даниил подали челобитную царю, прося за сосланного протопопа. Так началась открытая борьба членов кружка ревнителей благочестия с новым патриархом.
Аввакум активно проповедует неприятие никоновских «новин»: «Ну-ка! Воспрянь и исповедуй Христа Сына Божия громко предо всеми! Полно таиться. А хотя и бить станут или жечь, ино и слава Господу Богу о сем. Не задумывайся! С радостью Христа ради постражди! Освятилась земля русская кровью мученическою. Я бы умер, да и паки умер по Христе Бозе нашем».
Его голос звучит властно, но понятно и проникает в сердца простых людей. Свою убежденность и образы он черпает из Священного Писания и из творений Святых Отцов. «Аз есмь ни ритор, ни философ… Простец человек и зело исполнен неведения… Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу. День той скончав и препитав домашних своих, на утро паки поволокся. Тако и аз… У богатова человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатова гостя, из полатей его хлеба крому выпрошу, у Златоуста, у торговова человека, кусок словес его получю; у Давыда царя и у Исаии пророков, у посадцких людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошел, да и вам даю, жителям в дому Бога моего» [147]147
Там же. С. 172.
[Закрыть].
Не подчинившись приказу Никона молиться по новым книгам, Аввакум вынужден оставить Казанский собор и продолжает служить по старому чину в сушиле (сарае) во дворе Иоанна Неронова. «Ибо в иную пору, – говорит он, – и конюшня лучше церкви бывает». За Аввакумом в сушило переходит и значительная часть его паствы.
12 августа 1653 года Аввакум, обличая нововведения, «чел поучение на паперти… лишние слова говорил, что и не подобает говорити», а в ночь с 13-го на 14-е, во время совершения всенощного бдения в сушиле, по доносу Иоанна Данилова, был взят под стражу Борисом Нелединским со стрельцами и доставлен на Патриарший двор, где посажен на цепь. Взятые вместе с ним 60 человек были посажены в тюрьму и «от церкви отлучены».
Наутро, в воскресенье 14 августа, Аввакума, закованного в цепи, отвезли в Андроньев Спасов монастырь на Яузе. Здесь его держали четыре недели в земляной тюрьме, жестоко избивали и морили голодом. «И тут на чепи кинули в темную палатку, ушла в землю, и сидел три дни, не ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно» [148]148
Там же. С. 66.
[Закрыть]. Но истязания не сломили железную волю протопопа.
15 сентября в Успенском соборе Кремля было назначено расстрижение Аввакума. Однако по личной просьбе царя Алексея Михайловича протопопу оставили его духовное звание, а сам он был сослан в Тобольск.
Через полтора года, когда до Москвы дошли вести о том, что Аввакум не прекратил своих обличений никоновских реформ и что его проповеди пользуются большим успехом среди местного населения, пришел указ об отправке опального протопопа еще далее – на Лену, в Якутский острог. Но перевод Аввакума туда не состоялся – в 1656 году его отправили в качестве полкового священника с экспедицией воеводы А. Ф. Пашкова в далекую Даурию…
Поход Пашкова был сопряжен со всевозможными лишениями и опасностями. Приходилось переносить и холод, и голод, подвергаться нападениям туземцев и диких зверей. «О, горе стало! Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову! В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы – перие красное, вороны черные, а галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие – многое множество птицы разные. На тех же горах гуляют звери многие дикие: козы, и олени, изубри, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие – во очию нашу, а взять нельзя! На те горы выбивал меня Пашков, со зверьми, и со змиями, и со птицами витать… Потом доехали до Иргеня озера: волок тут, – стали зимою волочитца… А дети маленьки были, едоков много, а работать некому: один бедной горемыка-протопоп нарту сделал и зиму всю волочился за волок. У людей и собаки в подпряшках, а у меня не было; одинова лишо двух сынов, – маленьки еще были, Иван и Прокопей, – тащили со мною, что кобельки, за волок нарту. Волок – верст со сто: насилу бедные и перебрели. А протопопица муку и младенца за плечами на себе тащила; а дочь Огрофена брела, брела, да на нарту и взвалилась, и братья ея со мною помаленьку тащили… Робята те изнемогут и на снег повалятся, а мать по кусочку пряничка им даст, и оне, съедши, опять лямку потянут… Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошедей не смеем, а за лошедьми идти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, – кольско горазд! На меня, бедная, пеняет, говоря: «долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя смерти!» Она же вздохня, отвещала: «добро, Петрович, ино еще побредем»» [149]149
Там же. С. 70–78.
[Закрыть].
Кроме всего прочего, отношения у Аввакума с Пашковым не сложились. Воевода был человек буйный по отношению к подчиненным, и это приводило к резким столкновениям. Не раз протопоп испытывал на себе гнев «озорника»-воеводы, который однажды избил его до потери сознания. Но настал конец и сибирским мучениям протопопа, чему способствовало удаление Никона с патриаршего престола. За время одиннадцатилетней сибирской ссылки Аввакуму с семьей пришлось вытерпеть немало мучений, пережить смерть двоих сыновей.
Но даже в столь нечеловеческих условиях благочестивый протопоп не оставлял молитвы и своего келейного правила. Аввакум обладал прекрасной памятью, помнил наизусть весь Псалтырь, многие церковные службы. В своих произведениях, написанных впоследствии в земляной яме за полярным кругом, где никакой библиотеки у него, естественно, не было и в помине, он приводит на память целые тексты из Маргарита, Палеи, Хронографа, Толковой Псалтыри. «Егда в Даурах был… идучи, или нарту волоку, или рыбу промышляю, или в лесе дрова секу, или ино что творю, а сам и правило в те поры говорю, вечерню и завтреню, или часы – што прилучится… А в санях едучи, в воскресныя дни на подворьях всю церковную службу пою, а в рядовыя дни, в санях едучи, пою; а бывало, и в воскресныя дни, едучи, пою… Якоже тело алчуще желает ясти и жаждуще желает пити, так и душа – брашна духовного желает» [150]150
Там же. С. 89–90.
[Закрыть].
В 1661 году по ходатайству московских друзей Аввакуму было дозволено возвратиться из сибирской ссылки. Обратный путь занял около трех лет! Воодушевленный надеждой на восстановление старой веры, Аввакум на всем протяжении своего пути выступал с горячей проповедью против никоновых «новин». В городах и селах, в церквах и на торжищах раздавалась его страстная речь, имевшая огромное влияние на народ. «Аввакум всегда и всем проповедовал о гибели православия на Руси вследствие церковной реформы Никона, о необходимости всем истинно верующим стать за родную святую старину, ни под каким видом не принимать никонианских новшеств, а во всем твердо и неуклонно держаться старого благочестия, если потребуется, то и пострадать за него, так как только оно одно может вести человека ко спасению, тогда как новое – никонианское – ведет к неминуемой вечной гибели, – писал Н. Ф. Каптерев. – Эта проповедь святого страдальца и мученика за правую веру и истинное благочестие везде имела успех, везде Аввакум находил себе многочисленных учеников и последователей, которые всюду разносили молву о великом страдальце и крепком поборнике истинного благочестия» [151]151
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 317.
[Закрыть].
В 1664 году он, наконец, добрался до столицы и был ласково («яко ангел») принят боярами – противниками Никона. Достаточно милостиво отнесся к нему и царь Алексей Михайлович. «Велел меня поставить на монастырском подворье в Кремли, и, в походы мимо двора моево ходя, кланялся часто со мною низенько-таки, а сам говорит: «благослови-де меня и помолися о мне!» И шапку в ыную пору, мурманку, снимаючи с головы, уронил, едучи верхом! А из кореты высунется, бывало, ко мне. Таже и все бояря после ево челом да челом: «протопоп, благослови и молися о нас!» Как-су мне царя тово и бояр тех не жалеть?» [152]152
Житие протопопа Аввакума… С. 88–89.
[Закрыть]
В Москве Аввакум посещал дома многих знатных людей, сочувствовавших старой вере. Бывал у князей Хованских – стольник Иван (младший сын боярина Ивана Никитича Хованского и племянник Петра Салтыкова) был его учеником; часто гостил у ревнительницы старой веры Анны Петровны Милославской, урожденной княжны Пожарской, родной внучки героя 1612 года князя Димитрия Михайловича Пожарского, вдове по первому мужу князя Афанасия Репнина, а затем – боярина Ивана Андреевича Милославского, приходившегося царице Марии Ильиничне троюродным дядей. Приверженцы старой веры были и в других родовитых семействах – Долгоруких, Хрущевых, Хилковых, Волконских. Однако пути Аввакума и его покровителей резко разошлись. Если московские бояре боролись лично против Никона, то Аввакум шел против никонианства: против церковных новшеств, подлинным автором которых был сам царь вместе со своим ближайшим окружением. Бояре убеждали опального протопопа примириться с новой верой – хотя бы внешне, хотя бы на время, обещая высокое общественное положение и какое угодно место, вплоть до места царского духовника. Но компромисс в делах веры был для Аввакума невозможен.
В столь тяжелую минуту Аввакум находил поддержку в своей жене, Анастасии Марковне, мужественно разделявшей с ним все его лишения. «Жена, что сотворю? – в сомнении спрашивал он. – Зима еретическая на дворе: говорить мне или молчать? Связали вы меня». На это его верная спутница отвечала: «Что ты, Петрович, говоришь? Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи. Дондеже Бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в своих молитвах не забывай. Поди, поди в церковь, Петрович, обличай ересь» [153]153
Там же. С. 87.
[Закрыть]. Ободренный женою, он ревностно продолжает обличать «еретическую блудню».
* * *
Когда произошло знакомство боярыни Морозовой и Аввакума? Судя по всему, сразу же после его возвращения из Сибири, хотя, как справедливо утверждает исследователь «Повести о боярыне Морозовой» А. И. Мазунин, «конечно, Морозова была наслышана о нем гораздо раньше, бывая при царском дворе. Сестра царя Ирина Михайловна очень сочувствовала Аввакуму, посылала ему в Сибирь ризы, писала туда…» [154]154
Мазунин А. И. Из комментария к Повести о боярыне Морозовой… С. 238.
[Закрыть]. Уже с весны 1664 года, то есть со времени прибытия ссыльного протопопа в Москву, отношения Морозовой и Аввакума были очень близкими. А летом боярыня предложила Аввакуму и его многочисленному семейству пристанище в своем доме. Он называл ее любовно «сестрой», ставил необычайно высоко: «моей дряхлости жезл и подпора, и крепость, и утверждение».
Впоследствии в пустозерской ссылке Аввакум с теплотой будет вспоминать о своих московских беседах с Морозовой: «Многими дньми со мною беседующе и рассуждающе о душевном спасении. От уст бо ее аз, грешный протопоп, яко меда насыщашеся. Глаголаше бо благообразная ко мне словеса утешительная, ношаше бо на себе тайно под ризами власяницу белых власов вязеную, безрукавую, да же не познают человецы внешнии. И, таящеся, глаголюще: «Не люблю я, батюшко, егда кто осмотрит на мне. Уразумела-де на мне сноха моя, Анна Ильична, борисовская жена Ивановича Морозова. И аз-де, батюшко, ту воласяницу искинула, да потаемне тое сделала. Благослови-де до смерти носить! Вдова-де я молодая после мужа своего, государя, осталася, пускай-де тело свое умучю постом, и жаждею и прочим оскорблением. И в девках-де, батюшко, любила Богу молитися, кольми же во вдовах подобает прилежати о души, вещи бессмертней, вся-де века сего суета тленна и временна, преходит бо мир сей и слава его»… Печаше бо ся о домовном рассуждении и о християнском исправлении, мало сна приимаше и на правило упражняшеся, прилежаше бо в нощи коленному преклонению. И слезы в молитве, яко струи, исхождаху изо очей ее. Пред очами человеческими ляжет почивати на перинах мягких под покрывалы драгоценными, тайно же снидет на рогозиницу и, мало уснув, по обычаю исправляше правило. В банях бо тело свое не парила, токмо месячную нужду омываше водою теплою. Ризы же ношаше в доме с заплатами и вшами исполненны, и пряслице прилежаше, нитки делая. Бывало, сижю с нею и книгу чту, а она прядет и слушает, или отписки девицы пред нею чтут, а она прядет и приказывает, как девице грамота в вотчину писать. И нитки – свои труды – ночью по улицам побредет да нищим дает. А иное – рубах нашьет и делит, а иное – денег мешок возьмет и раздаст сама, ходя по крестцам (перекресткам. – К. К.),треть бо имения своего нищим отдая. Подробну же добродетели ее недостанет ми лето повествовати: сосуд избранный видеша очи мои!» [155]155
Житие протопопа Аввакума… С. 296–297.
[Закрыть]
Часто Аввакум бывал в светлице у Морозовой, беседовал с ней или читал вслух церковные книги, а она в это время пряла и слушала или же отдавала своим служанкам приказы по хозяйству – «как девице грамоту в вотчину писать». В своих беседах с Аввакумом, ставшим ее духовным отцом, Феодосия Прокопьевна делилась сокровенными мыслями, не дававшими ей покоя: «Едина-де мне печаль: сын Иван Глебович молод бе, токмо лет в четырнатцеть; аще бы ево женила, тогда бы и, вся презрев, в тихое пристанище уклонилася». Душа ее желала иноческого жития и бегства от суетного мира.
29 июня 1664 года, на Петров день, в Москве случился страшный пожар, который уничтожил множество домов и церквей. Пламя подошло уже и к дому боярыни Морозовой, угрожая уничтожить на своем ходу всё, но тут случилось чудо. «Бысть же в Петров день пожар великий в Москве, – вспоминает Аввакум, – и приближающься огнь ко двору ея; аз бо замедлив в дому Анны Петровны Милославские, добра же ко мне покойница была. Егда бо приидох к Феодосье в дом, и двое нас, отшед, тайно молебствовали. Быша бо слезы от очию ея, яко река, воздыхание бо утробы ея, яко пучина морская колебашеся, глас же тонкий изо уст ея гортанный исхождаше, яко ангельский: «Увы! – глаголаше, – Боже, милостив буди мне, грешнице!» И поразится о мост каменный, яко изверг некий, плакавше. Чюдно бе видимое: отвратило пламя огненное от дому ея, усрамився молитвы ея сокрушенныя; обыде и пожже вся окрест дому ея, а за молитв ея и прочих не вредило тут. Аз же тому бысть самовидец сам, и паче слуха видения: моя молитва при ней, яко дым, ея же изо уст, яко пламя, восхождаше на небо» [156]156
Там же. С. 297.
[Закрыть].
Под влиянием бесед со своим духовным отцом боярыня Морозова всё более укреплялась в старой вере. Как отмечает автор «Повести о боярыне Морозовой» (которым, по всей вероятности, был ее старший брат Федор Соковнин): «Научена же бысть добродетелному житию и правым дагматом священномучеником Аввакумом протопопом. Егда же токмо уведе, о православии возревнова зело и развращеннаго всего отвратися» [157]157
Повесть о боярыне Морозовой / Подг. текстов и исслед. А. И. Мазунина. Л., 1979. С. 127–128.
[Закрыть].
* * *
Возглавив московскую староверческую общину, протопоп Аввакум повел борьбу с «новолюбцами» смело и решительно. Ему неоднократно приходилось вести прения о вере. Так, Иоанн Неронов упоминает о беседах Аввакума «наедине» с архиепископом Иларионом Рязанским и с новым царским духовником Лукьяном Кириловым – «о сложении перстов, и о трегубой аллилуии, и о прочих догматех» старых и «нынешних нововводных».
Однако самые ожесточенные споры в те летние дни 1664 года проходили в доме царского постельничего Феодора Михайловича Ртищева за кремлевскими Боровицкими воротами на углу Знаменки и Моховой, куда Аввакум «бранитца со отступниками ходил». Известно, что дом Ртищева был местом постоянных столкновений по вопросам церковной реформы и до приезда Аввакума в Москву. Отец царского окольничего Михаил Алексеевич Ртищев осуждал за приверженность старой вере боярыню Феодосию Прокопьевну Морозову, которая приходилась ему двоюродной племянницей и частенько бывала у Ртищевых в гостях. Дядя Ртищева по матери, игумен московского Покровского монастыря Спиридон Потемкин ссорился с его сестрой Анной Михайловной, поклонницей Никона.
На личности Анны Михайловны Ртищевой (в замужестве – Вельяминовой) стоит остановиться отдельно. Как старшая сестра, она имела колоссальное влияние на Феодора Михайловича, который ее «аки матерь почиташе», а она была ему «во всяком благотворении споспешница». Рано овдовев (в 1642 году ее муж Внифантий Кузьмич Вельяминов был убит крестьянами в своем тульском имении, видимо, за жестокое с ними обращение), она жила в доме своего младшего брата, где пользовалась неограниченным влиянием. Как царицына кравчая и «вторая верховая боярыня» имела она влияние и при царском дворе, и в патриарших палатах. Недаром дьякон Феодор называл ее насмешливо «Анна, Никонова манна». Благодаря незаурядному уму и женскому обаянию она сумела стать интимной советницей Никона при его стремительном восхождении на патриарший престол. «Царь ево на патриаршество зовет, – вспоминал Аввакум, – а он бытто не хочет, мрачил царя и людей, а со Анною по ночам укладывают – как, чему быть? – и, много пружався со дьяволом, взошел на патриаршество Божиим попущением, укрепя царя своим кознованием и клятвою лукавою» [158]158
Житие протопопа Аввакума… С. 64.
[Закрыть]. Убийственную характеристику дала этой женщине боярыня Морозова, которая приходилась ей троюродной сестрой. «А бояроня-покойница, – пишет тот же Аввакум, – дочь мне была духовная, Феодосия Морозова, ревнивой человек была, свет моя, уставщицу ту, сестру свою Анну Веньяминовну, и в дому и в Верху: «Ты-де блядь, Никоновы отирки, церковию колеблешь»» [159]159
Там же. С. 260.
[Закрыть].
Став патриархом, Никон зажил «широко». «Бабы молодые, – свидетельствует Аввакум, – и черницы, в палатах тех у него веременницы, тешат его, великого государя пресквернейшаго. А он их холостит, блядей. У меня жила Максимова попадья, молодая жонка, и не выходила от него: когда-сегда дома побывает воруха, всегда весела с воток да с меду; пришед песни поет: у святителя государя в ложнице была, вотку пила. А иные речи блазнено и говорить. Мочно вам знать и самим, что прилично блуду. Простите же меня за сие. И болыии тоя безделицы я ведаю, да плюнуть на все» [160]160
Там же. С. 153–154.
[Закрыть].
Особое место среди никоновских «веременниц» принадлежало Анне, которая сыграла немалую роль и в проведении церковных реформ, будучи горячей и убежденной сторонницей грекофильской партии. Желая оправдать царя Алексея Михайловича, Аввакум поначалу даже считал ее чуть ли не главной виновницей никоновских «затеек»: «Ум отнял у милова (царя), у нынешнева, как близ его был. Я веть тогда тут был, все ведаю. Всему тому сваха Анна Ртищева со дьяволом». Но и после удаления Никона в 1658 году Анна продолжала играть важную роль при дворе. Она заводит нового «любимого пастыря», лютого гонителя староверов «краснощекого Павлика», митрополита Крутицкого, который вскоре становится местоблюстителем патриаршего престола. «А о Павле Крутицком мерско и говорить: тот явной любодей, церковной кровоядец и навадник, убийца и душегубец, Анны Михайловны Ртищевой любимой владыка, подпазушной пес борзой, готов зайцов Христовых ловить и во огнь сажать» [161]161
Там же. С. 154.
[Закрыть]– такую убийственную характеристику дает Аввакум этому «князю церкви».
О ярко выраженной латинской ориентации Анны Михайловны и активной поддержке ею «греческого проекта» свидетельствует ее спор по поводу «кислого хлеба» и «опресноков» с дядей Спиридоном Потемкиным, немало времени прожившим на оккупированных польскими католиками землях. Как известно, некогда в XI веке именно спор о том, каким должен быть хлеб для причастия, явился главным формальным поводом для разрыва между католиками и православными: католики считали, что надо причащаться «опресноками», а православные – «кислым хлебом». Аввакум так передает спор между дядей и племянницей: «Слышал я, промышленница и заступница еретическая Анна Ртищева… Спиридону Потемкину говорит: «Что-де, дядюшка, разнствует хлеб со опресноком?» И старик-от ей хорошо сказал: «Вижу-де, Михайловна, половина ты ляховки!» Так она рожу ту закрыла рукавом». Впоследствии Анна Ртищева сыграет роковую роль в конфликте своей троюродной сестры с царем Алексеем Михайловичем. Но она ненадолго переживет Феодосию Прокопьевну – умрет почти сразу после нее, в ноябре 1675 года…
Оказавшись в доме Ртищева после своего возвращения из Сибири, Аввакум активно включается в полемику: «В дому у него с еретиками шумел много». Ко всем таким диспутам он тщательно готовился, собирал материалы, делал нужные выписки из Священного Писания и святоотеческих творений. Среди своих оппонентов Аввакум называет прежде всего Симеона Полоцкого и Епифания Славинецкого. «Епифания римлянина» он знал еще «до мору, егда он приехал из Рима». С «Семенкой чернецом», который «оттоле же выехал, от римского папежа», он только что познакомился.
Первоначальное образование Симеон получил в латинизированной Киево-Могилянской коллегии, затем продолжил свое образование в польской иезуитской коллегии в Вильно. Впоследствии в книге «Остен» о «полоцком старце» говорилось: «Он же Симеон, аще бяше человек и учен и добронравен, обаче предувещан от иезуитов, папежников сущих, и прелщен бысть от них: к тому и книги их латинския токмо чтяше: греческих же книг чтению не бяше искусен, того ради мудрствоваше латинския нововымышления права быти. У иезуитов бо кому учившуся, наипаче токмо латински без греческаго, неможно быти православну веема восточныя церкве искреннему сыну» [162]162
Остен. Памятник русской духовной письменности XVII века. Казань, 1865. С. 130.
[Закрыть]. В 1656 году, когда царь Алексей Михайлович посетил Полоцк, проходя походом на Ригу, Симеон поднес ему свое сочинение «Метры на пришествие великого государя» и тем обратил на себя внимание царя. В 1664 году, после того как Полоцк снова перешел под власть Польши, Симеон переселяется в Москву, где обучает латинскому языку молодых подьячих Тайного приказа, а спустя некоторое время становится воспитателем царских детей и придворным стихотворцем.
Феодор Ртищев, будучи убежденным грекофилом и одним из вдохновителей «греческого проекта», всячески покровительствовал «недобрым киевским старцам». Увлечение его западной ученостью доходило до того, что он проводил в беседах с киевлянами целые ночи, забывая о сне. Точно так же три дня и три ночи беседовали они с Аввакумом после его возвращения в столицу.