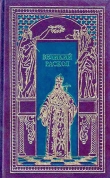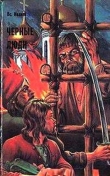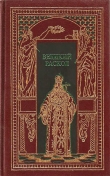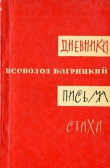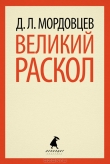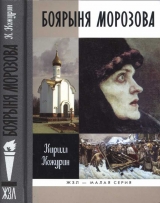
Текст книги "Боярыня Морозова"
Автор книги: Кирилл Кожурин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
После расстрижения Аввакума под стражей отвезли в Никольский Угрешский монастырь, где он пробыл 17 недель. И сюда боярыня Морозова продолжала присылать своему духовному отцу всё необходимое. 2 сентября царь приказал отослать Аввакума подальше от столицы, в Боровский Пафнутьев монастырь, причем игумену Парфению был дан строгий наказ «посадить Аввакума в тюрьму и беречь ево накрепко с великим опасением, чтобы он с тюрьмы не ушел и дурна никакова б над собою не учинил, и чернил и бумаги ему не давать, как и прочим колодникам». 5 сентября 1666 года Аввакума доставили в Боровский Пафнутьев монастырь. Здесь он пробыл до 30 апреля 1667 года. Несмотря на строгие условия, в которых содержался Аввакум, время от времени боярыне Морозовой удавалось передавать в монастырь «потребная и грамотки».
«Разбойничий собор»Собор 1666 года не выполнил всех задач, поставленных перед ним главным «заказчиком» – царем Алексеем Михайловичем. Хотя собор благословил начатую церковную реформу, а также расправу с главными вождями старообрядческой оппозиции, еще одна важная цель оставалась пока нерешенной: в России до сих пор не было патриарха. Царь не решался предать Никона духовному суду и извергнуть его из патриаршего сана без участия «вселенских» патриархов. К тому же и самому будущему собору уж очень хотелось придать вид вселенского. Видимо, духовного авторитета собственных, купленных за деньги и запуганных до смерти архиереев не хватало…
2 ноября 1666 года прибыли в Москву долгожданные «вселенские» – патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский. Как выяснилось позже, оба они к тому времени были свержены со своих престолов и лишь впоследствии вновь заняли патриаршие престолы благодаря вмешательству русского правительства и с помощью турецких властей. «Двух… приехавших в Москву патриархов привели туда… не заботы о русской церкви, а просто желание получить от русского правительства соответствующую мзду за осуждение своего же собрата по сану, – писал С. А. Зеньковский. – В этом отношении они не ошиблись и за свою услугу государю каждый из них лично получил из русской казны мехов, золота и подарков на 200 ООО рублей по курсу 1900 года. Когда у них появлялись какие-либо сомнения или угрызения совести, то таковые легко устранялись соответствующим финансовым давлением. Каноническое право этих двух восточных патриархов на участие в русском соборе было крайне сомнительным. Возмущенный их поездкой на суд Никона, патриарх Парфений (Константинопольский. – К. К.)и созванный им собор добились у турецкого правительства смещения этих обоих неколлегиальных владык под предлогом оставления ими паствы и церкви без разрешения властей. Вообще оба патриарха были постоянно в долгах и денежных перипетиях, а патриарх Паисий по возвращении из России на Восток попал в тюрьму по обвинению в присвоении колоссальной по тому времени суммы в 70 ООО золотых» [210]210
Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. С. 222.
[Закрыть].
Свою ненависть к старому русскому обряду «вселенские» патриархи-авантюристы показали уже по пути в столицу, арестовав в Симбирске (на чужой канонической территории!) престарелого местного священника Никифора, служившего по дониконовским книгам. На обратном пути из России Макарий Антиохийский написал новому патриарху из Макарьевского Желтоводского монастыря очередной донос: «В здешней стране много раскольников и противников не только между невеждами, но и между священниками: вели их смирять и крепким наказанием наказывать». В результате против одного из знаменитейших монастырей в России были приняты самые строгие меры…
5 ноября «вселенские» имели наедине с Алексеем Михайловичем достаточно продолжительную – около четырех часов – беседу, а уже 7 ноября царь пригласил в свою Столовую палату восточных патриархов, русских архиереев, бояр, окольничих и думных людей. Царь обратился к восточным патриархам с торжественной речью и передал им все материалы по «делу Никона». На ознакомление с документами было дано 20 дней. В качестве консультанта по русским делам к восточным патриархам был приставлен Паисий Лигарид, который и играл «первую скрипку» на соборе. На личности этого человека следует остановиться отдельно, поскольку в заседаниях собора он сыграет роковую роль.
Паисий Лигарид (в миру Пантелеймон, или Панталеон) – личность крайне одиозная, бывший митрополит Газы (в Палестине), тайный католик, агент иезуитов. На его примере хорошо видно, кто был по-настоящему заинтересован в проведении никоно-алексеевской реформы в России. С тринадцати лет он воспитывался и обучался в иезуитской греческой коллегии святого Афанасия в Риме, а после ее окончания получил степень доктора богословия и философии и был поставлен в священники униатским митрополитом Рафаилом Корсаком. В 1641 году он покинул Рим и отправился в Константинополь для распространения католической веры. Позднее перебрался в Молдавию и Валахию, где был дидаскалом в ясской школе. В 1650 году принимал участие в споре о вере старца Арсения Суханова с греками. На следующий год постригся в монахи, а еще через год был поставлен иерусалимским патриархом в митрополиты Газы Иерусалимской.
Хотя Лигарид и принял для видимости православие, он продолжал вести активную переписку с иезуитской конгрегацией «Пропаганда», у которой состоял на жалованье в качестве католического миссионера, и с варшавским нунцием Пиньятелли – будущим римским папой Иннокентием XII. Как ловкий дипломат, Лигарид впоследствии вел в Москве пропаганду унии Русской Церкви с Римом. Польский король Ян Казимир так обращался к Паисию: «Достопочтенный во Христе отец и свято нам любезный, в благочестивом нашем желании мы имеем ваше преосвященство единственным орудием в соседнем и дружественном нам великом княжестве Московском… Мы еще и еще просим ваше преосвященство сообщить всякое свое прилежание в составлении мира и единства латинской и греческой церкви» и обещал ему при этом «нашу королевскую милость».
Изверженный из сана иерусалимским патриархом Нектарием, Лигарид прибыл в Москву в 1662 году по приглашению патриарха Никона для помощи и придания авторитетности его реформам. Однако после падения Никона сразу же от него отвернулся и на соборе 1666–1667 годов активно помогал царю Алексею Михайловичу расправиться со своим бывшим благодетелем. Начитанный и обходительный Паисий сумел закрасться в доверие царю, угадав сокровенные его мысли: поведал о пророчестве, согласно которому греков от турок якобы должен освободить именно царь Алексей. Сохранилась его книга «пророческих сказаний» под названием «Хрисмос». Архидиакон Павел Алеппский сообщает об этой книге следующее: «Мы (патриарх Макарий Антиохийский и сам Павел. – К. К.)добыли еще от митрополита Газского другую греческую книгу, которую он составил в разных странах и из многих книг и назвал «Хрисмос», то есть книга предсказаний. Она единственная, и не имеется другого списка ее. Содержит в себе предсказания, (выбранные) из пророков, мудрецов и святых, касательно событий на Востоке: об агарянах, Константинополе и покорении ими этого города – известия весьма изумительные; также о будущих и имеющих еще совершиться событиях. Я заставил того же писца снять с нее также два списка. С большим трудом митрополит дал ее нам для переписки, но он, то есть митрополит Газский, не желал этого, пока я не добился его согласия при помощи подарков, и потому, что ему стало совестно перед нами, и он разрешил нам списать ее. Кто прочтет эту превосходную книгу, будет поражен изумлением перед ее пророчествами, изречениями и прочим содержанием…» [211]211
Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию… С. 569.
[Закрыть]Если даже хорошо знавшие Лигарида восточные иерархи всерьез восприняли эту состряпанную иезуитами сомнительную компиляцию, то что уж говорить о недалеком и падком на лесть Алексее Михайловиче!..
За время пребывания в Москве Лигарид постоянно выпрашивал у царя деньги якобы на содержание Газской епархии, к которой уже не имел никакого отношения. Также он подделал грамоту патриарха Дионисия Константинопольского, выдавая себя за патриаршего экзарха. Зарабатывал и тем, что нелегально торговал мехами, драгоценными каменьями, вином и запрещенным в России под страхом смертной казни табаком. «У Газского митрополита, – сообщает Аввакум, – выняли напоследок 60 пудов табаку, да домру, да иные тайные монастырские вещи, что поигравше творят» [212]212
Житие протопопа Аввакума… С. 97.
[Закрыть].
«Митрополит Паисий Лигарид, – замечает историк С. А. Зеньковский, – в свою очередь был проклят и отлучен от церкви своим же владыкой, патриархом Нектарием Иерусалимским, а за свои нехристианские поступки и измену православию скорее заслуживал находиться на скамье подсудимых, чем среди судей» [213]213
Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. С. 222.
[Закрыть]. Патриарх Нектарий в письме царю Алексею Михайловичу писал, что Паисий Лигарид «называется с православными православным», а «латыни свидетельствуют и называют его своим, и папа римский емлет от него всякий год по двести ефимков». Ему вторил константинопольский патриарх Дионисий: «Паисий Лигарид лоза не константинопольского престола, я его православным не называю».
Но даже получив от патриарха Нектария такие компрометирующие сведения, царь вовсе и не думал изгонять Лигарида как обманщика и «папежника». Он… решил купить ему разрешение и прощение у иерусалимского патриарха. Уж слишком он в нем нуждался. Новый патриарх оказался более покладистым и за большие деньги дал такое разрешение, хотя впоследствии и пожалел и даже вновь запретил Лигарида в служении как «латынщика».
* * *
28 ноября 1666 года в государевой Столовой палате открылся Большой Московский собор. На нем присутствовали 29 архиереев, в том числе 12 иностранцев. Здесь были представители всех главных церквей Востока, так что действительно возникала иллюзия некоего нового «вселенского собора». Кроме двух «вселенских» патриархов Макария Антиохийского и Паисия Александрийского, для соборного суда над Никоном в Москву прибыли пять митрополитов Константинопольского патриархата – Григорий Никейский, Козьма Амасийский, Афанасий Иконийский (который, впрочем, за подделку полномочий вместо собора оказался в заключении в Симоновом монастыре), Филофей Трапезундский, Даниил Варнский и один архиепископ – Даниил Погонианский; из Иерусалимского патриархата и Палестины – уже упомянутый выше низверженный Газский митрополит Паисий и самостоятельный архиепископ Синайской горы Анания, из Грузии митрополит Епифаний; из Сербии епископ Иоаким Дьякович; из Малороссии – епископ Черниговский Лазарь (Баранович) и епископ Мстиславский Мефодий (местоблюститель Киевской митрополии). Русских архиереев участвовало 17, а именно: митрополиты – Питирим Новгородский, Лаврентий Казанский, Иона Ростовский, Павел Крутицкий, архиепископы – Симон Вологодский, Филарет Смоленский, Стефан Суздальский, Иларион Рязанский, Иоасаф Тверской, Иосиф Астраханский, Арсений Псковский; епископ – Александр Вятский. Вскоре к ним присоединились вновь избранный Московский патриарх Иоасаф II и архиереи двух новооткрытых епархий: Белгородской – митрополит Феодосий и Коломенской – епископ Мисаил. Также присутствовало множество русских и иноземных архимандритов, игуменов, иноков и священников.
Всего состоялось восемь заседаний собора по «делу Никона»: три предварительных, четыре – посвященных собственно самому суду (два – заочных, два – в присутствии обвиняемого) и еще одно – заключительное, на котором был оглашен окончательный приговор. Никон обвинялся в самовольном оставлении им патриаршей кафедры, оскорблении церкви, государя, собора и всех православных христиан, оскорблении восточных патриархов, самовольном свержении с кафедры и изгнании епископа Павла Коломенского, в следовании католическому обычаю, что выражалось в его повелении носить перед собой крест, а также в незаконном устроении монастырей за пределами Патриаршей области на землях, отнятых у монастырей других епархий. По результатам соборных заседаний Никон был приговорен к лишению сана патриарха и священства. Под приговором подписались два патриарха, десять митрополитов, семь архиепископов и четыре епископа. В ответ бывший патриарх, обращаясь к царю, сказал: «Кровь моя и грех всех буди на твоей главе», а вечером пророчествовал о том, что всех осудивших его участников собора ждут нестерпимые муки.
12 декабря 1666 года «вселенские» патриархи сняли с Никона черный клобук с херувимом и жемчужным крестом – знак патриаршего достоинства – и панагию и возложили на него простой монашеский клобук, сняв его с присутствовавшего здесь греческого монаха. Низложенному патриарху прочитали поучение, что он не может более называться патриархом и жить в Воскресенском монастыре, но должен отправиться в Ферапонтов монастырь, жить там тихо и немятежно и каяться в своих прегрешениях. В ответ Никон сказал: «Знаю-де и без вашего поучения, как жить, а что-де клобук и панагию с него сняли, и они бы с клобука жемчуг и панагию разделили по себе, а достанется-де жемчугу золотников по 5 и 6 и больше, и золотых по 10»…
Так бесславно оканчивалось патриаршество, некогда начинавшееся столь многообещающе. Никона, которого когда-то торжественно провозглашали патриархом в переполненном Успенском соборе в присутствии царя и многочисленного православного народа, на коленях со слезами умоляя его занять первосвятительскую кафедру, теперь расстригали тайно, в отсутствие и царя, и народа.
Последующие заседания Большого Московского собора проходили в Патриаршей Крестовой палате уже без участия Алексея Михайловича. Состоялись выборы нового патриарха Московского и всея Руси. 31 января 1667 года участники собора подали царю имена трех кандидатов: Иоасафа, архимандрита Троице-Сергиева монастыря, Филарета, архимандрита Владимирского монастыря, и Саввы, келаря Чудова монастыря.
Характерно, что среди кандидатов на патриаршество не было ни одного архиерея. Это отчасти объясняется позицией, занятой некоторыми из них после низложения Никона. Так, митрополит Павел Крутицкий и архиепископ Иларион Рязанский всесоборно объявили, что «степень священства выше степени царского». «В этот драматический момент и выяснилось, что не напрасно Алексей Михайлович привечал греков. Последние были равнодушны к кровным интересам русских архиереев, не говоря уже о том, что выстраивали свои взаимоотношения с царской властью на иных началах. Потому оба восточных патриарха, под одобрительные голоса остальных греков, обвинили русских «князей церкви» в цезарепапизме и своим авторитетом помогли задавить новый бунт еще в зародыше» [214]214
Андреев И. Л. Алексей Михайлович. С. 369.
[Закрыть].
Особенно лез из кожи Паисий Лигарид, без меры льстя Алексею Михайловичу и заявляя, что «царю надлежит казаться и быть выше других» и соединять в своем лице «власть государя и архиерея». Алексей Михайлович воспринимал эти слова буквально: после своего разрыва с Никоном, примерно с 1662 года, он стал причащаться за литургией по чину священнослужителей, то есть непосредственно в алтаре и отдельно – телу и крови Христовой, подобно тому, как это делали священники и дьяконы. Такой порядок причащения Алексея Михайловича соответствовал древней византийской практике причащения императора, о чем ему, вероятно, сообщил услужливый Паисий.
«Поистине, – заливался соловьем Лигарид, – наш державнейший царь, государь Алексей Михайлович, столь сведущ в делах церковных, что можно подумать, будто целую жизнь был архиереем… Ты, Богом почтенный царю Алексие, воистину человек Божий… Вы боитесь будущего, чтобы какой-нибудь новый государь, сделавшись самовластным… не поработил бы церковь российскую. Нет, нет! У доброго царя будет еще добрее сын его наследник. Он будет попечителем о вас. Наречется новым Константином, будет царь и вместе архиерей…» В свете последующего «синодального пленения» господствующей церкви, осуществленного сыном Алексея Михайловича Петром I, который не только подчинил Церковь государству, но и объявил самого себя ее главой, эти «пророчества» старого иезуита звучат как мрачная насмешка и издевательство.
В результате на соборе было объявлено, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх – в церковных. Однако это была не более чем этикетная формула. Гораздо чаще соборные заседания проходили в царской Столовой палате, чем в Патриаршей Крестовой. Иларион Рязанский и Павел Крутицкий были обвинены собором в том, что они «никонствуют и папствуют», и на них была наложена епитимья. Другие русские иерархи, по замечанию Паисия Лигарида, «пришли в страх от сего неожиданного наказания».
В конечном итоге царь отдал предпочтение троицкому архимандриту Иоасафу, который был «уже тогда в глубочайшей старости и недузех повседневных». Такой выбор свидетельствовал, видимо, о том, что Алексей Михайлович не хотел видеть во главе Русской Церкви деятельного и независимого человека. 10 февраля 1667 года на патриаршество был возведен новый патриарх под именем Иоасафа II. «Молчаливый потаковник прелести сатанине», – кратко и емко охарактеризует его диакон Феодор.
* * *
Хотя Большой Московский собор осуществил главную свою задачу – осудил и лишил сана патриарха Никона, церковная смута на этом не закончилась, но, наоборот, еще более усугубилась. Русский православный народ ожидал от собора не просто осуждения Никона, но отказа от всех дел его и всего наследия его. «Удаление Никона в Новоиерусалимский монастырь было воспринято сторонниками старого обряда как благоприятный знак, – пишет современный историк, – ушел главный инициатор пагубных новшеств, и с ним, по их убеждению, должны были кануть в вечность и его дьявольские нововведения» [215]215
Там же. С. 373.
[Закрыть]. В связи с этими событиями старообрядческая проповедь еще более усилилась. Усилилось и ее влияние на народ, что не могло не волновать царя и «духовные власти». После февральских и мартовских заседаний, на которых решались второстепенные вопросы, в апреле 1667 года иерархи вновь обратились к проблеме «церковных мятежников» и проблеме церковного обряда.
Вновь перед участниками собора предстали уже покаявшиеся церковные оппозиционеры – для нового суда и нового покаяния. «Прибывший из Соловков архимандрит Никанор был судим первым, 20 апреля. За ним прошествовали, также каясь в своих заблуждениях, священник Амвросий, дьякон Пахомий, инок Никита и уже раскаявшиеся отец Никита Добрынин и старец Григорий Неронов» [216]216
Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. С. 226.
[Закрыть]. Вслед за ними на собор доставили тех, кто принимать никонианских новшеств не хотел: диакона Феодора, раскаявшегося в своем отказе от старой веры и вновь начавшего борьбу с «никонианством», соловецкого инока Епифания, специально пришедшего на собор из далекого северного скита и подавшего царю книгу обличений на новый обряд, священника Никифора, арестованного восточными патриархами в Симбирске за преданность двоеперстию и старым обрядам и привезенного в Москву, романовского священника Лазаря. Последний, представ перед судом восточных патриархов еще в декабре 1666 года, поразил их неожиданным предложением: определить правоту старого и нового обрядов Божьим судом на костре. «Повелити ми идти на судьбу Божию во огонь», – сказал он. Если он сгорит, значит, новый обряд правилен и правы «новые учители», а если уцелеет – значит, старый обряд является истинно православным и правда за ревнителями древлего благочестия. Ошеломленные таким аргументом патриархи не знали, что отвечать.
Призвав к себе боярина и голову, они велели через переводчика Дионисия Грека сказать царю: «Древле убо ваши русские люди не прияли просто святаго крещения от наших греческих святителей, но просили знамения – Евангелие Христово положити на огонь, и аще не сгорит, тогда веруем и крестимся вси. И Евангелие кладено бысть на огнь, и не сгорело: тогда русове вероваша и крестишася. И ныне такожде поп ваш Лазарь без извещения не хощет приимати новых книг, но хощет идти на судьбу Божию во огнь; и не мы его к тому принуждали, но сам он тако изволил… А больше сего мы судить не умеем!» Царь «умолче», а «духовные власти» «вси возмутишася и страх нападе на них: от кого нечая-ли, сие изыде!». Семь месяцев царь находился в раздумье: положиться на «судьбу Божию» или нет, «понеже, – замечает диакон Феодор, – совесть ему зазираше». Наконец «помазанник Божий» решил, что уповать на «Божию правду» не очень-то надежно. А вдруг староверы окажутся правы, и «не по нас Бог сотворит»? Тогда царю со всеми «властьми» «срам будет и поношение от всего мира».
Тем временем шла «промывка мозгов» восточных патриархов, которые вскоре начали смотреть на русские церковные дела глазами иезуитского выученика Паисия Лигарида. А Лигарид хотел представить старообрядцев лишь как врагов греков, грубых невежд и церковных нововводителей, прекрасно понимая, что эти истинные ревнители православия и являются главным препятствием на пути проведения будущей церковной унии с католическим Римом. Вот как пристрастно витийствовал этот изящный знаток античной языческой мифологии по поводу событий церковного раскола в Русской Церкви: «Внезапно устремился на дело лукавое другой шумный рой больших бедствий, за которыми последовал какой-то всенародный избыток соков, причинивший неисцелимую болезнь православной русской церкви… Так по чрезмерной беспечности Никона, вовсе не стоящего на одном твердом мнении, но беспрестанно меняющегося, как Протей, для всеобщей заразы российской церкви возникли некоторые новые раскольники: Аввакум, Лазарь, Епифаний, Никита, Никанор, Фирс невоздержный на слова, как Ферсит, Григорий, носящий прозвание Нерона. Бездну лжи написали они против нас, далеко превзошедшую зловонный навоз Авгия… Против сих мужей-губителей, которые для гибельного заблуждения и для распространения зла извращают древние нравы церковные и обычаи отцовские, которые однако думают, что хранят постановления как бы законные; когда совершилось много преступных волнений, когда несказанные нововведения наполнили эту царственную столицу: против сих мужей, поднявшихся на человеческие ухищрения и облекшихся в неправоверие, на продолжительное обличение и достаточное опровержение ереси возникшей и преуспевшей, составили мы книгу, по царскому и соборному повелению, в которой с большою подробностию опровергли писания Никиты, ефемерного Феолога, даже и концем перста не вкусившего феологии. Книга наша потом сокращенно была переведена иеромонахом Симеоном и предана тиснению на память вековечную, на бессмертную славу» [217]217
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 369.
[Закрыть].
* * *
30 апреля, после восьмимесячного тюремного заточения в Боровске, в Москву был привезен закованный в кандалы протопоп Аввакум. Его поставили на подворье Боровского Пафнутьева монастыря на Посольской улице. Здесь он пользовался относительной свободой, имел возможность общаться со своими друзьями, единомышленниками и духовными детьми.
Боярыня Морозова, вспоминал он, «яко Фекла Павла ищущи, – увы мне, окаянному! – и обрете мя, притече во юзилище ко мне, и по многим временам беседовахом. И иных с собою привождаше, утвержая на подвиги. И всех их исповедал во юзилище: ея и Евдокею, и Иванушка, и Анну, и Неонилу, и Феодора, и святаго комкания (причастия. – К. К.)сподобил их. Она же в пять недель мало не всегда жила у меня, словом Божиим укрепляяся. Иногда и обедали с Евдокеею со мною во юзилище, утешая меня, яко изверга» [218]218
Житие протопопа Аввакума… С. 299.
[Закрыть].
3 и 11 мая Аввакума по царскому указу водили в Чудов монастырь, где чудовский архимандрит Иоаким и спасский архимандрит Сергий Волк из Ярославля допрашивали его и пытались склонить к новой вере. «Грызлися что собаки со мною власти», – вспоминает Аввакум.
Наконец протопоп Аввакум предстал перед судом «вселенских». Позднее он писал: «Июня в 17 день имали на собор сребролюбныя патриархи в крестовую, соблажняти…» Здесь же присутствовали и русские архиереи – «что лисы сидели». На соборе мятежный протопоп не покорился, «от Писания с патриархами говорил много», ибо тогда, замечает он, «Бог отверз грешные мои уста, и посрамил их Христос!». Патриархи прибегли к последнему аргументу: «Что-де ты упрям? Вся-де наша Палестина, – и серби, и албанасы, и волохи, и римляне, и ляхи, – все-де трема персты крестятся, один-де ты стоишь во своем упорстве и крестисься пятью персты! [219]219
Имеется в виду двоеперстие, в котором сложение всех пяти пальцев имеет глубокий догматический смысл.
[Закрыть]– так-де не подобает!» Аввакум обратился к «сребролюбным патриархам» с такой речью:
«Вселенстии учителие! Рим давно упал и лежит невсклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быша християном. А и у вас православие пестро стало от насилия турскаго Магмета, – да и дивить на вас нельзя: немощни есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, Божиею благодатию, самодержство. До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и церковь немятежна. Никон волк со дьяволом предали трема персты креститца; а первые наши пастыри яко же сами пятью персты крестились, такоже пятью персты и благословляли по преданию святых отец наших Мелетия антиохийского и Феодорита Блаженнаго, епископа киринейскаго, Петра Дамаскина и Максима Грека. Еще же и московский поместный бывый собор при царе Иване так же слагая персты креститися и благословляти повелевает, яко ж прежнии святии отцы Мелетий и прочии научиша. Тогда при царе Иване быша на соборе знаменосцы Гурий и Варсонофий, казанские чудотворцы и Филипп, соловецкий игумен, от святых русских» [220]220
Там же. С. 101–102.
[Закрыть].
Восточные патриархи «задумалися», не зная, что отвечать, а русские архиереи, «что волчонки, вскоча, завыли и блевать стали на отцев своих, говоря: «глупы-де были и не смыслили наши русские святыя, не учоные-де люди были, – чему им верить? Они-де грамоте не умели!»». Как же заезжие «просвещенные» греки сумели задурить головы русским архиереям, если те всерьез стали считать, что святость напрямую зависит от учености!..
На такой неожиданный аргумент Аввакуму только и оставалось, что «побраниться». «Чист есмь аз, – сказал он напоследок, – и прах прилепший от ног своих отрясаю пред вами, по писанному: «лутче един творяй волю Божию, нежели тьмы беззаконных!» [221]221
Сир. 16, 3.
[Закрыть]» Исчерпав все свои аргументы, «отцы освященного собора» пришли в неизъяснимое бешенство и, уже ничего не стесняясь, дали волю рукам: ««Возьми, возьми его! – всех нас обесчестил!» Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились, человек их с сорок, чаю, было, – велико антихристово войско собралося! Ухватил меня Иван Уаров да потащил. И я закричал: «постой, – не бейте!» Так оне все отскочили. И я толмачю-архимариту говорить стал: «говори патриархам: апостол Павел пишет: таков нам подобаше архиерей – преподобен, незлобив, [222]222
Евр. 7, 26.
[Закрыть]и прочая; а вы, убивше человека, как литоргисать станете?» Так оне сели».
После спора с «палестинскими» Аввакума вместе с иереем Лазарем и старцем Епифанием переселили на Воробьевы горы, но при этом держали под крепкою стражей, не давая ни с кем видеться. Однако и здесь боярыня Морозова, каким-то непостижимым образом узнавшая о местонахождении своего духовного отца, не преминула встретиться с ним. Аввакум описывает трогательную сцену своего последнего свидания с боярыней в таких словах: «Она же умыслила чином, по-боярскому в коретах ездила, бытто смотрит пустыни Никоновы, и, назад поедучи, заехала на Воробьевы ко мне и, будучи против избы, где меня держат, из кореты кричит, едучи: «Благослови, благослови!» А сама бытто смеется, а слезы текут. Потом же так и сяк, ввезли мя паки в Москву на подворье Никольское. Она же помного прихождаше ко вратам двора того и стерегущим воинам моляшеся, насилу обрела такова сотника, яко пустил на двор ея. Она же, прибежав к окну моему, благодарит Христа, яко сподобил Бог видетися, и денег мне на братью дала. Да паки, ко вратам приходя, плакивала. Да и только видания!»
Это была их последняя встреча.
Месяц спустя, 17 июля 1667 года, Аввакуму, священнику Лазарю и соловецкому иноку Епифанию за их упорство вынесли окончательный приговор: Аввакума и Лазаря «паки… проклятию предаша», а Епифания – «проклятию предаша, и иночества обнажиша, и острищи повелеша, и осудиша отослати к грацкому суду». 26 августа 1667 года вышел царский указ о ссылке протопопа Аввакума, священника Лазаря, симбирского священника Никифора и инока Епифания в Пустозерск. На следующий день, 27 августа, Лазарю и Епифанию резали языки в Москве, «на Болоте». 30–31 августа всех осужденных из подмосковного села Братошина повезли в Пустозерский острог, откуда они уже никогда не вернутся…
Между тем работа Большого Московского собора 1666–1667 годов продолжалась, и на соборе были приняты роковые решения, которые окончательно закрепили раскол в Русской Церкви. На соборе вновь был поднят вопрос о проведенной Никоном церковной реформе, и участники собора, осудившие самого Никона, не только единодушно утвердили его дело, но и произнесли еще более тяжкие проклятия на древлеправославных христиан как на еретиков. 13 мая 1667 года на соборе торжественно были преданы проклятию древлеправо-славные церковные чины и обряды, свято хранимые Русской Церковью до лет патриаршества Никона: «Сие наше соборное повеление и завещание ко всем, вышереченным, чином православным. Предаем и повелеваем всем неизменно хранити и покорятися святой Восточной церкви. Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святой Восточной церкви и сему освященному собору, или начнет прекословити и противлятися нам: и мы таковаго противника данною нам властию от всесвятаго и животворящаго Духа, аще ли будет от освященнаго чина, извергаем и обнажаем его всякаго священнодействия и проклятию предаем. Аще же от мирскаго чина, отлучаем и чужда сотворяем от Отца, и Сына, и Святаго Духа: и проклятию, и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православнаго всесочленения и стада, и от церкве Божия отсекаем, дондеже уразумится и возвратится в правду покаянием. А кто не уразумится и не возвратится в правду покаянием, и пребудет во упрямстве своем до скончания своего: да будет и по смерти отлучен, и часть его, и душа со Иудою предателем, и с распеншими Христа жидовы, и со Арием, и со прочими проклятыми еретиками: железо, камение, и древеса да разрушатся, и да растлятся, а той да будет не разрешен и не растлен, и яко тимпан, во веки веков, аминь» [223]223
Деяния Московского собора 1667 года. М., 1893. Л. 6 об. – 7.
[Закрыть].
«Первую скрипку» на продолжившихся в 1667 году соборных заседаниях на этот раз играл скандально известный архимандрит Дионисий Грек. Чтобы охарактеризовать личность этого человека, достаточно привести один случай, получивший в Москве широкую огласку, – неслыханное кощунство, совершенное греческим архимандритом в главном храме Московской Руси – Успенском соборе Кремля. Об этом писал в своем послании архиепископу Илариону Рязанскому протопоп Аввакум: «О нем же слышах от достоверных свидетелей, что Софеинской поп Ирод ион извещал на него вам, святителем, что он, архимарит, некоего подяка содомски блудил многое время. И по действу диаволю, прилучися ему и во олтари скверну деяти со отроком, облекши детище во святителския ризы и во амфор».