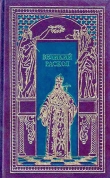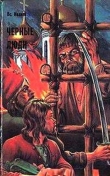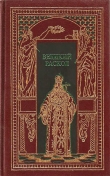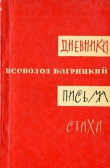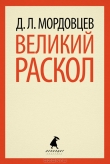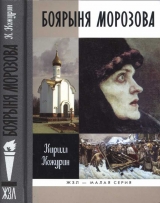
Текст книги "Боярыня Морозова"
Автор книги: Кирилл Кожурин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
Целуя мать, Иван Глебович зарыдал и упал ей в ноги. Поднимая его с земли, боярыня пыталась его утешить: «Послушай, дражайшее мое единородное чадо, Иоанне, наказания матере своея, ибо светло житие праведных, како же светится. Не терпением ли сие возлюби, еже есть мужеству мати? Пророк в псалме наказует, глаголя: потерпи Господа и сохрани пути Его [278]278
Пс. 36, 34.
[Закрыть]. Павел учит, яко да стяжете детел и и глаголет, яко скорбь терпение соделовает, и сим грядыи путем обрящеши источник благое упование, упование же не посрамит. Послушай, чадо, Павла глаголюща, еже аще что сеет человек, то и пожнет: сеяй в дух – от духа пожнет жизнь вечную, сеяй же в тело, – рече, – от плоти пожнет тление. Не пренемогай в трудех и житейских печалех, презря упование; идеже бо подвизи, тамо и воздаяние, а идеже победы, тамо и почести, а идеже брань, тамо и венец. Над всеми же сими имей присно в сердцы страх Божий – тем убо уклоняется всяк от зла, – и память смертную – та бо есть устав любомудрия. Стяжи же и чистоту душевную и телесную, без нея же никто же узрит Господа. Буди же и милостив ко всем, яко тии помиловани будут. Нам убо, чадо, наста время подвига: тецем убо на предлежащий нам подвиг. Ты же, взем благословение и молитву и последнее прощение, возвратися в дом свой».
Не переставая проливать слезы, Иван взял благословение у матери и возвратился в дом, где «плач и рыдание и вопль мног слышашеся аки по мертвей»… [279]279
Повесть о боярыне Морозовой. С. 191.
[Закрыть]
* * *
18 ноября сестер Феодосию и Евдокию доставили в кремлевский Чудов монастырь, где их допрашивали «духовные власти». Боярыню Морозову внесли на полотне в так называемую Вселенскую палату монастыря. Перекрестившись на находившиеся на стенах образа, она лишь слегка кивнула в сторону «властей». При допросе присутствовали митрополит Крутицкий Павел [280]280
Павел(ум. 1675) – митрополит Сарский и Подонский (Крутицкий) (с 1664). До монашеского пострига носил имя Петра и служил священником в церкви Сретения «на сенях у царя» в Москве. Овдовев, принял монашество в московском Новоспасском монастыре. С 1659 года – архимандрит Чудова монастыря. 22 августа 1664 года хиротонисан во епископа Сарского с возведением в сан митрополита. В период междупатриаршества (1658–1667) трижды был местоблюстителем патриаршего престола. Активно боролся со старообрядцами – Никитой Добрыниным, священником Лазарем, боярыней Морозовой, диаконом Феодором, неоднократно лично допрашивал протопопа Аввакума. Принимал участие в Большом Московском соборе 1666–1667 годов, встречал прибывших в Москву восточных патриархов – Александрийского Паисия и Антиохийского Макария, читал им приветственную речь. Вместе с тем он отказался подписать принятый на соборе акт о низложении патриарха Никона из-за содержавшихся в нем указаний на подчиненное положение патриарха по отношению к царю. В дальнейшем митрополит Павел покаялся в своем упрямстве, но был подвергнут серьезному наказанию – отрешен от блюстительства патриаршего престола, и ему даже было временно запрещено совершать богослужения.
[Закрыть], чудовский архимандрит Иоаким, думный дьяк Иларион Иванов и другие. Морозова не пожелала отвечать перед этими людьми стоя и во всё время допроса сидела, несмотря на то, что ее пытались заставить отвечать стоя.
Хитрый, словно лис, митрополит Павел, обратившись к боярыне кротким и тихим голосом и называя ее «матерью праведною», стал напоминать ей о ее звании и происхождении. «И сие тебе, – говорил он, – сотвориша старцы и старицы, прелестившии тя, с ними же любовне водилася еси и слушала учения их, и доведоша тя до сего бесчестия, еже приведене быти честности твоей на судище». Потом он долго и многословно пытался убедить ее покориться царю, вспоминая и ее прежнее положение, и красоту ее сына, которого она не жалеет, ставя своим «прекословием» под угрозу не только свое имение, но и сыновнее.
На это Морозова отвечала «премудро»: «Несмь прельщена, яко же глаголете, от старцев и стариц, но от истинных рабов Божиих истинному пути Христову и благочестию навыкох, а о сыне моем престаните ми многая глаголати; обещах бо ся Христу моему, свету, и не хощу обещания солгати и до последнего моего издыхания, понеже Христу аз живу, а не сыну!»
Тогда никонианские архиереи ловко сыграли на личной ненависти царя к Морозовой и в споре о вере поставили вопрос ребром: «В краткости вопрошаем тя, – по тем служебником, по коим государь царь причащается и благоверная царица и царевичи и царевны, ты причастиши ли ся?» Морозова столь же прямо отвечала: «Не причащуся. Вем аз, яко царь по развращенным Никонова издания служебником причащается, сего ради аз не хощу!»
Павел Крутицкий задал последний вопрос: «И како убо ты о нас всех мыслиши? Еда вси еретицы есмы?» – на что Морозова без колебаний ответила: «Понеже он, враг Божий Никон, своими ересми, аки блевотиною наблевал, а вы ныне то сквернение его полизаете и посему яве яко подобии есте ему». Эти слова окончательно вывели из себя желавшего до того казаться кротким и смиренным митрополита. Он перешел на крик: «О что имамы сотворити? Се всех нас еретиками нарицает!» От него не отставал и пришедший в ярость чудовский архимандрит: «Почто, о архиерею Павле, нарицаеши ю материю да еще и праведною? Несть се, несть! Не бо Прокопиева дщи прочее, но достоит ю нарицати бесову дщерь!»
Морозова возражала Иоакиму: «Аз беса проклинаю! По благодати Господа моего Исуса Христа, аще и недостойна, обаче дщерь Его есмь!» Спор о вере во Вселенской палате Чудова монастыря продолжался восемь часов – от второго часа ночи до десятого!
После этого допрашивали княгиню Евдокию Урусову. Она вела себя столь же мужественно, что и сестра, и также не пожелала причаститься по новоизданным служебникам. После допроса Морозову снова на полотне отнесли домой и посадили в подклет, в котором она вместе с сестрой просидела два предыдущих дня. С нею посадили княгиню, заковав обеим ноги в кандалы.
Сидя в заточении, блаженная инокиня Феодора просила сестру: «Аще нас разлучат и заточат, молю тя, поминай в молитвах своих убогую мя, Феодору». Тогда Евдокия не поняла смысла этих слов, потому что до того они всегда были вместе, но старшая сестра предчувствовала, что вскоре их разлучат, и разлучат надолго.
Все попытки повлиять на сестер оказались тщетными. Наутро, 19 ноября 1671 года, к ним снова явился думный дьяк Иларион Иванов, их заковали в ошейники с цепями и повезли на санях по улицам Москвы. Морозова, перекрестившись и поцеловав свой железный ошейник, сказала: «Слава тебе, Господи, яко сподобил мя еси Павловы юзы [281]281
Цепи, одетые на шеи узниц, Морозова сравнивает с узами апостола Павла, в колодках посаженного в темницу, как об этом сообщают Деяния апостолов.
[Закрыть]возложити на ся». Власти хотели публично опозорить высокородных сестер, но их это не сломило. Позор их обернулся настоящим триумфом. За санями с боярыней-инокиней следовало множество народа (именно эту сцену запечатлел в своей гениальной картине В. И. Суриков). «Она же седши и стул близ себе положи (то есть тяжелую колоду, к которой были прикованы цепи. – К. К.).И везена бысть мимо Чюдова под царския переходы. Руку же простерши десную свою великая Феодора и ясно изъобразивши сложение перст, высоце вознося, крестом ся часто ограждаше, чепию же такожде часто звяцаше. Мняше бо святая, яко на переходех царь смотряет победы ея, сего ради являше себе не точию стыдетися ругания ради их, но и зело услаждатися любовию Христовою и радоватися о юзах» [282]282
Житие боярыни Морозовой // Жития протопопа Аввакума, инока Епифания, боярыни Морозовой. Статьи, тексты, комментарии. СПб., 1993. С. 122.
[Закрыть]. «Смотрите, смотрите, православные! – кричала она. – Вот моя драгоценная колесница, а вот цепи драгие… Молитесь же так, православные, вот сицевым знамением. Не бойтесь пострадать за Христа».
После этого сестер разлучили. Они были заточены по разным монастырям: Феодору поместили на подворье Псково-Печерского монастыря, а Евдокию – в Алексеевский девичий монастырь на Чертолье. [283]283
Первоначально монастырь был основан на Остоженке в 1358 году святителем Московским Алексием по просьбе своих сестер, Евпраксии и Иулиании. Это был женский монастырь с деревянной соборной церковью, где приделы были освящены во имя Зачатия и преподобного Алексия, человека Божия. После страшного пожара 1547 года царь Иван Грозный перевел Алексеевский монастырь ближе к Кремлю, к устью ныне закрытого в трубу ручья Черторыя – на Чертольский холм. С этого времени Алексеевский монастырь уже существовал в Москве самостоятельно, а на его прежнем месте на Остоженке осталась «малая обитель», в конце XVI века снова возобновленная как Зачатьевский женский монастырь. Любопытно, что именно здесь, в Алексеевском монастыре, приняла пострижение под именем Таисии жена будущего патриарха Никона, когда муж уговорил ее уйти в монахини и принял пострижение сам. Здесь же инокиня Таисия и была погребена на монастырском кладбище. В 1837–1838 годах, в царствование Николая I, в связи со строительством храма Христа Спасителя старинный Алексеевский монастырь был перемещен на Верхнюю Красносельскую улицу, а все его постройки, в том числе и уникальный двухшатровый храм, были разрушены.
[Закрыть]Подворье Псково-Печерского монастыря находилось в XVII веке в Белом городе, на Арбате (в районе теперешней Смоленской площади). В 1670 году оно было куплено у печерского архимандрита Паисия «с братьею» за 300 рублей Приказом Тайных дел и использовалось как место заточения. Морозова была, по-видимому, одной из первых узниц этой страшной тюрьмы.
Несмотря на «крепкую стражу», состоявшую из двоих сменявших друг друга стрелецких голов и десяти стрельцов, местонахождение боярыни Морозовой вскоре чудесным образом было открыто ее единомышленникам. Уставщица Елена Хрущева, [284]284
Елена Хрущева —уставщица кремлевского Вознесенского монастыря, духовная дочь протопопа Аввакума. После того как в монастыре стали служить по новым книгам, ушла оттуда и некоторое время жила в доме Ф. П. Морозовой. Она часто упоминается в посланиях протопопа Аввакума.
[Закрыть]скрывавшаяся в Москве вместе с другими инокинями и не имевшая никаких известий о Морозовой более недели, неожиданно встретила ее на подворье Псково-Печерского монастыря.
Встреча произошла 27 ноября, на праздник Знамения Пресвятой Богородицы. «Великой убо Феодоре исшедши на задней крылец, идеже исходят на нужную потребу, Елене же по улице той шедши – и тако Божиим мановением познастася. Бе же и на улице то место таковую же потребу имать, еже ходитту человекам на облегчение чрева. И ту стоящи Елена приближне и беседова с Феодорою, на высоте ей стоящи. И рече блаженная: «О возлюбленная ми Елено! ничто мене тако не оскорбило во днех сих, якоже разлучение ваше: ни отгнание из дому, ни царский гнев, ни властелское истязание, ни юзы, ни стража. Вся ми сия любезна о Христе, но зело ми тошно, еже более седмицы ни знаю, ни ведаю о вас. Господа ради, не покинте мене, не съежжайте с Москвы, будите ту, не бойтеся, уповаю на Христа, покрыет вас. Ниже бо о сродницех по плоти тако болезную, о вас же рыдая не престаю. Вся укреплящем мя Христе возможно ми суть, единого же сего до конца не могу терпети!»» [285]285
Повесть о боярыне Морозовой. С. 138.
[Закрыть].
Помещенная в Алексеевском девичьем монастыре, княгиня Евдокия Урусова также содержалась под «крепким началом», причем ее стражам приказано было насильно водить ее в церковь к новообрядческой службе. «Святая же таково мужество показа, яко всему царствующему граду дивитися храбрости ея, како доблествене сопротивляшеся воли мучительсте: не точию бо своима ногама никогда не восхоте, аще и велми нудима бе к пению их приити, но аще и на носиле влачаху ея рогознем (тако бо повелено бысть), то она не соизволяет еже и на носило возлещи сама. Но и здрава сущи к тому часу сотворит себе яко разслаблену и не могущи ни рукою, ни ногою двигнути. Старицам же, пришедшим и воздвизающим ю, бе иногда стужати, и даже до сего безстудствующи, еже святое оно и ангел олепное лице ея дерзостне заушити (ударить), рекущи: «Горе нам! Что можем с тобою сотворити? Сами бо видехом, яко в час сий здрава бе и беседова со своими весело; егда же мы приидохом, на молитву зовуще, тогда внезапу, яко омертве, нам велики труды творящи. Се бо превращаем, яко мертву и недвижиму»».
На это княгиня отвечала им кротко: «О старицы беднии! Почто труждаетеся всуе? Еда аз вас понуждаю труд сей творити? Но сами вы безумствующе всуе шатаетеся. Аз бо и вас зря, погибающих, плачюся – како же аз сама помыслю когда ити в собор ваш? Тамо у вас поют, не хваляще Бога, но хуляще Его, Спасителя, и законы Его попирающе». Но старицы клали княгиню на «носило», словно мертвое тело, и вопреки ее воле несли в соборную церковь на литургию.
Больше всего княгиню тяготило то, что она, хотя и невольно, принуждена была присутствовать на новообрядческой литургии. И сам факт ее присутствия там мог быть истолкован в Москве превратно – в том смысле, что она чуть ли не примирилась с реформированной никонианской церковью. Если княгиня замечала в монастыре кого-либо из своих знакомых из числа «верных», она обычно обращалась к носившим ее монахиням с притворным стоном: «Увы, утомихся! Станите мало!» Когда старицы опускали «носило» на землю, она нарочито громко продолжала: «Старицы! Что се творите, влачаще мя? Еда аз хощу молитися с вами? Никакоже, несть право, еже со отступлыиими закона Христова обще молитися нам, християном, но реку вам нечто: прилично убо, идеже ваше пение возглашается, тамо, на нужную потребу исходя, излишие утробное испражняти – тако бо аз почитаю вашу жертву!» [286]286
Там же. С. 137–138.
[Закрыть]
Тем временем подруга и единомышленница сестер (а в будущем и сопричастница их подвига) Мария Герасимовна Данилова задумала бежать из Москвы. Но кто-то донес об этом, и за нею была послана погоня. Ее захватили в Подонской стране и привезли в Москву. Здесь она была допрошена и исповедала свою приверженность старой вере и неприятие «новых догмат». За это ее бросили в подземелье под Стрелецким приказом. По мнению А. И. Мазунина, сообщение об аресте М. Г. Даниловой следует отнести к весне 1672 года: 22 апреля датирован царский указ об аресте «колодника» Иоакинфа Данилова. Этим именем – именем своего мужа – назвалась переодетая в мужскую одежду Мария Герасимовна. Поэтому ее держали в застенке вместе с другими заключенными мужчинами, и она «беду приимаше более обою сестр. Безстуднии воини пакости творяху ей невежеством».
Во время заточения Морозовой на подворье Псково-Печерского монастыря ее неоднократно навещал митрополит Иларион Рязанский, [287]287
Иларион (ум. 1678) – митрополит Рязанский и Муромский. С 1646 года архимандрит Макарьева Желтоводского монастыря, с 1656 года – Печерского Вознесенского монастыря под Нижним Новгородом. В 1657 году рукоположен в архиепископы Рязанские и Муромские, с 1669 года – митрополит той же епархии. Был суровым противником и гонителем старообрядцев. Известен также своим активным участием в Большом Московском соборе 1666–1667 годов, низложившем патриарха Никона. Иларион уличал Никона в неуважении к вселенским патриархам и в иных винах, а по окончании следствия громогласно прочел на русском языке приговор о низложении Никона. Против ожидания по окончании суда Иларион был в числе отказавшихся подписать акт низложения, так как в нем указывалось на подчиненность власти патриаршей власти царской. Убоявшись, однако, своей смелости, Иларион вместе с митрополитом Павлом Крутицким вскоре смирился. Некоторое время оставался под запрещением совершать церковную службу, но по принесении им полного раскаяния был прощен.
[Закрыть]пытаясь склонить непокорную боярыню к новой вере. «Она же тако мужественне с ним стязовашася, яко и вельми ему посрамлену бывати и безответну множицею отходити».
Ни тюремное заточение, ни «тяжкие железа» нисколько не тяготили Морозову. Наоборот, сама мысль о страдании за правую веру, о страдании за Христа наполняла ее душу сладостным умилением и совершенно преображала всю ее жизнь. Единственное, о чем она скорбела, – это о разлучении со своей духовной матерью и сестрами. Впрочем, и в заточении она продолжала вести с ними переписку. Она писала своей наставнице Мелании, сожалея о том, что не может, как должно, исполнять своего иноческого правила: «Увы мне, мати моя, не сотворих ничто же дело иноческаго. Како убо возмогу ныне поклоны земныя полагати? Ох, люте мне, грешнице! День смертный приближается, аз, унылая, в лености пребываю! И ты, радость моя, вместо поклонов земных благослови мне Павловы юзы Христа ради поносити. Да еще аще волиши, благослови мне масла кравия, и млека, и сыр, и яиц воздержатися, да не праздно мое иночество будет и день смертный да не похитит мя неготову. Едина же точию повели ми постное масло ясти».
Мать Мелания писала в ответ, благословляя Морозову «на страдание» в таких словах: «Стани доблествене страждуще о имени Господни, и Господь да благословит тя юзы Его ради носити, и поиди, яко свеща, от нас к Богу на жертву; о брашнех же вся прилучающаяся да яси» [288]288
Там же. С. 139.
[Закрыть].
Царь тем временем ни на минуту не забывал о высокородной узнице. Не раз на заседаниях Боярской думы ставился этот не дававший ему покоя вопрос: «Что бы ей сотворити за мужественое ея обличение»? Однажды был вызван брат Морозовой Феодор Прокопьевич Соковнин, которого долго расспрашивали о многом, связанном с его сестрами, особенно же о матери Мелании: «Повеждь ми – где Мелания? Ты вся тайны сестры своея свеси (знаешь)!» Но Феодор Прокопьевич ничего не сказал, чем навлек на себя царский гнев.
* * *
Вскоре на долю Морозовой выпало новое, еще более страшное испытание: ее сын Иван Глебович, совсем молодой юноша, после разлуки с матерью «от многия печали впаде в недуг… и так его улечиша, яко в малех днех и гробу предаша». Произошло это или в самом конце 1671 года, или в начале 1672-го. Судя по всему, он от рождения был болезненным ребенком, что явствует из слов протопопа Аввакума: «А Иван не мучитель был, – сам, покойник, мучился и света не видел вся дни живота своего… В муках скончался робя» [289]289
Житие протопопа Аввакума… С. 213.
[Закрыть]. Царь прислал к нему своих лекарей, ну а лекари в Аптекарском приказе в XVII веке были отменные, и уж что-что, а «залечить» умели!
Сообщить Морозовой о смерти сына был прислан «поп-никонианин», «нечестивый бескуфейник». Вместо слов утешения он пытался продолжать увещания несчастной узницы, утверждая, что свалившиеся на ее голову несчастья – есть наказание Божие за ее гордыню и непокорность «святой церкви». Этот «злоумный» человек «досаждал» Морозовой, приводя слова 108-го псалма, «реченные о Июде». [290]290
Вот эти слова, относящиеся, по толкованию Отцов Церкви, к предавшему Христа Иуде: «Постави нань (на него) грешника, и диявол да станет одесную его. Внегда судитися ему, да изыдет осужден, и молитва его буди в грех. Да будут дние его мали, и епископство его преимет ин. Да будут сынове его сиры, и жена его вдова. Движущеся да преселятся сынове его, и воспросят; да изгнани будут из домов своих. Да взыщет заимодавец вся елика суть его, и да восхитят чюждии труды его. Да не будет ему заступника, ниже будет иже ущедрит сироты его. Да будут чада его в пагубу, в род един, да потребится имя его. Да воспомянется беззаконие отец его пред Господем, и грех матере его да не очистится» (Пс. 108, 6–13).
[Закрыть]
Но Морозова не внимала этим безумным речам. Узнав о смерти любимого сына, боярыня зарыдала и «падши на землю пред образом Божиим, умильным гласом с плачем и рыданием вещаше: увы мне, чадо мое, погубиша тя отступницы!». И так, не вставая с земли, она не один час проплакала, «воспущающи о сыне си надгробныя песни, яко и инем слышащим рыдати от жалости»…
Редактор Дружининского списка Жития боярыни Морозовой, стремясь оживить ее суровый житийный облик, приводит надгробный плач матери над сыном. Этот плач очень напоминает народные севернорусские причитания по умершим, хотя здесь присутствуют, несомненно, и заимствования из литературных источников:
«Увы мне, увы! Утроба ми ся мятет, Иоанна ради! Увы мне, увы мне! Где убо и в коем месте умре сын мой? да шедши, седины своя растерзаю над телом его – аз есмь вина смерти твоей, чадо! Плачите ныне со мною, материю печальною, все матери сынов своих, яко единородный мой сын мене ради, злосчастныя, умре и бо не насладихся прекраснаго твоего видения, любезный сыне мой, не насытихся, дражайший мой, преслаткаго твоего гласа, всежаланная утроба моя! Плачу, плачу лишения твоего, крепкий подпоре старости моей! Се отныне не узрю тебе, пресладкий мой свете, и не объиму, ни облобыжу тебе, превозжеленное мое чадо, яко сын мой превозлюбленный чюжих человек руками во гроб полагается и землею покрывается. Рада бых я была, аще бы поне вместо драгаго тела принесл бы кто ризу Иоаннову, якоже древле принесоша братия от пустыни ризу Иосифову ко отцу его Иякову, а мне, многопечальной матери, никто не обрящется в милости щедрот Иосифовым братиям подобен – ни от своих сродник, ни от чюжих знаемых, иже бы кто поне малый ветхий и худый убрусец семо бросил в злосмрадную сию темницу: аз бы, многопечальная, растворила бы с радостию горкое мое рыдание, негли [291]291
Может быть ( церк. – слав.).
[Закрыть]бы от тово поне малую отраду получила» [292]292
Повесть о боярыне Морозовой. С. 198.
[Закрыть]…
Царь же Алексей Михайлович, говорится в Житии Морозовой, «о смерти Иванове порадовася, яко свободнее мысляще без сына матерь умучити». Да, теперь он мог легче расправиться с неугодной боярыней. При этом он выслал родных братьев боярыни Морозовой и княгини Урусовой – Феодора и Алексея Соковниных – подальше от Москвы: одного в Чугуев, другого в Рыбное (город Острогожск), якобы на воеводство. Всё это царь делал «от великой злобы на блаженную, мысляше, яко да ниоткуду же никако же никакова рука да не приближится, помогающи им в скорбех тех великих…».
После смерти Ивана Глебовича всё огромное морозовское имущество было роздано или распродано царем: «отчины, стада, коней разда боляром, а вещи все – златыя и сребряныя, и жемчужныя, и иже от драгих камений, – все распродати повеле». При разорении морозовского дома в стене нашли тайник, в котором находилось много золота. Однако значительную часть господского имущества, в том числе драгоценности, по повелению Морозовой припрятал ее слуга Иван. Выданный собственной женой, он был подвергнут жестоким пыткам, но так и не открыл тайны – «аки добрый раб и верный нелицемерне поревнова госпоже своей». Впоследствии он будет заживо сожжен в Боровске с прочими мучениками.
Первым свою долю имущества опальной староверческой семьи получил новый царский тесть – Кирилл Полуектович Нарышкин. 23 января 1672 года ему были даны три грамоты на земли, принадлежавшие ранее Глебу Ивановичу Морозову, а затем перешедшие к его сыну: поместья в Ряжском уезде (село Петровское, 100 четвертей) и в Рязанском уезде (2 сельца, 33 четверти), а также вотчина в Московском уезде (село Игнатовское, 209 четвертей). Ему же достались и личные вещи Морозовых – 26 сентября 1672 года по указу царицы Натальи Кирилловны был взят «из Стрелецкого приказа из животов Ивана Глебовича Морозова» «сундук кипарисной». 10 декабря царица пожаловала его своему отцу. Другие земли и имущество Ивана Глебовича пошли в раздачу думному дьяку Г. С. Дохтурову, боярину Б. М. Хитрово и головам московских стрельцов.
Одновременно были конфискованы и поместья мужа Марии Герасимовны Даниловой: 16 января 1672 года поместье Акинфия Данилова было отдано полуголове московских стрельцов Л. Изъединову. Об этом «именной великаго государя указ думному дьяку Герасиму Дохтурову сказал боярин Яков Никитич Одоевской». «В январе 1672 года положение боярыни Морозовой разом изменилось: сначала цепи вместо богатства, а затем и смерть единственного сына. Надеяться оставалось только на Бога. Государев гнев загнал Морозову в угол: для нее царская жестокость и насилие над ее религиозными принципами слились воедино; вера единственно и могла дать силы выстоять в постигшей ее беде» [293]293
Седов П. В. Закат Московского царства… С. 167.
[Закрыть].
Протопоп Аввакум, узнав о гибели своего духовного сына Ивана Глебовича, написал из пусто-зерского заточения Морозовой письмо. Он сумел найти самые нежные, трогающие душу безутешной матери слова:
«Увы, чадо драгое! Увы, мой свете, утроба наша возлюбленная, – твой сын плотской, а мой духовной! Яко трава посечена бысть, яко лоза виноградная с плодом, к земле приклонился и отъиде в вечная блаженства со ангелы ликовствовати и с лики праведных предстоит Святей Троицы. Уже к тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебе уже неково чотками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки неково погладить, – помнишь ли, как бывало? Миленькой мой государь! В последнее увидился с ним, егда причастил ево. Да пускай, Богу надобно так! И ты небольно о нем кручинься. Хорошо, право, Христос изволил. Явно разумеем, яко Царствию Небесному достоин. Хотя бы и всех нас побрал, гораздо бы изрядно! С Феодором там себе у Христа ликовствуют, – сподобил их Бог! А мы еще не вемы, как до берега доберемся» [294]294
Житие протопопа Аввакума… С. 216–217.
[Закрыть]…
После смерти Ивана Глебовича царь решил проявить «милосердие» и повелел дать Морозовой двух ее прежних служанок – Анну Амосовну и Стефаниду, прозываемую Гневой. Две эти добродетельные женщины с великою радостью снова стали служить своей боярыне. Княгиня же Евдокия хотя и не сподобилась подобной царской милости, нашла служанку в лице некоей боярской дочери Акилины Гавриловны, вызвавшейся добровольно прислуживать ей в заточении, а впоследствии постригшейся в иночество под именем Анисии.
Мария Данилова в это время «беду приимаше более обою сестр»: бесстыдные стражи подвергали ее всяческим издевкам и унижениям, «пакости творяху ей невежеством». Приходили к ней для увещания и попы никонианские, «и много ее смущающе и укоряюще яко раскольницу». Однажды к ней пришли «яко бес со дияволом, сиречь поп со дияконом» и принуждали ее перекреститься тремя перстами. «Они же, обесстудившеся, яко же пси, приближившеся, окаяннии, начаша персты ея ломати, складовающе щепоть». Но Мария отвечала им: «Несть се крестное знамение, но печать антихристова!» В ответ они начали в таких непристойных словах хулить двоеперстие, что остается только удивляться их болезненной и извращенной фантазии… «Тако бо злочестивии умеюще лаяти!» – говорит автор Жития Морозовой об этих «служителях алтаря» [295]295
Повесть о боярыне Морозовой. С. 140.
[Закрыть].
В том же 1672 году страдавшая в темнице «в юзах и за крепкою стражею» Морозова сподобилась великого утешения – причастилась Тела и Крови Христовых из рук священноинока Иова Льговского. [296]296
рода Лихачевых. Постриженник и ученик знаменитого архимандрита Троице-Сергиевой лавры Дионисия Зобниновского. Некоторое время был келейником патриарха Филарета. После смерти патриарха Иоасафа был одним из кандидатов в патриархи. Основал несколько монастырей (первый еще во время Смуты, близ города Льгова, последний, старообрядческий, – на притоке Дона реке Чир в 1670-х годах).
[Закрыть]
Вот как это произошло. «Бысть же дивно. Понеже у нея на карауле един голова милостив к ней зело, молит его святая, рекущи: «Егда бех в дому моем, во едином от сел наших служаше некий священник, старый сый, и бяше милость наша к нему. Ныне же слышах, яко зде он. Жаль ми его, старости ради. Аще есть твоя милость к нашему убожеству, повели, да призову его!» И повеле. И прииде старец святый ко святей мученице, яко Варлаам ко Иосафу, безценный бисер подати белецким образом. И грядущу ему в сенех и сам голова, востах, поклонися ему. И сподобив мученицу прияти Тело и Кровь Христову, и отиде. Толико же умилися блаженный старец, зря великое страдание великия госпожи, яко последи невозможно ему без слез воспомянути ея» [297]297
Там же.
[Закрыть].
Тогда же произошло еще одно чудо. Сестры Феодосия и Евдокия, не видевшие друг друга долгое время, «вожделеста в жизни сей видетися в лице и побеседовати». Обе они усердно молились Богу, чтобы Он послал им это утешение. И молитва их была услышана. Однажды княгиня Евдокия обратилась к прислуживавшей ей Акилине: «Госпоже, ты веси болезнь детскую? И се аз оставих их Христа ради – аще обретох благодать пред тобою – пусти мя в дом мой, яко да целовав их и утешив и сама утешуся, и прежде вечера паки возвращуся дозде. А никто же не возможет уведети вещь сию, точию ты и аз. А возможе по сему быти, аще восхощеши точию помиловати мя: се бо днесь полудневная година, игумения в гостех и старицы разыдошася, и людей на монастыре мало, а аз, фатою покрывшеся, пройду, и никто же узнает мя». Акилина отпустила княгиню, но, опасаясь за свою жизнь, сказала, чтобы та оставила в келье любимый ею образ Богородицы: «Вем аз, како ты любиши образ Владычицы нашей. Остави ми его зде и иди с миром, и вем, яко она, помощница, возвратит тебе семо».
Когда княгиня шла одна по Москве, на пути ей встретились некие «злые люди», которые стали кричать: «Держите ее, она беглая!» Но Урусова не растерялась и смело им отвечала. По дороге она встретила Елену Хрущеву и вместе они дошли до Печерского подворья. Морозовой сообщили о приходе сестры, и тогда она послала свою служанку Анну Амосовну, которая поменялась одеждой с княгиней Евдокией, и та свободно прошла мимо караульщика в монастырь.
Радости сестер не было границ! Они беседовали весь день и никак не могли наговориться… Однако вскоре о случившемся узнали охранники, которые подняли шум. Феодосии едва удалось умолить стрелецкого голову заставить их замолчать. Голова приказал гостье остаться ночевать у сестры и обещал ночью тайно ее выпустить. «Святии же нощь тую всю ликоваху, беседующе», а на рассвете Евдокия в сопровождении Елены Хрущевой ушла обратно в свой монастырь.
К княгине Евдокии Урусовой в Алексеевский монастырь неоднократно приезжал ее двоюродный дядя Михаил Алексеевич Ртищев. Стоя у окна, он говорил ласковым голосом: «Удивляет мене ваше страдание, едино же смущает мя: не вем, аще за истину терпите?»
Приезжало и множество «вельможных жен» и простых людей посмотреть на необычное зрелище – как княгиню на носилках несут в церковь на литургию. Среди «вельможных» было немало сочувствующих, безмерно удивлявшихся такому мужественному стоянию в вере и переживавших за княгиню, словно за свою сродницу. Игуменья Алексеевскою монастыря пребывала в смятенных чувствах: с одной стороны, сердце ее наполнялось жалостью, когда она вспоминала, какого высокого положения лишилась ее высокородная узница, а с другой – мысль о том, что «сие влачение паче ей к прославлению», вызывала в ней бурю негодования.
Одержимая такими помыслами, игуменья пришла к тогдашнему патриарху Питириму [298]298
Питирим(ум. 1673) – патриарх Московский и всея Руси (1672–1673). Был постриженником Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. С 1650 года – архимандрит этого монастыря. В 1654 году переведен в Московский Новоспасский монастырь. 2 декабря 1655 года патриархом Никоном поставлен в митрополиты Сарские и Подонские и фактически исполнял роль управляющего делами при патриархе. Когда Никон оставил патриарший престол, Питирим в качестве митрополита Сарского стал исполнять его обязанности, но без титула патриаршего местоблюстителя; действовал без сношений с Никоном, но «по государеву цареву указу». В 1662 году, в Неделю православия, был торжественно анафематствован Никоном. 5 августа 1664 года митрополит Питирим был избран «на высочайшую степень великого Нова Града и Великих Лук митрополита». Во время суда над Никоном являлся одним из злейших врагов и грубейших обвинителей патриарха, надеясь, очевидно, занять после свержения Никона патриарший престол. Это ему не удалось; патриархом был избран Иоасаф. Только 7 июля 1672 года Питирим был возведен на патриарший престол, будучи уже весьма больным. После десятимесячного, ничем особым не примечательного патриаршества 19 апреля 1673 года Питирим скончался.
[Закрыть]и рассказала о том, что происходит во вверенном ей монастыре. Рассказала не только о княгине Урусовой, но и о ее сестре. Недавно поставленный патриарх еще не знал всех обстоятельств дела Морозовой и Урусовой. Он обещал игуменье, что поговорит об этом деле с царем.
При встрече с Алексеем Михайловичем патриарх Питирим напомнил ему о томившихся в заточении сестрах Феодосии и Евдокии. «Аз, – сказал он, – тебе, государю, советую боляроню ту, Морозову вдовицу, кабы ты изволил паки дом ея отдати ей и на потребу ей дворов бы сотницу християн дал, а княгиню ту тоже бы князю отдал, так бы дело то приличнее было; женское бо их дело, что они много смыслят?»
На это царь отвечал: «Святейший владыко, аз бы давно сие сотворил, но не веси ты лютости жены тоя. Аз бо, како ти имам поведати, елико ми ся поруга и ныне ругается Морозова та. Кто ми такова злая сотвори, яко же она? Многи бо ми труды сотвори и велия неудобства показа. И аще не веруеши словесем моим, то изволи искусити собою вещь и призвав ю пред ся – вопроси. И тогда увеси крепость ея; и егда начнеши ю истязати – тогда вкусиши пряности ея. И потом что повелит твое владычество, то и сотворю и не ослушаюся отнюд словесе».
И вот в одну из зимних ночей 1673 года, во втором часу ночи, Морозову разбудили, не расковывая, посадили на дровни и в сопровождении сотника повезли в Чудов монастырь. Здесь ее отвели во Вселенскую палату, где уже находились патриарх Питирим, митрополит Павел Крутицкий и другие «духовные власти» и «градские начальники».
Морозова предстала перед сонмищем своих мучителей с железными оковами на шее. Допрос продолжался около семи часов…
«Дивлюся аз, – говорил ей патриарх Питирим, – яко тако возлюбила еси чепь сию и не хощеши с нею и разлучитися». – «Воистинну возлюбих, – рад остным голосом отвечала Морозова, – и не точию просто люблю, но ниже еще насладихся вожделеннаго зрения юз сих. Како бо и не имам возлюбити сия? понеже аз, таковая грешница, благодати же ради Божия сподобихся видети на себе, купно же и поносити Павловы юзы, да еще за любовь единороднаго Сына Божия!» Тогда патриарх сказал: «Доколе имаши в безумии быти?.. Доколе не помилуеши себе, доколе царскую душу возмущаеши своим противлением? Остави вся сия нелепая начинания и послушай моего совещания, еже, милуя тя и жалея, предлагаю тебе: приобщися соборней церкви и росийскому собору, исповедався и причастився». «Некому исповедатися, – отвечала блаженная, – ниже от кого причаститися… Много попов, но истиннаго несть».
Патриарх продолжал: «Понеже велми пекуся о тебе, аз сам на старости понуждуся исповедати тя и потрудитися – отслужа, сам причащу тебе». На это Морозова возражала: «И что ми глаголеши, еже сам? Аз не вем, что глаголеши. Еда бо разньство имаши от них? еда не их волю твориши? Егда бо был еси ты митрополитом Крутицким и держался обычая христианского, со отцы преданнаго нашея Русския земли, и носил еси клобучок старой – и тогда ты нам был еси отчасти любим. А ныне, понеже восхотел еси волю земнаго царя творити, а Небесного Царя и Содетеля своего презрел еси, и возложил еси рогатый клобук римскаго папы на главу свою, и сего ради и мы отвращаемся. То уже прочее не утешай мене тем глаголом, еже аз сам, ниже бо аз твоей службы требую».
Тогда Питирим сказал своим архиереям: «06-лецыте мя ныне во священную одежду, яко да священным маслом помажу чело ея, яко негли приидет в разум; се бо, яко же видим, ум погубила есть». «Так как старообрядцы отвергли, считая нечистым, всё то, что шло от официальной церкви – обряды, таинства, благословение, то стало уже обычаем их к этому принуждать» [299]299
Паскаль П. Указ. соч. С. 508.
[Закрыть].
Когда патриарха облачили в священнические одежды, принесли освященное масло и спицу, омоченную в масло, он попытался приблизиться к Морозовой, с тем чтобы помазать ее. До этого момента она не стояла на ногах, так что ее всё время должны были поддерживать сотник и еще один стражник. Теперь же, увидев идущего к ней патриарха, она твердо встала на ноги и «приготовися, яко борец». Митрополит Крутицкий протянул руку, пытаясь приподнять треух на голове Морозовой, чтобы патриарху было удобнее помазать ее маслом. Боярыня с силой оттолкнула митрополичью руку и сказала: «Отиди отсюду!.. Почто дерзаеши и неискусно хощеши коснутися нашему лицу? Наш чин мошно тебе разумети!»
Патриарх макнул спицу в масло и протянул руку, пытаясь начертать крест на челе боярыни. Она же, «яко храбрый воин, вельми вооружився на сопротивоборца», протянула свою руку вперед, отстраняя протянутую к ней руку Питирима со спицей, со словами: «Не губи мя, грешницу, отступным своим маслом!» И позвенев своими кандалами, продолжала: «Чего ради юзы сия аз, грешница, лето целое ношу? Сего бо ради и обложена есмь юзами сими, яко не хощу повинутися, еже приобщити ми ся вашему ничесому же. Ты же весь мой недостойный труд единым часом хощеши погубити. Отступи, удалися! Не требую вашея святыни никогда же!»
Услышав такие слова и поняв, что миссия его провалилась, патриарх пришел в ярость и закричал: «О исчадие ехиднино! Вражия дщи, страдница! [300]300
«Страдником» на Руси в XIV–XV веках назывался холоп, находившийся на барщинных работах в хозяйстве феодала. Впоследствии слово это стало обозначать также человека незнатного происхождения, «худородного».
[Закрыть]» Уходя из Вселенской палаты и «ревый, яко медведь», он приказал своим слугам: «Поверзите ю долу, влеките нещадно! И яко пса за выю влачаще, извлецыте ю отсуду! Вражия она дщерь, страдница, несть ей прочее жити! Утре страдницу в струб!» Морозова отвечала тихим голосом: «Грешница аз, но обаче несть вражия дочь (то есть дьяволова. – К. К.), не лай мя сим, патриарх: по благодати бо Спасителя моего Бога Христова есмь дщерь, а не вражия. Не лай мя сим, патриарше!»