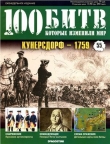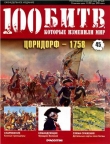Текст книги "Дорога на Берлин"
Автор книги: Кирилл Осипов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Глава четвертая
Конец войны
1
Когда воцарился Петр III, в Берлине вздохнули свободно. Россия заключает военный союз, посылает вспомогательный корпус, – чего ж лучше! Казалось, вдруг предстала возможность повернуть колесо фортуны!
Но прошло недолгое время, и Петр III сошел со сцены.
– Parbleu! Он дал свергнуть себя, точно ребенок, которого отсылают спать! – в бессильной ярости кричал король.
Корпус Чернышева отозван, военный союз расторгнут. Видимо, правительство Екатерины II возобновит войну, а ресурсов больше нет. Все израсходовано. Пруссия бедна, как церковная мышь. Не на что больше нанимать ландскнехтов. Немецкие князья не верят больше в долг; они предпочитают продавать своих рекрутов, схваченных во время облав, в заморские страны, которые платят наличными. Ландграф Гессенский продал Англии для посылки в Америку семнадцать тысяч солдат за три миллиона фунтов стерлингов, не считая вознаграждения за убитых и раненых. Где же Пруссии достать такие деньги! Она и без того вся в долгах. По пословице – в долгу, что в море: ни дна, ни берегов.
Нет даже маленьких утешений, помогающих сносить большую неудачу: не стало Тотлебена, так ревностно служившего Пруссии, нет больше Пальменбаха.
Король стал неузнаваем. Щеки его ввалились, кожа на лице посерела. Куда девалась его былая ироническая шутливость! Всегда злой, придирчивый и жестокий, он был теперь настоящим пугалом для своих приближенных. Он не писал более экспромтов. Если ему случалось провозгласить философскую сентенцию, то это всегда была мрачная философия, горькая, поздняя мудрость промотавшегося игрока.
– Проводить весь век в тревогах – значит не жить, а умирать по нескольку раз в день, – сказал он как-то Варендорфу.
Тот посмотрел на него с угрюмым сочувствием и отвел взгляд. Фридрих понял: Варендорф винит во всем его самого. Что же, может быть, он и прав.
Иногда его схватывал внезапный пароксизм лихорадочной деятельности. Он писал указы, устраивал смотры, составлял фантастические планы, в которые и сам не верил. Он объявил общий набор в армию пруссаков, способных носить оружие. Он насильно записывал в полки пленных, заставляя их приносить присягу. Вербовщики Колигнона наводнили все немецкие государства. Были разработаны новые уставы. Впредь запрещалось открывать по неприятелю картечный огонь с дистанции в шестьсот шагов, как то обычно делали прусские бомбардиры; требовалось подпустить неприятеля на полтораста шагов.
Но вскоре энергия короля угасла. Где уж было требовать стрельбы на полтораста шагов, когда его солдаты с каждым днем сражались все хуже! Обещание награды потеряло силу, так же как и угроза наказания. Точно в самом воздухе носились зачатки неверия и сомнения, тяжелое и грозное предчувствие катастрофы.
Он и сам так думал. Он был уже не тот, что прежде; всегдашняя кичливая самоуверенность покинула его. Однажды ночью, в минуту откровенности с самим собой, он записал: «В молодости я был ветрен, как жеребенок, и вдруг стал медлителен, как Нестор. Правда, я и поседел за это время, высох с горя, изнурен немощами, – словом, годен разве на то, чтобы меня бросили собакам».
– Je suis bien pour être jete aux chiens, – повторил он по-французски последнюю фразу.
Повидимому, это чувствовали все. Генералы, недавно дрожавшие при звуке его голоса, теперь нередко дерзили ему. То и дело кто-нибудь из них под благовидным предлогом просил командировать его за границу. Король злобно сознался себе: они, как крысы с тонущего корабля, стараются заблаговременно убежать.
Пруссия – корабль! И корабль этот тонет. Но самое плохое то, что он, кормчий, должен также пойти ко дну. Больше того: многие винят именно его в том, что случилось. И, чорт побери, может быть, они правы.
Как все хорошо шло вначале! Силезия, Саксония… Где и чего он не сумел? О, если бы успех вновь склонился на его сторону! Он бы уж не выпустил его из рук. Он бы согнул в бараний рог и тех, кто против него, и тех, кто стоят теперь в стороне. Стоят – и, наверное, со скрытым злорадством смотрят на его затруднения.
«Нет большего наслаждения, чем смотреть с берега на тонущий корабль». Это сказал Лукреций Кар. Римлянин хорошо знал человеческую натуру. Если даже не радуешься тому, что другой тонет, то приятно сознание собственной безопасности. Над ним занесен меч, в его столицу, должно быть, скоро ворвутся опять русские полки, загрохочет их артиллерия, замелькают быстрые казачьи кони… О, чорт! Конечно, на это приятно смотреть со стороны.
Недавно в лагерь явился силезский дворянин, барон Варкоч. Уверял, что жаждет служить под его знаменами, рассыпался в изъявлениях преданности. Но в один прекрасный день егерь-курьер случайно услышал разговор: за сто тысяч червонцев барон обязался похитить прусского короля и передать его в руки австрийцев. Варкоч успел скрыться. «А жаль, – думает с усмешкой Фридрих. – Пожалуй, это был бы лучший исход: пусть бы уж без меня расхлебывали кашу».
Однажды к Фридриху явился полковник Шиц. Такой же вылощенный, подтянутый, свежевыбритый… «Вероятно, если меня свергнут, он не очень будет огорчен», подумал неприязненно король.
– Ваше величество! По долгу службы сообщаю, что за последнее время здоровье бывшей придворной танцовщицы Барберины внушает опасения. Она кашляет кровью и почти не встает.
Барберина! Он совсем уж забыл о ней.
И вдруг ему в голову приходит мысль. А что, если послать ее к Гоцковскому за деньгами! Прусские купцы категорически отказались ссужать его впредь. Говорят, что они сами разорены войною. Он испробовал все меры – тщетно! Но деньги у них, конечно, есть. И Гоцковский мог бы…
– Приведите ее завтра сюда! – приказывает он.
На следующий день Барберину приводят. В этот раз ее приодели: темное платье, грубые, но целые башмаки. Король угрюмо смотрит на нее. Как мало походит эта бледная, изможденная женщина со впалыми щеками и лихорадочным блеском запавших, усталых глаз на прежнюю красивейшую даму Берлина. Надо полагать, что теперь она пообломалась.
– Я хочу дать вам поручение, мадам, – приступает он прямо к делу. – Если вы его успешно выполните, я немедленно освобожу вас, и вы сможете уехать в свой родной Марсель. Если вы откажетесь, ваше положение останется неизменным, и тогда… гм… вряд ли вам придется увидеть следующее лето. Кажется, я говорю достаточно ясно. Выбирайте.
Женщина стояла, опершись обеими руками о стол, свесив голову: видно было, что ей трудно держаться на ногах. Когда король замолчал, она медленно подняла на него взгляд.
– Что же мне выбирать? Между смертью и жизнью? Я теперь не очень ценю жизнь, но и смерть меня не прельщает. Какой услуги вы ждете от меня и что вообще могу я сейчас сделать, такая, какой я стала… вернее, какой вы меня сделали?
– Сударыня, – возразил с досадой Фридрих, – вы сами повинны в своей участи и не должны роптать на меня.
– О, конечно! – горько улыбнулась Барберина. – Разве можно роптать на вас? Может быть, мне следует благодарить вас?
– Боюсь, что мы опять не сговоримся с вами. Вспомните, что вы имели однажды возможность выйти из тюрьмы, и сами обрекли себя.
– Ах, да! Вы хотели, чтобы я стала покорной, забитой, так те несчастные создания, которых я столько насмотрелась в ваших тюрьмах. Но я – не они! Вы можете снова запереть меня в тюрьму, но душу мою вы не получите.
Она закашлялась тяжким, надрывным кашлем. На губах у нее проступили кровавые брызги. Фридрих, морщась, посмотрел на нее и отступил несколько шагов назад.
– Хорошо! Не стоит говорить об этом. Вы упрямы – тем хуже, а в данном случае тем лучше! Я хочу послать вас в Берлин, к Гонковскому. Вы передадите ему мое письмо, в котором я прошу ссудить мне миллион талеров. Если эта ссуда будет мне предоставлена, вас там же, в Берлине, отпустят на все четыре стороны… с условием, впрочем, что вы не останетесь в Пруссии, так как при вашей манере разговаривать…
– О, беспокойтесь, ваше величество! В Пруссии я не останусь ни одной минуты.
Она снова закашлялась и долго не могла перевести дыхание.
– Шиц! – сердито крикнул Фридрих.
На пороге тотчас вырос полковник и, поджав губы, укоризненно посмотрел на задохнувшуюся в припадке кашля женщину.
– Вы поедете в Берлин с мадам Барбериной. Инструкции я пришлю вам вечером. – Король повернулся и пошел к двери, ведущей в его кабинет. Уже выходя из комнаты, он бросил последний взгляд на Барберину, вытиравшую рукавом платья выступивший у нее на лбу пот. – Прощайте, сударыня! В ваших интересах добиться согласия Гонковского. Прежде он дал бы его, потому что вы ему нравились, а теперь, надеюсь, даст его из жалости к вам.
Губы Барберины дрогнули.
– Меня хоть жалеют. Пожалеет ли кто-нибудь о вас, Ваше величество?
Но короля уже не было в комнате. Только Шиц слышал эти слова и сердито шагнул к женщине.
– С ума вы, что ли, сошли? Или вам еще не довольно? Пойдемте-ка поскорее, раз уж король отсылает вас в Берлин. Чорт возьми! Я бы не сделал этого.
Через две недели Фридрих получил извещение о том, что берлинское купечество предоставляет ему миллион талеров.
– Сходная цена за освобождение сумасбродной француженки, – пробормотал он про себя.
Мысленно он уже прикидывал, сколько полков можно экипировать на эти деньги и тем самым отсрочить окончательное поражение. Отсрочить, но не отстранить его вовсе! Когда начнется новое наступление русских войск, все будет кончено. Корабль пойдет ко дну. И он тоже.
Фридрих вынул бутылочку с ядом и долго рассматривал на свет ее содержание. Это – единственное, что ему остается.
2
То, чего так опасался прусский король, не произошло: Екатерина не возобновила войны, прекращенной ее покойным мужем. Русские полки не двинулись снова к Берлину, уже замершему в напряженном ожидании.
В своих записках Екатерина перечислила много причин, продиктовавших ей такое решение. Она отметила, что финансы государства были совсем расстроены: ежегодный дефицит достигал 7 миллионов, за военные поставки не было уплачено 13 миллионов, обращавшиеся в стране 60 миллионов рублей представляли собой монеты двенадцати разных весов – серебряные от 82-й пробы до 63-й и медные от 40 рублей до 32 рублей в пуде. Попытка заключить в Голландии двухмиллионный заем окончилась неудачей. В целях, изыскания средств таможни были отданы за 2 миллиона рублей на откуп, и почти все отрасли торговли отданы в монополию частным лицам. И все-таки армия получала жалованье очень неаккуратно.
Но главная причина была не эта. Главное, что тревожило императрицу, были крестьянские волнения. До пугачевской грозы оставалось еще свыше десяти лет, но уже слышались первые раскаты грома. В именьях вспыхивали бунты, по усадьбам пускали «красного петуха». Крестьяне не исполняли приказов начальства, даже указов сената; вошло в поговорку ждать «третьего указа», так как два первых оставались безрезультатны. Сенат был завален делами о крестьянских волнениях. Он слушал их не в экстракте, а целиком, и, например, дело о выгоне в городе Мосальске читалось шесть недель сряду.
В первые месяцы после воцарения Екатерина испытывала острую неуверенность в прочности достигнутой власти. Поэтому возобновление трудной, дорого стоившей войны не было в ее интересах.
Притом правительство считало, что основная задача уже решена: истощенная войной Пруссия, подобно змее, у которой вырвали жало, надолго перестала быть опасной.
Война для России была окончена. Находившиеся в Восточной Пруссии русские войска, при Петре III сдавшие власть прусским чиновникам, но после свержения Петра, опять водрузившие повсюду русский герб, окончательно покинули область. В августе 1762 года старый фельдмаршал Левальдт, губернатор Восточной Пруссии, вернулся после четырехлетнего перерыва в свои владения.
Конечно, не было больше и речи о затевавшейся Петром III войне с Данией; спор о Голштинии был быстро и легко разрешен.
Тому, что не придется сражаться за Голштинию, все были очень рады. Но отказ от дальнейшей борьбы с немцами вызвал открытое возмущение. Гвардия, пехотные полки, дворянство, обыватели городов – все объединились в этом, всем была равно ненавистна Пруссия и то, что исходило оттуда. Находившийся еще в Петербурге представитель Фридриха, Гольц, просил короля немедленно отозвать его. Прусские артиллеристы, выписанные Петром III, не решались высунуть носа на улицу из боязни, что толпа растерзает их.
Однако Екатерина, желая сосредоточить все усилия, чтобы укрепиться на троне, не последовала общему желанию. Россия вышла из войны, и это предрешило общее окончание ее. В феврале 1763 года был утвержден мирный договор между Пруссией и Францией, а несколькими днями позже – между Пруссией и Австрией. В территориальном отношении карта Европы не претерпела изменений; захваченную в 1756 году Саксонию Фридрих вернул Австрии.
Тем не менее война, почти семь лет гремевшая в Европе, оставила глубокие последствия. Ослабленная войной Австрия и лишившаяся отнятых Англией заморских колоний Франция значительно потеряли свое влияние. Еще более пагубные результаты имела война для Пруссии. Офицер прусской службы Архенгольц так описывал состояние фридриховских владений:
«Целые округи были опустошены, в других были прерваны торговля и ремесла. Вся дальняя Померания и часть Бранденбурга уподоблялись пустыне. Другие области не дошли еще до столь гибельного положения, но в них или совсем не находилось жителей, или не было мужчин. Во многих провинциях женщины пахали поля, в других нельзя было найти даже плугов. Дикие американские пустыни Огио и Ориноко представляли верную картину полей Германии. Один офицер, проехавший семь деревень в Гессене, нашел в них только одного человека, который нарыл бобы, чтобы пообедать».
Так выглядела Пруссия после войны, в которую вовлек ее ненасытный ее король.
– Посмеялась лиса мужику, кур покравши, да посмеялся и мужик лисе, шкуру снявши, – говорили между собой русские солдаты, проходя по обезлюдевшим прусским деревням.
Семилетняя война закончилась неожиданно. Стечение благоприятных для Фридриха исторических обстоятельств дозволило ему сохранить на голове корону, а Пруссии – избежать полного разгрома. Однако русская кровь была пролита в этой войне не напрасно. Семилетняя война явилась свидетельством военной мощи России, выдвинула ее в ряд влиятельнейших европейских держав. Эта война явилась источником для дальнейшего бурного роста политического влияния России, для ее блистательных войн во второй половине XVIII века.
Прошло столетие. Гениальный мыслитель, касаясь Семилетней войны, написал, что по окончании ее «лицом к лицу с… распадающимися пограничными странами, с… великими державами…, запутавшимися в бесконечных распрях, постоянно старающимися перехитрить друг друга, – лицом к лицу с ними стояла единая, однородная, молодая, быстро растущая Россия, почти неуязвимая и совершенно недоступная завоеванию».
Эти слова Энгельса могут служить эпитафией тем, кто в тяжкую годину, живя в неустроенной, закрепощенной России, сражаясь зачастую без хороших командиров, утвердили на полях Пруссии честь русского оружия и достоинство своего народа.
Глава пятая
Мирович
Война была закончена, но жизнь в стране, подобно выплеснувшейся из берегов реке, не входила в прежнее русло. По кривым улочкам городов, по зеленым просторам полей, по усадьбам и селам струились слухи, один другого удивительней, один другого чудесней. Говорили, что пора дать мужикам волю, что сидит в государевой крепости за тридевятые замками законный император, которому когда-то присягали, и он, мол, не обошел бы простых людей, если б ему оказаться на троне.
Откуда пошли эти толки, никто не знал. Но приближенные Екатерины всполошились.
В первые дни после свержения Петра III предполагалось заточить его в Шлиссельбургскую крепость.
В связи с этим решено было перевезти Ивана VI в другое место. Стороживший нецарствовавшего императора генерал-майор Савин получил указ: «Ежели можно того же дня, а по крайней мере на другой день, имеете безымянного колодника, содержащегося в Шлиссельбургской крепости под вашим смотрением вывезти сами из оной в Кексгольм».
Было около полуночи, когда Савин, исполняя приказ, выехал с колодником и двенадцатью солдатами из Шлиссельбурга. Путь в Кексгольм лежал через Ладожское озеро. Дул свирепый ветер. Черные волны вспухали на поверхности озера, вздувались у бортов рябчика и щерботов [47]47
Типы тогдашних гребных судов.
[Закрыть], обдавая холодными брызгами всех находившихся в этих суденышках.
Иван, сидя на корме за занавеской, притих и, вцепившись в мокрую скамью, вглядывался в непроглядную темь ночи, изредка прорезавшуюся полыхавшими молниями. Он не испытывал страха; впервые в жизни был он близок к природе, и эти несколько часов заслонили в его воображении двадцать лет заточения в четырех стенах. Солдаты забыли о нем и громко роптали:
– Погибать приходится! Вишь, как пророк Илия гремит. В экую непогодь по Ладоге рази мыслимо ездить!
– Из-за дурачка всем пропадать, видно. Сдался он начальству…
– Молчать! – заорал Савин. – Еще раз услышу, так всю шкуру на берегу спущу.
Он подкрепил свои слова длинным ругательством, ко не успел докончить его. Набежавшая мощная волна швырнула рябчик на внезапно возникшую из темноты скалу. Послышался оглушительный треск; дно рябчика раскололось, в пробоину шумно хлынула вода.
– На берег! – закричал Савин. – По каменьям прыгай! Тут саженей шесть будет, не больше. За арестанта головой отвечаете, черти. Да щерботы кличь, пущай тоже высаживаются.
Солдаты боязливо совали ноги в холодную бурливую воду. Один из них тронул за плечо Ивана.
– Вылазь, кум. Не чуешь нешто: смертушку встречаем…
Иван спокойно поднялся, но в тот же миг Савин, хлюпая ногами по заливавшей лодку воде, подскочил к нему:
– Постой, постой! Вяжи ему голову, чтоб лица видно не было.
Солдаты оторопели.
– Чего уж тут вязать, вашество? – сказал один из них. – Все, может, сейчас у бога в раю будем.
Санин вместо ответа обернул вокруг головы Ивана кусок темной материи.
– Как же по каменьям в эту темь с завязанными глазами лазать? – ворчали солдаты.
Савин выругался.
– Бери его за руки и за ноги и волоки тако на берег.
Вспыхнула ослепительная молния, яростно ударил гром. Низко нависшая туча прорвалась потоками ливня. Солдаты последними ударами весел подвели суденышко поближе к берегу и с решимостью выбросились за борт, сразу погрузившись в воду по горло. В тот же момент Савин толкнул колодника; тот с легким возгласом, в котором сквозило скорее изумление, чем испуг, упал в расступившиеся под ним волны. Его тотчас подхватили солдаты и поволокли к берегу. Иван ощупью перебирал ногами; мокрая повязка тяжело стягивала лоб и затылок; почувствовав под ногами гальку, он удовлетворенно замычал и, опираясь на руки своих провожатых, вскарабкался на сушу. Дождь лил не переставая; сгрудившиеся солдаты остервенело бранились.
– Кто край знает? – спросил выбравшийся из воды и отряхивавшийся Савин. – Какая деревня тут ближайшая будет?
– Морья, – ответил кто-то. – До нее, почитай, версты четыре.
– Пойдем: нам торопиться нужно. Да гляди у меня, чтобы лицо у колодника закрыто было; ежели замечу непорядок, всех перепорю, сукиных детей!
Только через десять дней добрались до Кексгольма. Савин сутки шнырял по городу, отыскивая подходящий дом. Ивана перевезли туда в закрытой карете. Дом окружили наборами, расставили посты, понастроили частоколов, а тут из столицы пришел новый указ: «Вывезенного вами безымянного арестанта из Шлиссельбурга паки имеете отвезти на старое место в Шлиссельбург».
Савин даже плюнул с досады и помчался в Петербург выяснить, что за притча приключилась.
Там он узнал, что Петра III постигла внезапная смерть и в связи с этим колодника возвращают на старое место.
…Для Ивана VI опять потекли однообразные, унылые дни. В его бедном, ущербном уме гнездилась теперь уверенность в том, что он всеми забыт и обречен навеки остаться в крепости. Бродя по узкому тюремному дворику, в котором даже солнечные лучи казались тусклыми и чахлыми, он не раз задавал себе вопрос: есть ли хоть одна живая душа, интересующаяся им?
Как удивлен был бы он, узнав, что прусский король теперь энергичнее, чем когда бы то ни было, требует от своего агента организации бунта, чтобы посадить его на престол! И еще больше выросло бы его удивление, если бы он узнал, что человек, которому поручено освободить его из-под стражи, находится тут же в крепости, за оградой внутреннего дворика.
Мирович в последнее время чувствовал себя, как в лапах спрута: Таген – или, вернее, Шлимм – не давал ему покоя, просил, бранился, грозил даже донести на него: сколько времени прошло – и никакого результата! Но и помимо настояний Шлимма, Мирович сам не мог дольше ждать. Мозг его не выдерживал страшного напряжения, каждую ночь его посещали кошмары: он подымал бунт, в него стреляли солдаты, и все заволакивалось дымом.
Нет, больше ждать было невмоготу! Какой-нибудь, только конец!
Он стал добиваться, чтобы его назначили не в очередь в караул. Третьего июля пришло назначение, и он тотчас заступил место караульного начальника.
Он не был спокоен. Сердце грызла тоска, томили предчувствия: ведь он неудачник, не то, что Гришка Орлов. Может, отказаться от замысла?
Но, думая так, он сознавал, что не откажется, он слишком далеко зашел – если не в действиях, то в мыслях своих. Отступить без борьбы, навеки примириться с лямкой пехотной поручичьей службы, отказаться от плана, так подробно продуманного… Чем больше деталей он представлял себе, тем реальнее и осуществимее казался ему замысел. Он скорбел об одном: нет у него товарища, не с кем разделить страшное одиночество свое. А надо бы, надо бы сыскать хоть одного человечка.
Ввечеру он встретился с капитаном Власьевым. Внезапная мысль овладела им. В несколько шагов он догнал Власьева и без всякого предупреждения сказал:
– Капитан! Я хочу открыться вам в некоторых своих намерениях. Обещайте только, что не погубите меня прежде предприятия моего.
Власьев отшатнулся, испытующе посмотрел на бледное, искаженное лицо Мировича.
– Когда оно такое, чтоб к погибели вашей следовало, то я не только внимать, но даже слышать о том не хочу, – сказал он резко.
– Да вы ранее выслушайте! – растерялся Мирович. – Зайдите ко мне в кордегардию посидеть.
– Нам никогда и ни к кому ходить не разрешается, – возразил капитан и, круто повернувшись, удалился.
Мирович медленно прошел в пустую кордегардию. Стало быть, один против Екатерины, Орловых, против всех… Но мысль об отступлении ни разу не шевельнулась в нем. Он уже не владел своим замыслом, он сам был во власти его.
Сперва он вызвал своего вестового, дал ему 25 рублей ассигнациями и объявил, что в крепости содержится государь Иван Антонович, которого должно освободить; многие солдаты согласны на это и нужно склонить остальных. Вестовой, держа руки по швам, сказал казенным голосом:
– Так точно! Ежели солдатство согласно, то и я не отстану.
Вслед за тем Мирович позвал поодиночке трех дежурных капралов; с каждым из них повторился тот же разговор, и все они давали такие же ответы.
Пробили тапту [48]48
Вечернюю зорю.
[Закрыть]. Мирович почувствовал страшное утомление. Войдя в офицерскую кордегардию, он разделся и лег. Начало положено – разговоры его должны вызвать брожение среди солдат. Он повременит несколько дней, увеличит число своих сторонников, а там совершит переворот. Все же на душе у него было тяжело. Он дважды вставал, подходил к окну, слушал протяжные окрики часовых…
Наконец он забылся. Во сне он увидел утонувшего друга, Ушакова. Тот протягивал к нему руки, улыбался и звал к себе. «Но ведь он мертв», с ужасом подумал Мирович. Ушаков окликнул его настойчивее. Мирович вскрикнул и открыл глаза.
Перед койкой стоял заспанный курьер и рапортовал, что комендант недавно приказал пропустить из крепости гребцов, а сейчас впустить канцеляриста и гребцов.
– Хорошо, – махнул рукой Мирович.
Он остался лежать в темной кордегардии, закинув руки под голову. «Что это за канцеляриста привезли в крепость?» лениво проползла мысль. Вдали хлопнул одинокий выстрел, подчеркивая тревожную тюремную тишину. Внезапно курьер снова появился на пороге: комендант велел выпустить гребцов из крепости.
Мирович одним прыжком вскочил на ноги. Три пропуска подряд, что бы это значило?
Конечно же, это комендант посылает в Петербург донос на него: видно, кто-то из капралов проболтался, не то Власьев. Завтра приедет начальство, его схватят, сошлют, когда он почти у цели. Надо спешить, предупредить их…
Не помня себя, он схватил мундир, треуголку и шпагу и, раздетый, вбежал в помещение караульной команды.
– К оружию! – крикнул он отчаянно. Голос его прозвучал по-чужому. Он удивился этому, но не было времени задумываться. Со всех сторон сбегались солдаты. Стоявшие в козлах ружья были в минуту разобраны. Торопливо надев мундир, Мирович вышел на середину комнаты.
– Смирно! – скомандовал он. – Заряжайте ружья с пулями, капрал Кренев пусть бежит к воротам, к калитке: никого ни в крепость, ни отсюда не пускать.
– Стой! – раздался в этот момент зычный окрик. – Для чего так без приказу во фронт становятся и ружья заряжают?
То был комендант, выскочивший на шум из своего помещения: Мирович, не давая солдатам опомниться, подбежал к нему.
– Что ты здесь держишь невинного государя? – дико вскричал он и сильным ударом по голове свалил коменданта с ног.
– Бери его, – приказал он солдатам, – сажай под караул, да не токмо разговаривать, но и выслушивать его речи не смей.
Двое солдат тотчас схватили под руки окровавленного офицера и повели его на гауптвахту. Мирович обернулся к шумящей толпе, и все сразу стихли.
– Стройся в три шеренги, – скомандовал он привычным, негромким голосом. От недавнего волнения не осталось и следа. Он ощущал в себе совершенное хладнокровие и решимость итти до конца. Выхватив шпагу, он стал во главе выстроившейся команды и повел ее к месту заточения Ивана. Не успел он сделать и двадцати шагов, как оттуда раздался залп.
– Пали всем фронтом! – закричал Мирович и сам первый выстрелил. Солдаты дали ответный залп и вдруг рассыпались в разные стороны. Мирович с проклятиями кинулся собирать их.
– Чего в своих стрелять? – кричали солдаты. – Покажь, ваше благородие, вид, по чему поступать.
– Да что вы, братцы? – твердил Мирович, подбегая то к одному, то к другому. – У меня верный вид имеется.
– Покажь вид… Не будем биться… – угрюмо возражала команда.
Мирович чувствовал, как бешено колотится его сердце. Дрожащими руками он вынул приготовленный им манифест от имени Ивана Антоновича и громко прочитал из него несколько отрывков, которые, по его мнению, должны были тронуть команду. Вид бумаги подействовал на солдат. Из всего прочитанного они ничего не поняли, но, поколебавшись, стали снова в строй.
Мирович вторично повел штурм. «Ежели стрелять будем, то оную персону легко застрелить можем», подумал он и запретил отвечать на выстрелы. Подобравшись ползком к воротам, он стал кричать, чтобы тотчас впустили его для выполнения высочайшего указа, а ежели не впустят, то он велит палить из пушки. В ответ загремели выстрелы.
– Ладно же! – вскричал он, вскакивая на ноги и не скрываясь более от выстрелов. – Тащи сюда пушку, пороху, фитилю палительного кусок, тоже ядер шестифунтовых. Да сказать часовым, чтобы никого в крепость, ниже из крепости, не пропускали, а кто прорвется и поедет по реке в лодках, по тем стрелять.
На небе появилась первая бледная полоса. Потянуло сыростью и прохладой. Мирович запахнул шарф и стал ждать прибытия пушки.
Из осажденного дома перестали стрелять. Крепость погрузилась в тишину. Прошло несколько томительных минут. Вдалеке послышались возгласы солдат, тащивших пушку. Неожиданно порога распахнулись, и; капитан Власьев появился в них.
– Неча палить, – хрипло сказал он, не глядя на Мировича, – и так пустим.
Сопровождаемый командой, Мирович вбежал во двор; на галлерее он встретил поручика Чекина. Тот смотрел на него и криво улыбался.
Мирович схватил его за плечо так, что тот пошатнулся.
– Где государь?
Чекин, все так же нехорошо улыбаясь, произнес:
– У нас государыня, а не государь.
Свободной рукой Мирович ударил его наотмашь по затылку.
– Пойди, укажи государя, отпирай дверь.
Чекин, побледнев, отомкнул дверь каземата. Внутри было темно, дохнуло холодом. Один из солдат побежал за огнем. Мирович продолжал держать Чекина за плечо.
– Другой бы тебя, каналью, давно заколол, – прошипел он, замахиваясь шпагой.
– И поделом бы, – поддакнул капрал, – почто государя мучили!
Чекин стоял ни жив, ни мертв. Несколько раз он словно порывался что-то сказать. Наконец принесли свет.
Мирович шагнул в каземат – и в ужасе попятился обратно.
На полу, посреди опрокинутой мебели, в луже крови лежало тело Ивана Антоновича. Восемь штыковых и сабельных ран зияли на нем.
Мирович опустился на колени и дотронулся до руки убитого. Рука была еще теплая.
– Думал спасти тебя, горемычный, – тихо, как бы про себя, сказал Василий. – Ин, вместо того к смертушке тебя привел. – Потом, посмотрев на Власьева и Чекина, он с горьким упреком произнес: – Ах, вы, бессовестные! За что вы невинную кровь такого человека пролили?
Власьев успел поуспокоиться и осмелеть.
– Какой он человек, мы не знаем, – холодно ответил он, – только то знаем, что он арестант. А кто над ним это сделал, тот поступил по присяжной должности.
Воцарилось молчание. Солдаты, обнажив головы, глядели на изуродованное тело.
– Как же вы убили его? – тихо спросил Мирович, все еще стоя на коленях.
– По инструкции, живого арестанта не имели мы права выпустить, – все так же спокойно пояснил Власьев, – понеже вы за пушкой отправили, я с подручными к арестанту прошел и его, спящего, штыком ударил, а поручик Чекин саблей его по руке резанул. Он вскочил и, хоть раненный, бороться зачал. Долго боролся: вишь, у поручика саблю выхватил и сломал. Тут мы его колоть стали, доколе он упал.
– Ваше благородие, взять их под караул? – спросил капрал, с ненавистью глядя на Власьева.
Мирович покачал головой.
– Они и так не уйдут, – промолвил он слабым голосом. Он готовился ко всему, но только не к такому финалу. Теперь все было бесполезно. Он чувствовал себя раздавленным судьбою. Нервное напряжение сменилось в нем полной апатией.
Поцеловав руку и ногу мертвеца, он приказал положить тело на кровать и вынести его на воздух. В это время брызнули первые лучи июльского солнца; Мировичу показалось, что щеки убитого порозовели, он с надеждой склонился к его груди, но через минуту медленно выпрямился. Команда выстроилась в четыре шеренги и молча, с тоскливым недоумением глядела на своего командира.
– Вот, братцы, – сказал Мирович, – наш государь Иоанн Антонович! Теперь мы не столь счастливы, как бессчастны, а всех больше за то я претерплю. Вы не виноваты: вы не ведали, что я хотел сделать. Я уже за всех вас ответствовать и все мучения на себе сносить должен. – Голос его пресекся от глухих рыданий.