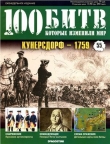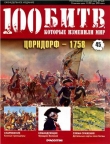Текст книги "Дорога на Берлин"
Автор книги: Кирилл Осипов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Часть 3
Глава первая
В Петербурге
1
В Поджаром жизнь шла своим чередом. Гром войны доходил только отголосками: объявляли рекрутский набор, и староста собирал «мир» для решения, кому итти; либо возвращался с войны на деревянном костыле уже отвоевавший мужик; а однажды приезжал на побывку бравый капрал и, покручивая усы, с достоинством рассказывал о походе на вражескую столицу и об осаде города Кольберга.
Ольга после встречи с Шатиловым очень изменилась. Весть ли о смерти отца так повлияла на нее, а может быть, подошли сроки: незаметно накопленный жизненный опыт сказался. С Катериной Ольга сдружилась еще теснее. Они научились почти без слов понимать друг друга – по взгляду, по невольному вздоху, по мимолетной улыбке. Иногда они бродили по лесу, иногда принимали участие в незамысловатых увеселениях обитателей Поджарого.
И вдруг это безмятежное существование нарушилось.
Началось с того, что одним осенним утром, когда чуть шевелилась листва на деревьях и каштановый дым, клубившийся из печей, медленно восходил прямым, почти неколеблющимся столбом, в Поджарое въехала почтовая тройка. Распаренные кони, наперебой звеня бубенцами, остановились, ямщик отогнул полог, и на землю соскочил офицер. Роста выше среднего, крепко сложенный, смуглый, с большими, немного грустными глазами и уверенными, ловкими, сноровистыми движениями, он огляделся по сторонам, с любопытством покосился на лакированный возок, только что сработанный местными мастерами и ждущий отправки в Петербург, и прошел прямо к барскому дому.
– Ольга Евграфовна здесь живет? – спросил он у выбежавшей навстречу девки и, получив утвердительный отпет, сказал: – Доложи: подполковник Ивонин просит принять.
Ольга, робея, вышла к нему.
– Отца вашего, Евграфа Микулнна, по высочайшему повелению посмертно наградили медалью; о том и взял приятный труд вас известить.
Он с мягкой улыбкой глядел на залившееся нежным румянцем лицо ее.
– Да как вы, сударь, местожительство мое узнали? – только и нашлась что пробормотать Ольга.
– О том меня друг мой, Алексей Никитич Шатилов, уведомил.
Девушка вспыхнула.
– Вон что! А где же теперь господин Шатилов?
– Под городом Кольбергом, в войсках графа Румянцева. Там же и я состою.
Ольга, видимо, хотела что-то еще спросить, но промолчала. С новым, строгим и настороженным выражением она посмотрела на него.
– Пожалуйте в дом, сударь, – сказала она.
Ивонин все с той же мягкой, добродушной улыбкой пошел за нею. В горнице, у окна, стояла Катерина.
– Добро пожаловать, – произнесла она немного певуче, и тяжелая русая коса, лежавшая жгутом у нее на затылке, чуть шевельнулась от поклона.
Ивонин не ответил. Вид этой красивой, грустной женщины заставил вдруг его сердце забиться быстрее. Нахмурив брови, он молча поклонился, стараясь побороть нежданное волнение.
– Брови нависли, дума на мысли, – чуть улыбнувшись, сказала Катерина. – Милости просим, сударь.
Силясь сохранить обычное свое вежливое равнодушие, Ивонин стал разговаривать с Ольгой. Он рассказывал о войне, об Емковом: как он уважал Евграфа Семеновича, а потом погиб той же смертью. Разговор перешел на деревенскую жизнь, и Борис Феоктистович с неестественным увлечением стал рассказывать о саранче, которую он однажды наблюдал под Оренбургом.
– От барабанов она поднималась на кусты, и те, даже в палец толщиной, гнулись под ее тяжестью. На полете сего стада мы приметили одну саранчу, величиной с жаворонка, которая летела наперед, а за нею следовали все прочие. Длиной они были около пальца, разных цветов: серые, зеленоватые, желтые, бурые. За саранчой летели три стада летучих муравьев.
Он говорил и в то же время невольно посматривал искоса на Катерину. Чем она так понравилась ему? Гордой ли посадкой головы, горькой ли складкой в углах губ, или этим спокойным, точно мерцающим взглядом из-под длинных ресниц? Не все ли равно! Быть может, и не она сама причиной, а та острая потребность в ласковом друге, которую он так долго гнал и которая вдруг всплеснулась?
Что-то мягкое, пушистое коснулось его. Он вздрогнул и рассмеялся: большой серый кот терся у его ног.
– Это Трезор, – с улыбкой пояснила Ольга, – мы его для мышей держим. Ужасти, сколько мышей развелось!
– В городе Ганновере, – сказал Ивонин, – французы потребовали у обывателей не только кошек, но лисиц и ежей, чтобы оные за мышами охотились. А я, когда в ребяческом был возрасте, приручил одну мышь, и она ко мне безбоязненно прибегала.
– Вы где, сударь, детство провели? – спросила Катерина.
– Отец мой под Рязанью поместье имел. Славно было: леса, зверей всяких много, в речках рыбу чуть не руками лови. И теперь, знать, там то же, но уже давно не бывал я в сих местах: с той поры, как родителей моих не стало.
Ольга вышла.
Ивонин и Катерина остались вдвоем. Мягкое осеннее солнце лило свой свет в окна; вокруг головы Катерины, в тонкой золотой паутине дрожащего луча танцовали пылинки.
– Катерина Алексеевна, – сказал Ивонин и осекся, почувствовав фальшь даже в звуках своего голоса. Он встал и подошел к Катерине. Не находя слов, он стоял перед нею, теребя обшлаг мундира, так что тонкое золотое шитье длинными нитями падало на пол. Ему хотелось сказать ей тысячу вещей: как она хороша, как он рад встрече с ней, хотелось рассказать о своем одиночестве… Вместо всего этого он только глухо произнес: – Пойдемте в поле.
Но когда они вышли и тихая задумчивость осени коснулась их, слова полились легко.
Ивонин и Катерина шли рядом, не касаясь друг друга; иногда только, переходя через овражек, она на мгновенье опиралась на его руку. Бредя по косогорам и рощам, они безумолку говорили.

Обычная замкнутость покинула Ивонина, он просто и свободно рассказывал о себе.
Может быть, Катерина не все и понимала: она больше слушала его взволнованный голос.
Солнце начинало заметно клониться к закату. Как ни приятна была эта прогулка, нужно было кончать ее.
За обедом выяснилось, что обе женщины собираются вскоре поехать в Петербург. Ивонин понял, что Ольга надеялась скорее встретиться в столице с Шатиловым.
– Поедемте вместе, – сказал Ивонин. – Я дождусь вас.
Когда он удалился в отведенную ему комнату, Ольга подошла к подруге, нежно провела рукой по растрепавшимся прядям ее волос и, заглянув в ее большие серые глаза, казавшиеся теперь словно затуманенными, шепнула:
– Полюбился он тебе?
Катерина зарделась.
– Не пытай меня, голубушка! Ничего-то я сейчас не знаю. Уж выдался мне день такой…
И она со смущенной улыбкой медленно пошла по дорожке.
2
Сборы были недолги. Спустя неделю они выехали в Петербург.
Карета быстро катилась, ныряя на ухабах, по дороге, уже размытой первыми осенними дождями. Чем дальше на север, тем явственнее ощущалось дыхание осени. Сквозь непрерывно ползущие тучи только изредка просвечивало солнце. Утром мутный рассвет сочился в окна кареты, в небе с тревожными криками проносились птицы.
Когда въехали в Петербург, Катерина совсем растерялась: от высоких домов, роскошных карет с гайдуками, от множества пешеходов, от магазинов с большими стеклянными витринами и невиданных нарядов. Ивонин, скрывая растроганную улыбку, наблюдал за ее смущением, посмеиваясь над объяснениями, которые Ольга с гордым видом заправской столичной жительницы давала ей.
Остановились на Мойке, у одинокой старушки, жившей в окружении кошек, собак и птиц в маленьком домике, в котором даже летом топились печи. Ивонин, оставив их там, сейчас же отправился в Военную коллегию, обещавшись к вечеру вернуться. Но пришел он еще засветло, сумрачный и злой, и объявил, что ему нужно немедленно уезжать и, вероятно, месяца на два, никак не меньше. Решено было, что обе женщины, покуда он не вернется, из Петербурга не уедут.
Потянулись дни однообразные, несмотря на обилие впечатлений. Катерина и Ольга ходили по городу, смотрели на Неву, гуляли в Летнем саду, уже усыпанном первым талым снегом, в сумерках возвращались в низкую жаркую горницу, где стоял нескончаемый веселый птичий гомон.
Как-то Ольга вышла одна. Едва она завернула за угол, кто-то обогнал ее. Гвардейский офицер, гремя саблей, прошел мимо нее и вдруг остановился, загородив ей дорогу. Ольга инстинктивно метнулась в сторону.
– Не бойтесь, сударыня! Ужели я внушаю вам страх?
При первых же звуках этого голоса она содрогнулась.
– Четыре года я не видал вас, даже не знал, что с вами. Недавно встретил вас, проследил, где вы живете, и все искал случая поговорить с вами наедине. Десять дней я караулю вас. В полку, верно, меня ищут, но мне все равно, Ольга! Я опять вижу вас. Скажите же хоть единое словечко. Помните ли вы меня, или вовсе забыли? Да говорите же! Мне мало видеть вас, я жажду слышать голос ваш.
Ольга, бурно дыша, глядела на него.
Он почти не изменился, только глаза запали еще глубже. На нем был мундир тонкого сукна, на пальцах блестели бриллиантовые перстни. Очевидно, она не сумела скрыть своего удивления, потому что легкая улыбка тронула его губы.
– Да, теперь я не беден. Но скоро вы не то услышите обо мне. Я стану знаменит, могущ, безмерно богат… И все это – вам! О вас, Ольга, думал я эти годы. К вашим ногам я сложу и деньги и почести, как сейчас склоняю перед вами мою голову, – и он вдруг опустился на колено и низко, до самой земли, поклонился.
– Что вы! Господин Мирович! На улице! Да что про нас подумают, – чуть не плача, вскричала Ольга.
Мирович медленно поднялся.
– Что подумают? – сказал он презрительно. – И вам еще не безразлично? Но скажите же, могу ли я надеяться? – Вдруг он словно спохватился и, прищурившись, поглядел на нее. – Впрочем, что же это я? Вы, может быть, уже несвободны? У вас, верно, уже есть муж, неправда ли? Что же вы молчите?
– Нет, – прошептала Ольга.
– А, отменно! Но как же господин Шатилов? И где ваш батюшка?
– У меня никого нет. Отец убит на войне, господин Шатилов в армии.
– Простите меня, Ольга Евграфовна. Может быть, я не так говорю, да не терпит душа.
Страстная речь этого необычного человека лишала Ольгу самообладания. Она чувствовала, что он имеет над нею власть, странную и непонятную, и удивительнее всего было то, что она не противилась этой власти.
– Ольга, – сказал Мирович тихо и повелительно, – приходите завтра в полдень к Неве, где балаганы стоят. Я должен сказать вам много, так много, что вы и не мыслите.
Он протянул ей руку. С изумлением она ощутила, что рука у него узкая и мягкая, как у женщины. Порывисто склонившись, он поцеловал ее пальцы.
– Я приду, – сказала она одними губами.
Оставшись одна, Ольга долго бродила по набережной, подошла к балаганам. Там стоял визг и хохот, под звуки флейты и барабана взлетали качели; шуты, кривляясь и приплясывая, зазывали публику. Притти или нет? Посоветоваться с Катериной? А может, совсем не рассказывать ей? Чем больше она ходила и думала, тем труднее ей было во всем разобраться. Мысли роились, обгоняли одна другую. Угрюмая, она вернулась домой, пожаловавшись на нездоровье, тотчас легла в постель и уснула глубоким, без сновидений, сном.
Утром проснулась свежая, и решение пришло само. Она тщательно оделась и, словно не замечая внимательных, вопрошающих взглядов Катерины, вышла из дому.
Но вечером она все рассказала ей. Ока не утаила ничего, ни бурных речей Мировича, ни своего смятения.
Катерина выслушала ее, не проронив ни звука. Потом жестко сказала;
– Что же ты, девушка, замуж за него пойдешь, либо, как в столице, амантом сделаешь?
Ольга даже вскрикнула от обиды.
– Ну, не сердись, душенька, – ласково притянула ее к себе Катерина. – Молода ты еще, вот что! Молодой квас, и тот играет. Не лежит мое сердце к этому гвардейцу: не даст он счастья тебе, погубит тебя, горемычную. Бешеный он, видать, и в любви, и в карьере, а так жить нельзя.
– Не властна я уже, – тихо произнесла Ольга.
Лицо Катерины потемнело.
– Молчи! – Что знаешь ты об этом? Да ежели и любит он тебя, разве ж каждому, кому полюбилась, отдать себя? Этак я Крылова зачем гнала? Он тоже, как видывал меня, ровно хмельной делался. А как же Алексей Никитич? Хуже он, что ли?
Ольга потупилась.
– Не хуже. Нет, гораздо лучше! Добрее… И умнее, должно. Но он какой-то… аккуратный чересчур… чинный.
Катерина улыбнулась.
– Девкам все нужно, чтобы им речи жаркие нашептывали. Они за слова любят, Ан, не в словах любовь. Иной и горе, и радость, и любовь в себе таит, иной же обо всем кричит.
Ольга упрямо покачала головой:
– А молчальника и вовсе не узнаешь.
– А ты сумей… Вот и господин Шатилов таков. И к тому же венчаться недолго, да бог накажет, долго жить прикажет. С мужем не все миловаться станешь. Иной любить умеет, а жить с ним невмоготу. А про Алексея Никитича сама знаешь: чистое золото.
– Да всегда ли золото нужно?
Катерина всердцах встала и вышла из комнаты.
Глава вторая
Ночной разговор
1
Ехать не хотелось, но делать было нечего. Эстафета, которую он вез, была срочная и деликатного свойства. Воронцов лично вручил ему ее и приказал вернуться с обстоятельным ответом. И теперь, сидя в раскачивающейся от быстрой езды легкой бричке, Ивонин старался не думать о Катерине и с усердием поддерживал разговор с молодым поручиком, напросившимся к нему в спутники.
– Вы, господин Щупак, для поручений были при графе Воронцове. Следственно, про многое наслышаны. Не скажете ли, что за предложение король Людовик недавно правительству нашему делал?
– Король французский в декабре прошлого года декларацию произвел, что дольше воевать, мол, незачем, ибо могущество Пруссии до крайней степени ослаблено.
– А Конференция каково об этом судила?
– Российское правительство в ноте своей уведомило, что, понимая желание союзников своих, зело ослабленных войною, но напротиву того находя необходимым…
– Степан Андреич! Голубчик! Покороче! – взмолился Ивонин. – Этак до завтра не расскажете.
Щупак покраснел.
– Привычка-с! Единым словом: правительство наше ответствовало, что согласно мириться на той, однако, кондиции, чтоб король прусский существенно был ослаблен в своих силах.
– Значит, в Петербурге мыслят, что Фридерик еще недостаточно ослаблен? Так ли я вас понял, Степан Андреич?
– Именно так, Борис Феоктистыч! В ноте нашей прямо сказано было, что уменьшение сил короля прусского есть только кратковременное и такое, что если им не воспользоваться, то он усилится более прежнего.
– Здраво! Весьма здраво! – задумчиво сказал Ивонин.
Щупак котел было продолжать рассказ, но, покосившись на сосредоточенное лицо Ивонина, осекся и замолчал. Кони, казалось, без всякого усилия неслись вперед. Ямщик, ухарски держа в одной руке вожжи, напевал песню, сперва тихо, а потом, заметив, что господа прервали беседу, все громче.
Как и нынче вино
По копейке ведро.
Калина моя, малина моя!
Как старуха пила,
Старика пропила.
Свово мужа пропила.
Калина моя, малина моя!
– Дозвольте и мне, в свою очередь, спросить вас, – робко проговорил Щупак: – каковы в нынешнем году военные действия в Пруссии происходили? Я в Петербурге про то мало наслышан. А, верно, что ни день, то новое предприятие.
– Побудете в армии, узнаете – усмехнулся Ивонин. – Для солдата день на день похож. А, впрочем, извольте, расскажу… В июле выступила наша армия из Познани под Бреславль. Фридерик остановился лагерем у Бунцельвица, откуда он мог как осаде Швейдница, так и Бреславля препятствовать. Лагерь был весьма укреплен: вокруг валы с глубокими рвами, перед валами палисад и рогатки, а перед ними еще три ряда волчьих ям. На валах – двадцать четыре батареи, перед каждой фугасы в землю вкопаны. К тому же местность в окружности была затоплена и преграждена засеками.
– И взяли сей лагерь? – не утерпел Щупак.
– Столь сильные укрепления решено было не штурмовать, а взамен того в сентябре нечаянным нападением был взят Швейдниц. Фридерик отправил в наш тыл кавалерийский отряд графа Платена. Прорвавшись к Познани, этот отряд разорил наши запасы. Для борьбы с Платеном выслана легкая кавалерия под начальством генерала Берга, а более его помощника, подполковника Суворова.
– Это не родственник ли Василью Иванычу?
– Сын… Он Платена вспять обратил и тем позволил графу Румянцеву повести методическую осаду города Кольберга. Этот же город есть главная цель нынешней кампании. Заняв его, мы обеспечим свой фланг и сможем вновь на Берлин наступать – уже не для налета, а чтобы надолго завладеть им. Потому Фридерик весьма сильную крепость в Кольберге устроил, двенадцать тысяч гарнизону там держит и беспрестанно в помощь ему диверсии предпринимает.
– А как же осада протекает? – Щупак даже подался вперед от нетерпения.
– Граф Румянцев действует с большим искусством. На Кольбергский рейд вошли наши корабли, обстреляли прибрежные батареи и высадили две тысячи матросов. Тем же часом с суши войска подступили к крепости и заняли окрестные высоты. Румянцев надвигает свой корпус медлительно, осторожно, но неуклонно. Пруссаки выслали отряд Вернера для действий у нас в тылу, однако наши разбили его, взяли в плен самого Вернера и с ним шестьсот человек, понеся потерю только в полсотню людей.
Бричка, замедлив движение, покатилась по обочине дороги, огибая длинные громадные возы, на которых были уставлены жестяные понтоны, свежеокрашенные красной краской.
– Ишь, какие! – сказал ямщик, полуоборачиваясь и называя кнутовищем на понтоны. – Хучь в карусель ставь.
– Мост хорош выйдет, – улыбнулся Ивонин.
– Значит, взятие сей крепости очень для нас важно? – сказал Щупак.
– Нам досталось через конфидентов письмо Фридерика принцу Вюртембергскому. Он пишет: «Я не могу потерять сей город, который мне слишком важен; это было бы для меня величайшим несчастьем».
– А мы все-таки возьмем?
– Бог даст, возьмем. В военном деле мы уже искусились, солдаты наши не в пример лучше прусских, а Румянцев охулки на руку не положит.
Он замолчал, прислушиваясь к нескончаемой, однообразной песне колокольчика и рассеянно смотря вверх, где мелькали две птицы, распластываясь, падая камнем вниз и снова взмывая до самых туч.
Ямщик, нахлестывая уже запаренных лошадей, все пел:
От села до села бежит сваха весела,
От ворот до ворот чорт за ногу волок.
Ивонин рассмеялся:
– Ну и песня! Веселая, а несуразная.
Щупак пренебрежительно выпятил губу.
– Что же мужику надобно! Его эсфетические представления мы знаем: что сладко, то вкусно, что красно, то красиво, а что громко да складно, то и ладно.
Ивонин пристально оглядел его, точно впервые видя.
– Недаром, знать, вы весь век провели во дворце, – сказал он, кривя губы. – Песни русской не чувствуете – значит, и души народной не поймете. Ну, да ничего: поживете с солдатушками, тогда многое…
Он не договорил и откинулся на спинку сиденья, явно показывая, что не расположен более вести беседу.
2
«Василий Иванович Суворов уведомил меня по требованию моему, что с нашей стороны поступается с пруссами пленными весьма другим образом и что как офицеры, так и рядовые получают вседневно определенное число денег, почему и надлежало вы с нашей стороны сделать равномерное „с королем прусским постановление, дабы взаимные пленники с обеих сторон условием могли иметь свое пропитание“».
– Знатно! – Румянцев повертел в руках бумагу, задумчиво посмотрел на подпись канцлера Воронцова и обратился к стоявшему навытяжку Ивонину: – Рескрипт, что вы мне привезли, весьма правилен; узнаю государственную мудрость Михаила Илларионыча. Да вот в чем заковыка. Как с таким противником кондиции о пропитании пленников делать? Все равно обманут. Мы ихних кормим и денег даем, а Фридерик – даром что просвещеннейшим государем себя именует – военнопленных, словно скотов, содержит.
Он помолчал и вдруг с силой произнес:
– В этой войне мы не токмо с силой прусской боремся, но и с подлостью ихней. Силе мы свою противопоставили. А подлости учиться не будем. – Он поднялся. – Рескрипт приму к исполнению. Ступайте, подполковник.
У выхода Ивонина поджидал Шатилов. Они пошли, перебрасываясь беглыми фразами.
– Как осада протекает? – спросил Ивонин и невольно усмехнулся, вспомнив, что точно такими словами его спрашивал в дороге Щупак.
– Я полковнику Гейду, коменданту кольбергскому, не завидую. Теперь видно, сколь сильны российские войска, когда ими достойный командир управляет: все ухищрения неприятелей в ноль сводятся. Но, впрочем, не все удачно: на левом крыле подполковник Шульц сбился с дороги, задержался и был с превеликим уроном отброшен. Петр Александрович его немедленно отдал под суд. Словом сказать, взять Кольберг еще не просто: укрепления там весьма сильные, и к тому же флот наш ныне из-за непогоды в Ревель ушел.
– А как подполковник Суворов действует? – словно невзначай спросил Ивонин.
– Преотлично. Везде поспевает, и Платена в страхе держит. Чуден он больно: с ребятами в бабки играет, с солдатами на штыках бьется. Намедни ему генерал Яковлев пошутил: «У вас чин по делам, да не по персоне». А он ему в ответ: «Порожний колос выше стоит». Острый язык у него, да и ум, видать, таков.
«Только-то? Плохо же ты знаешь Суворова», подумал Ивонин, но вслух ничего не сказал.
Они обменялись крепким рукопожатием и расстались. Ивонин не спеша пошел дальше. Одна мысль, нежданно пришедшая в голову, не давала ему покоя. Несколько раз он замедлял шаги, снова продолжал путь и наконец решительна свернул в сторону. Быстро пройдя между палатками, он подошел к маленькому бревенчатому домику. Видимо, домик был только что выстроен, и притом на скорую руку. Бревна еще хранили запах свежести, краска на узкой двери еще не совсем высохла.
Ивонин негромко постучал. Почти сейчас же послышались быстрые шаги, дверь распахнулась, и на пороге показался со свечой в руке офицер в застегнутом мундире, но без сабли.
– Господин Суворов! – сказал Ивонин напряженным и оттого чужим голосом. – Когда мы виделись с вами, вы дали мне разрешение притти к вам. Могу ли я сейчас сим приглашением воспользоваться?
– Рад… рад… Входите, Борис Феоктистович, – проговорил Суворов, отодвигаясь, чтобы пропустить его.
– Неужто имя помните?
– Э, сударь! Я, почитай, полтыщи солдатушек по именам помню… Прошенька! – зычно крикнул он. – Али спать уже лег? Устрой-ка нам чайку, да поскорее! Стриженая девка косу не заплетет, а у нас уже чтоб чай был! Так вас, господин Ивонин, я перво-наперво поблагодарить хочу.
– За что? – удивился Ивонин.
– За Березовчука… Алефана… Не солдат – золото. Скоро ефрейтором будет… Садитесь, сударь, вон на тот стул; а я – на табуреточке, поближе к камельку.
Он чуть плеснул из флакона оделавану, потер руки.
– Таких солдат, господин подполковник, нигде не сыщешь, окромя как в нашей стране, что от белых медведей до Ненасытецких порогов простерлась. Горжусь, что ими командую, горжусь, что я – россиянин!
– Не с того ли воины наши хороши, что во все время приходилось с врагами биться? Надо было свергнуть иго монголов, покорить татарские царства, обеспечить границы на востоке, вернуть утраченные области на Западе и, вдобавок, восстановить направление к Понту, которое еще с варягов искони создалось. Война русских людей никогда не пугала.
– Здраво судите, господин Ивонин. Однако все же и другие народы вели много войн, а воинственными не стали. Ан речь о другом: хорошему генералу нужны славные солдаты, но и хорошим солдатам великий генерал нужен. Русское войско, – он наклонился вперед и поднял палец, – должно сражаться по-другому, по-новому. Что другим армиям невмоготу, то наша осилит.
– А как по-другому? – затаив дыхание, спросил Ивонин.
– Помилуй бог, сразу скажи ему! Мне по моей степени еще о том судить трудно. Но, однакож, тринадцать лет о том думаю, и буря мыслей в голове моей.
Ивонин слушал, боясь шелохнуться.
– Граф Салтыков и Петр Александрович Румянцев под Пальцигом и Кунерсдорфом показали, сколь русские войска сильны в дефензиве и сколь легко они к наступлению обращаются. Но пора и другое показать: сколь сильны войска наши в атаке. Зачем ждать неприятельского наступления? Кто стремглавней, храбрее, спокойней, чем наши солдатушки? У кого тверже и тяжелей рука? Российская армия созрела для того, чтобы стать грозою всякого супостата, чтобы враги и в самой столице своей дрожали перед ее десницей.
Заспанный Прошка внес кипящий самовар и, сердито гремя посудой, принялся расставлять закуску.
– У, какой сердитый! – шутливо поежился Суворов. – Вот, сударь мой, кого мне опасаться приходится: господина Дубасова.
– Уж вы всегда… – пробормотал ординарец. – Хучь бы господина подполковника постеснялись, – и он, покачав головой, вышел за дверь.
Суворов хитро посмотрел ему вслед и наполнил рюмки.
– Доводилось ли вам, сударь, забивать гвоздь? – сказал он, снова переходя на серьезный тон. – У кого крепкая длань, тот голым кулаком, без молотка, его в стену вобьет. Но, заметьте, кулаком, а не пальцами растопыренными. Тако же и на войне: должно все силы к месту боя подвести и там сокрушительной лавиной в намеченном пункте тонкие линии неприятеля порвать.
– И тогда одним ударом неприятель к отступлению обречен будет?
Суворов прищурил левый глаз.
– А зачем неприятелю отступать? Если он отступил – неудача. Истребить его должно, в плен взять, уничтожить, тогда шармицель удачною почитать можно.
– Значит, по-вашему, недостаточно, если неприятель очистит территорию?
– Не в территории дело. Помилуй бог! Иной раз за территорию и каплю крови пролить бесполезно. Уничтожь вражеское войско – и вся земля твоя будет.
Он вдруг схватил Ивонина за руку.
– Не берите соль ножом, со времен солдатства не люблю того: всегда к ссоре ведет. Так вот каковы задачи перед армией российской стоят. Да кому решать-то их? Тотлебена нету, да Тотлебенов вдосталь, и про них солдаты верно говорят: «Ворон ворону глаз не выклюет». Хотя б Петр Александрыч на себя крест принял.
– А вы примите, – сказал вдруг Ивонин, и сам смутился, но делать уже было нечего, и он повторил: – Вы крест сей на себя возьмите и, надо быть, лучше всякого все свершите.
Суворов зорко посмотрел на него, потом глотнул чаю и сказал простовато:
– Где же мне! Меня кавалерийским начальником сделали.
Ивонин усмехнулся краешком губ:
– Мне одна притча вспомнилась: одного философа на пиру посадили не с именитыми гостями, а в краю стола, среди музыкантов; философ на то произнес: «Вот лучшее средство сделать последнее место первым».
– Остро… Однакож, ежели без клокотни разобраться. Как вернее всего неприятельское войско уничтожить? Надо подступить к нему нечаянно и атаковать с фурией. В том весь секрет. К сему и надо готовить войска. Фридерик в сутки по семнадцати верст делает, наши – и того меньше; под Берлином, правда, Панин по тридцать пять отмахал, но то не правило. А надо, чтоб войска всегда так ходили. Читайте Цезаря: римляне того быстрее передвигались. Ежели обстоятельства требуют, надлежит смело от магазинов отрываться. Фридерик на четыреста пятьдесят верст от них отходит, а мы должны – на тысячу.
Теперь лицо его было серьезно, даже торжественно. Голубые глаза его пронзительно смотрели вдаль, поверх головы Ивонина.
– Командовать с умом нужно, а тогда и невозможное для солдата возможно делается, – резко проговорил он.
Невольно для себя Ивонин встал.
– Вы годами моложе меня, Александр Васильевич, – сказал он, стараясь говорить спокойно, – но в вас вижу славнейшего из мне известных военачальников наших и дивлюсь военной мудрости вашей.
– Что вы, государь мой, – кротко ответил Суворов. – Загляните в историю: вы увидите там меня мальчиком.
Он, в свою очередь, поднялся.
– Прощайте, – и опять Ивонин ощутил в своей руке его маленькую твердую руку с нервными, сухими пальцами.
Взяв свечу, он пошел вперед.
– Прошку будить не стану. Завтра на заре выезжаем, пусть отоспится… Да хранит вас бог, сударь. Авось, скоро в Кольберге встретимся.

Он остался стоять в дверях, заслоняя рукою свечу от ветра, и, уже отойдя на изрядное расстояние, Ивонин, обернувшись, увидал мерцающий желтый огонек, будто маленькую яркую звездочку среди густой тьмы ночи.