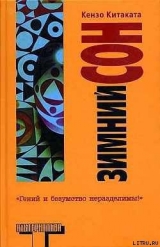
Текст книги "Зимний сон"
Автор книги: Кензо Китаката
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
7
Я ждал, когда включится зеленый сигнал светофора, и наблюдал за толпой. Проезжавшие мимо автомобили притормаживали, и на какой-то миг улица становилась безлюдна. А потом будто плотину прорывало: бурлящий поток снова выплескивался на дорогу.
Мне это показалось столь интересным, что я вновь и вновь переходил улицу. Перекресток был устроен таким образом, что машины останавливались сразу по всем направлениям и люди высыпали на проезжую часть. Затем сигнал светофора менялся, и перекресток снова пустел. В этот момент его окутывала мертвая тишина, а затем всё повторялось заново: мостовую топтали ноги бесчисленного количества живых существ. Вскоре снова все вымирало и воцарялось безмолвие.
Это был мой третий день в гостинице, в номере, который сняла для меня Нацуэ.
Почти все время я бродил по окрестностям – причем не только днем, но и в темное время суток, на рассвете и среди ночи.
Город переполняла смерть. Неожиданным было то, что, зная об этом, я не стремился отсюда бежать. При беспристрастном взгляде на город я понимал, что вполне мог бы стать его частью. Невообразимое перерождение собственного сознания.
Во мне произошла некая перемена. Не скажу, в чем именно она состояла, просто город – большой, населенный людьми город – перестал меня раздражать. Когда я заходил в ресторан и официант кидал на меня презрительный взгляд, я как бы невзначай, совершенно запросто оставлял ему бумажку в десять тысяч иен на чай. Попадая в магазин, я приветствовал ухмыляющегося торговца учтивым кивком.
Регулярно, ровно в шесть вечера, в дверях появлялась Нацуэ. Я догадывался, что скорее всего у нее дел невпроворот, и не настаивал на совместном ужине. Вместо этого мы просто договаривались встретиться вечером в баре отеля.
Я заходил в клубы, расположенные в окрестностях отеля. Как ни странно, меня пускали в шикарные заведения. Стоило присесть, тут же откуда-то слетались девицы. Знакомство они завязывали, пытаясь угадать, чем я зарабатываю на жизнь. Я выслушал массу всевозможных гипотез, которые вызывали умильную улыбку. И все равно не по душе мне были такие места. В них царил затхлый запах фальши, которая зиждилась на исконном обмане. Куда интереснее было наблюдать за слоняющимися по улицам пьянчужками и таксистами, поджидающими клиентов.
Целый час я провел в клубе, где девочек было больше, чем посетителей, затем вышел и направился бродить по окрестностям. В этой части города преобладали узкие улочки, где двери клубов и баров были гостеприимно распахнуты для посетителей. Меня здесь частенько не пускали на порог. В таких случаях я просто шел дальше.
Навстречу попадались пьяные в стельку прохожие, которые с трудом держались на ногах. Видел я бродяг, которые копались на помойке. Меня мало беспокоило, что иные из тех, кто перебирал содержимое мусорных мешков, одеты лучше меня.
В бар своего отеля я подходил часам к одиннадцати.
– Я смотрю, тебе здешние окрестности по душе пришлись.
Нацуэ меня опередила. Она сидела за стойкой и пила коньяк, чуть ссутулясь от усталости. Это придавало ей некую новую сексапильность, которой я раньше не замечал.
– Тяжелый выдался денек.
Я тоже заказал себе коньяк. Я еще никогда не напивался в стельку. Выпить мог много и при этом умеренно пьянел. И еще знал, что стоит проспаться, и больше на спиртное не тянет. Во всяком случае, так было в городе.
– Впервые слышу, чтобы тебя интересовала моя работа.
– Раньше как-то не задумывался об этой стороне твоей жизни. Теперь, похоже, дозрел. Не скажу, что мне это особенно по душе, просто дозрел, и все.
– Ты так изменился.
– Ничего удивительного. Я менялся, пока писал ту картину. Это будто толкать тяжелую дверь, которая упорно не хочет открываться. Примерно так.
Я смаковал коньячный букет. Мне нравилось выпивать в баре отеля. Заведение не отличалось особыми изысками, и все-таки, как бы мне ни было одиноко, здесь я воистину наслаждался вкусом спиртного.
– У меня своя дизайнерская студия и штат из двенадцати человек.
– Выходит, ты большая шишка?
– В нашем бизнесе это нешуточный размах. Плюс на производстве заняты десять внештатных сотрудников.
– И почему же такая серьезная особа связалась с таким, как я?
– Ты никогда не поверишь, что твои картины могут кого-то вдохновить? В этом весь ты.
Я и раньше слышал, что у нее своя студия. Я понял, что по большому счету ничего о ней не знаю. Впрочем, чтобы понять такую женщину, особой информации и не требуется.
– Ты ведь замужем?
– Так ты все это время полагал, что спишь с замужней женщиной?
– Вообще-то до сих пор не задумывался. Что проку?
– Я была замужем. Последние двенадцать лет в разводе. Забочусь о сыне, он уже старшеклассник.
– Понятно.
– Что именно?
– Жизнь у тебя состоялась.
– Да и у тебя. Ведь ты такой же.
– Не знаю. Я полжизни где-то витаю, полжизни бодрствую – может, даже слишком. Не скажу, что состоялся. Тут что-то другое.
– Ты пишешь картины.
– Я все время словно в дреме – живу, будто сон вижу. Не поймешь, где быль, а где небыль.
Нацуэ засмеялась.
Бар заметно опустел. Скоро закроется. Тогда пойдем пить в номер, а может быть, в зал отдыха, который открыт до двух ночи.
– Хочешь, куда-нибудь прогуляемся? – спросила Нацуэ.
– Еще кто-то работает в такую пору?
– Можно до Роппонги пройтись.
В тех местах я не слишком хорошо ориентировался, но Нацуэ горела желанием пойти, а я решил составить ей компанию. Это чувство меня посещало нечасто.
– Идем. Я встал.
– Тебе не терпится.
Не сказать, чтобы очень хотелось идти, – просто меня привело в замешательство это новое чувство, неизведанное доселе ощущение: вскочить и в бой.
Нацуэ осушила бокал и встала.
В такое время суток такси не поймаешь. Впрочем, Нацуэ это не устрашило: она пошла пешком. Путь ее лежал в подземный гараж, где на стоянке ждал ее белый «мерседес».
– В этом здании, на шестом этаже находится моя фирма, – сказала моя спутница, щелкнув замком и открывая дверь.
Мы поднялись по крутому уклону к выходу на стоянку, и свет ударил в глаза. Мне, жившему доселе в горах, где нет уличных фонарей, не ездят автомобили, этот поток света показался чем-то нереальным, словно его тут и быть не может. Нацуэ без колебаний вошла в него, словно бы для нее это не больше чем свернуть за угол.
– У меня такое чувство, что последние двенадцать лет в моей жизни была только работа. По ночам я думаю о делах на следующий день и вычисляю, сколько часов отвести на сон.
– Ты занятая женщина.
– По-твоему, это жизнь?
– Наверно.
– Странно.
– Что именно?
– Ты странный. Больше не поглощен одним собой. Уже прислушиваешься к моим словам.
Машина временами останавливалась на светофорах, а в основном мы гнали на приличной скорости.
– Стал обращать внимание на то, что мне говорят. Не знаю, плохо это или хорошо.
Мы неслись по ночным улицам. Было в этом что-то схожее с ездой в горах – наверное, потому, что все вокруг приходило в движение. Разумеется, в горах такую скорость не разовьешь.
Нацуэ остановила машину перед стеной, окружающей штаб-квартиру министерства обороны. Долгий ряд припаркованных машин смотрелся тут весьма гармонично.
Мы вышли на тротуар, и Нацуэ взяла меня под локоток. Она почему-то засмеялась, да так, что не могла остановиться.
– Знаешь, забавно так мы с тобой под ручку идем. Никогда бы не представила тебя в этой роли. Честно, не думала, что мне захочется вот так с тобой прохаживаться.
– По мне так совсем неплохо.
– Согласна. Помню, мы так с приятелем ходили, когда я еще в колледже училась. Тут неподалеку отель, ноги сами туда несли. Очень хотелось туда зайти, но едва мы приближались, все равно сворачивали, прищелкивая языками с досады.
– И чем все закончилось?
– Так и не осмелились зайти.
– Эх. А у меня никогда не было подруги.
– Давай я буду твоей подругой. Пригласи меня в отель. Только неуклюже, по-мальчишески. Смутись, будто не знаешь, как предложить.
Нацуэ снова засмеялась. Так, смеющуюся, я завел ее в бар.
Смех был не мелодичный, а шумный, громкий. И в то же время в нем ощущался некий покой.
В углу я заметил свободный столик, и мы с Нацуэ уселись за ним, бочком друг к другу.
– Слушай, а можно я напьюсь? – шепнула мне на ушко Нацуэ. – Совсем напьюсь, вдрызг.
– Валяй.
– Так никогда еще толком не напивалась. Возможно, она говорила правду.
Я не мог позволить себе набраться. Сразу обоим набираться нельзя; если один пьет, то другому разбираться с последствиями.
Такое отношение к выпивке стало для меня чем-то новым.
8
Дрова догорали, огонь затихал.
Временами потрескивали поленца, но языки пламени уже не поднимались.
Я протянул руку, подбросил в камин кусок древесины. Пламя радостно его охватило, издавая приятные звуки.
Я решил выбраться из дома и почистить во дворе снег. Загребал его лопатой и перекидывал через сугроб, так что даже пропотел немного.
Полностью очистить террасу не удавалось – на настиле все равно оставалось немного снега. Я взял метлу и стал сгребать его с деревянных досок и из щелей, куда забился снег. Сбрызнул водой и драил шваброй, пока не осталось ни воды, ни снега.
Подкинул в огонь поленце.
Погрел руки у огня. Онемение быстро прошло, и вскоре пальцы свободно двигались.
Нацуэ уехала с утра. Из Токио мы вернулись вместе, она переночевала, а потом пустилась в обратный путь. Впервые она осталась у меня в хижине.
Мы не вели серьезных разговоров. Просто пили коньяк и смотрели на огонь. Временами один из нас подбрасывал в огонь поленце.
Поздно ночью занялись любовью перед камином. Мы не были охвачены ни страстью, ни вожделением. Мы все проделывали спокойно. Когда мы кончили, я испытывал умиротворение, Нацуэ тихонько подрагивала.
Когда я проснулся, меня ждал завтрак. Гостья смотрела, как я ем, советовала попробовать овощи и давала всякие советы, совсем по-матерински, а потом уехала.
Я поднялся в мастерскую, забрал мольберт и краски и спустился вниз.
Терраса окончательно просохла. Я поставил на мольберт подрамник с холстом десятого размера.
Скоро закончится зима. Мне хотелось запечатлеть последние деньки уходящей зимы.
Белые горы, разлапистые, тяжелые ветви елей подснежной шапкой, прозрачный чистый воздух. Не это меня интересовало.
Хотелось запечатлеть на полотне свою внутреннюю зиму. Пейзаж мне был не нужен. Мне понадобился зимний свет, он отличается от летнего, поэтому я и вышел на террасу – свет, процеженный через окно мастерской, всего не проявит.
Я надел рабочую куртку и перчатки с отрезанными пальцами. Температура стояла низкая, и куртка с перчатками здорово спасали от мороза.
Я закрыл глаза.
Сердце, мое опустошенное сердце, исполнилось спокойствием. Новое ощущение. Тень жестокости отступила, и на смену ей пришло умиротворение, питающее силой.
Я немного постоял с закрытыми глазами. Потом выдавил на полотно немного киновари. Она походила на багровое насекомое, ползущее по холсту.
Ножом, которым я вытачивал стеки, я стал размазывать киноварь по полотну. Мастихинов у меня было с избытком, но сейчас не хотелось ничего податливого. О стеках я также не помышлял.
Мне нужно было нечто жесткое, такое, что легче сломать, чем согнуть.
Теперь киноварь ровным слоем покрывала часть полотна, я добавил белил и смешивал, пока не получился нежно-розовый оттенок. Добавил еще киновари и снова ее размазал по холсту. И так поступал снова и снова. Полотно пылало багрянцем с вкраплением неуловимых оттенков. Чувствовалось, что я иду в верном направлении.
Я добавил красной краски. Она совсем не сочеталась с киноварью. Кончиком ножа размазал этот чужеродный, грубый цвет по всему полотну. Лишнюю краску я соскабливал все тем же ножом. Избыток красного был невелик, и действовать приходилось тонко, как хирургу.
В свете зимнего солнца киноварь с красным будто переругивались – забавно было наблюдать. Я буквально слышал их голоса: цвета говорили между собой, кричали друг на друга, орали. Становилось понятно, что я пишу настоящую картину. Стоя перед мольбертом в свете зимнего дня, я следил за срывающейся с полотна перепалкой.
На холст легла тень от проплывающего облачка. Но голосов она не заглушила.
Дул ветер, я его не замечал. Из-за ветра понизилась температура, а я пропотел.
Желтый. С полотна донеслось приглушенное бормотание.
Я нанес на холст еще киновари, заглушив ею красный с желтым.
Бормотание прекратилось.
Рукой в перчатке я отер пот с лица.
Оставив мольберт на месте, я направился в гостиную.
Огонь в очаге давно потух: даже уголья не рдели. Я подкинул прутьев и снова стал разводить огонь. За красками время пролетело незаметно, мне казалось, всего ничего, однако на самом деле прошло четыре часа. Вечерело.
Я сел перед очагом и дымил сигаретами, в задумчивости не замечая, что курю. Огонь не согревал – мне было холодно, я страшно зяб.
В последних лучах заходящего солнца я принес с террасы мольберт, холст и повернул картину к стене, чтобы не смотреть на нее лишний раз.
Налил полную ванну горячей воды и погрузился в нее по самую шею. Теперь только я начал отогреваться. Я ничего не ел с самого утра, настало время ужина.
Я вылез из ванны, надел чистое белье, толстый свитер и остальную одежду и вышел.
За день снег уплотнился. Свежевыпавший снег, которого коснулись лучи солнца, выглядел уже по-другому, да и на ощупь отличался.
Я завел легковушку, оставил мотор прогреться, а сам устроился на водительском сиденье и устремил взгляд в пустоту.
Поехал. Дорога была покрыта снегом, который сухо похрустывал под колесами, совсем не так, как хрустит снег.
Я приехал к Акико. На крыше ее «ситроена» образовалась тонкая снежная шапка.
Входная дверь была не заперта.
По всей гостиной валялись остатки пищи. Мною сразу овладело чувство, словно я попал в звериную берлогу. Акико не было и следа. Обогреватель включен на полную, в комнате жарко.
Я поднялся на второй этаж.
Заглянул в спальню: в постели спали, обнявшись, Акико с Оситой. Они походили на близнецов в утробе матери. Им было тепло и уютно в околоплодных водах.
Я спустился, убрал в холодильник продукты и принялся готовить, стараясь не шуметь.
Глава 8
ВЕСЕННИЕ ПОЧКИ
1
Как всегда, падал снег, теперь уже не собираясь в большие сугробы. Дожди начинались лишь в апреле. Зима подходила к концу. Я слышал голоса, которые благовестили приход весны. Это были не слова, а звуки. Просто я стал ушами ощущать конец зимы.
Теперь на мольберте был холст десятого формата. Я назвал его «Голос зимы». Он изобиловал красными, желтыми и голубыми оттенками, и тем не менее это была зима. Не знаю, сколько света может принять холст. Свет на полотне казался жестким светом зимнего дня. Мне удалось запечатлеть его на полотне, и не потому, что краски я накладывал ножом. То же самое я мог бы выразить с помощью мастихина или кисти. Не стану утверждать, что тут сгодится любой инструмент, просто решающее значение имеет все-таки не он. Иными словами, то, что стало продолжением моих пальцев, было выбрано удачно. Кстати, если бы я решил рисовать пальцами, я бы скорее всего перестал их ощущать своими. Временами казалось, что стек и нож – части моей руки, порой это происходило с кистью или мастихином.
«Голос зимы» был моим первым полотном после обнаженной Акико. Я его закончил, не ощущая усталости. И кстати, я ни на миг не усомнился, что смогу его закончить. Я написал картину за три дня и воспринимал ее как съеденную пищу – готово, забыто. На четвертый день полотна я почти не касался.
Не скажу, что меня одолевала жажда творчества, но я приготовил очередной холст, «пятидесятку», и выдавил краски. Я никогда не делал набросков для абстракции, прежде всего пытаясь избавиться от всего, что имело подобие формы. Впрочем, это еще не значит, что я не мог рисовать. С изобразительным жанром у меня было все в порядке. Просто, начав писать картины, не облекаемые в конкретную форму, я понял, что мой путь избран – абстракция.
Участь большинства художников – быть пойманным в форму вещей. Немногие из тех, о ком я наслышан, пытались вырваться за рамки форм. Одни добились всемирного признания, других никто не знает, иных и художниками назвать нельзя, и это не имеет никакого отношения к владению кистью и популярности.
Критиковать художников я не умею. Главный вопрос, которым я всегда задаюсь, – что передо мной: произведение искусства или ничто. И если я вижу, что картина не имеет к искусству никакого отношения, то каким бы признанным в глазах общества ни был ее автор, для меня он не художник.
Полотно формата пятьдесят сохраняло девственную чистоту. Я готов был творить, на этот счет у меня не было ни малейших сомнений, просто не видел перед собой объекта, который хотелось бы запечатлеть на холсте. А потом, словно бы издалека, до меня стало доходить нечто похожее на образ.
Восьмого из Токио приехала Нацуэ. Я впился в ее спелое тело – затем лишь, чтобы умерить оголодавшую плоть. С Акико мы больше не спали, а в город, где женщины предлагали свои услуги, я не наведывался. Мне, как никому другому, было известно, что в своих эротических позывах я предельный эгоист. Впрочем, я надеялся, что Нацуэ мне это простит. Женщина делила со мной свою грусть, а я в обмен получал свое удовольствие. У нее твердели соски, вагина спазмически сокращалась, кожа покрывалась мурашками. Я помогал Нацуэ перенести тоску и взамен получал то, что было нужно мне.
– Ты снова начал рисовать, – сказала Нацуэ, спускаясь в гостиную в купальном халате. Она умудрилась переодеться: ее дорожная сумка осталась в машине, в которой она приехала из Токио. На ней был только халат, доходящий до пят. Когда она раздвинула ноги, сверкнула белая кожа на внутренней стороне бедер и черный треугольник паховых волос, блестящих, будто огонь. Мне нравились эти волосы: они полыхали жизненной силой. У Акико, напротив, волосы были тонкие и воздушные, струящиеся вверх подобно дыму.
– Как поступишь с картиной?
– Тебе подарю.
– Я с легкостью ее продам. Американские музеи за ценой не постоят.
– Когда я пишу, то не думаю о том, за сколько уйдет полотно.
– Ты изменился. Теперь, когда мы в постели, ты на меня смотришь. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь: можешь трахать меня, как резиновую куклу, мне все равно будет казаться, что ты меня почти любишь.
– Для меня это слово – пустой звук.
– Уже нет. Начинаешь потихоньку понимать. Я не жду от тебя любви. Другие в пятнадцать – двадцать лет уже взрослые, а ты набирался зрелости все эти годы. И вот, повзрослев в сорок лет, ты встретил настоящую женщину, и ею суждено было стать мне. Не важно, подхожу я тебе или нет, главное – пришла в нужный час.
– Оставь эти разговоры.
– Верно, слова для тебя – пустой звук.
– Вот и молчи.
– Молчу. Я чувствую, как во мне перетекает твое семя, и этого тоже словами не выразить.
– И все равно об этом говоришь.
– Я – живой человек, что с меня взять. Нацуэ засмеялась.
Я присел рядом с ней на диван и стал пить пиво. Обычный день, заведенный порядок, теперь пришла очередь раскупорить баночку.
Неужели я теперь не такой, каким был осенью? Надо признать, жизнь моя действительно изменилась, но такие вещи – не для глаз посторонних. Подумаешь, большое дело: эксцентричный художник проводит зиму в горной хижине.
Впрочем, в отношении моих картин разницу заметил бы любой. Изменилась моя позиция, отношение. Я никогда не корчился в муках, пытаясь определиться с манерой живописи, но стоило встать к холсту, и я отдавался весь, до последней частицы умственной и телесной энергии, и так день изо дня. После этого надо было восстанавливаться, а это не просто.
Муки творчества меня покинули. Было в их отсутствии нечто обманчивое, иллюзорное. Пожалуй, будет верно признать, что я беспокоился. Боялся, что в картинах не осталось ничего, кроме техники. Я понимал, что так тоже создаются абстракции. «Голос зимы» был лишним тому подтверждением. И еще я точно знал, что закончил это полотно. Не надо было заверений Нацуэ – я и так знал, что публика примет его на ура. Раньше у меня было такое чувство, будто я заключен в тонкую чувствительную оболочку, но со временем она становилась все плотнее и толще. И теперь эта некогда бесформенная податливая мембрана напрочь отделила мой внутренний мир от внешнего.
Иногда мне казалось, что со временем потребность в живописи станет напоминать о себе все реже, а затем и вовсе отпадет. Свежая мысль – раньше мне и в голову не приходило перерезать пуповину, соединяющую живопись и жизнь.
– Эту работу заметят.
– Знаешь, мне совершенно безразлично.
– Правда? Интересно. Когда ты писал «Портрет обнаженной», то уж точно не думал о похвале и признании, а вот «Голос зимы» был сделан в расчете на зрителя – пусть на горстку людей или поначалу даже на одного. Может, и на меня, почем знать.
Или на Акико, или Оситу. Лелеял ли я подобные мысли? Рисовал ли я с оглядкой на них?
– Делай с этой картиной что хочешь.
– О чем ты?
– Можешь выбросить. Да, выбрасывай, пожалуй.
– Не в моих привычках оскорблять талант. Картина неплохая, это как минимум. Может, я так считаю, потому что становлюсь вторым тобой. Публика сочтет ее более уточненной и отточенной по сравнению с остальными твоими работами.
– Хватит.
– Я возьму за нее хорошую цену. Правда, того давления, что было с «Портретом обнаженной», я не испытываю, так что покупателя выбирать не буду. Продам первому, кто согласится заплатить.
– Хорошо.
– Знаешь, я ведь все-таки деловая женщина и привыкла пользоваться людьми. Не будь ты гением, думаешь, я бы позволила обращаться с собой, как с девочкой на побегушках?
Нацуэ взглянула на меня и улыбнулась.
Никогда не считал себя гением. Меня в глаза называли талантливым, гениальным, выдающимся, но я всегда считал это чушью. Я в гениальность не верил.
– Отдай мне эту картину. Пусть она маленькая, десятого размера, я продам ее за десять миллионов иен.
Я поднес ко рту пивную банку, из которой по ходу разговора отпивал между делом: она оказалась пуста.








