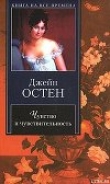Текст книги "Животная любовь"
Автор книги: Катя Ланге-Мюллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Часть I
Жуки
С того момента, как я познакомился с животными, я полюбил растения.
X. Байер, актер
Наша школа представляла собой почти квадратное сооружение из красновато-желтых кирпичей, под крышей которого когда-то прежде располагалась шоколадная фабрика, и часто мне казалось, что это вполне вероятно, потому что некий запах, напоминающий запах ванили, слабый, но назойливо чужеродный, пробивался сквозь привычную вонь мастики и мочи, когда летом вовсю палило солнце, или – хотя и реже – зимой: тут он струился от литых чугунных батарей отопления, с которых я довольно долгое время собирала отслаивающиеся бурые кусочки краски. А еще я собирала дохлых мух с маслянистых мраморных подоконников.
Этих мух я потом, как правило на уроках математики, заслонившись горой учебников, расчленяла с помощью маминого пинцета для удаления волос, а потом раскладывала их членики на кучки: туловища отдельно, головки отдельно, лапки – в особую кучку, крылышки – тоже, и ссыпала их в маленькие разноцветные футлярчики для сигар сорта «Вырви-глаз».
Школа напоминала две коробки, вставленные одна в другую, и та, что поменьше – без крышки, с застекленными отверстиями, предназначенными для того, чтобы дышать и выглядывать наружу, – это и был наш школьный двор, через который всю осень, когда я ходила в шестой класс, рано утром, еще до начала первого урока, неторопливо, бок о бок, пробегали две крысы, пока однажды утром лопата дворника не оборвала жизнь одной из них. Однако вторая крыса не стала в панике убегать, она топталась на месте рядом с убитой в полном смятении, пошатываясь, словно пьяная, она крутилась волчком, и дворник до того был поражен ее поведением, что, держа на всякий случай лопату наперевес, забыв про свои распухшие от ревматизма суставы, присел на корточки, чтобы получше разглядеть оставшуюся в живых крысу. И хотя он смотрел на нее с очень близкого расстояния, но не мог поверить своим глазам или испугался того, что увидел, – в общем, он достал еще и очки, которые вместе с авторучкой ради пущей важности всегда носил в нагрудном кармане своей застиранной, но всегда туго накрахмаленной и выглаженной синей спецовки.
Применив столь мощный арсенал наблюдения, дворник не мог не заметить, что глаза у оставшейся в живых крысы были затянуты белесыми бельмами, мордочка, обрамленная встопорщенными усами, подрагивала и что желтыми передними зубами крыса сжимала веточку, с помощью которой, как выразился дворник, «погибшая товарка вела ее по жизни, как верная собака-поводырь».
До самого конца зимних каникул, когда дворник окончательно ушел на пенсию, Рольф – именно так, в честь марки пильзенского пива и «в память об умершей», как объяснил нам сам дворник, окрестил он слепую белоглазую крысу – жил у дворника в котельной, где ему было тепло и уютно; как, собственно, и нам, когда во время большой перемены нам в качестве особой милости разрешали покормить Рольфа, причем только хлебом, колбасу давать ему было нельзя.
Почти точно посередине квадратного школьного двора стоял – я не могу сказать «рос», ибо то, что, по моим понятиям, подразумевается под словом «расти», происходило практически незаметно, а может, и вообще не происходило, – короче говоря, во дворе стоял дуб летний европейский метров тринадцати в высоту. Тот факт, что дерево считалось дубом летним европейским, был результатом логических умозаключений нашего старого учителя биологии, который, за неимением прочих отличительных признаков, умудрился сделать такой вывод, опираясь только на особенности структуры коры. Ни разу за все десять весен, сколько я ни смотрела на это дерево, на нем не появилось ни одного листочка, оно всегда было голым. Каждый новый побег, едва пробившись, тут же исчезал, подобно фата-моргане, как только кончики широко раскинувшихся ветвей начинали окрашиваться в нежный цвет: гусеницы-златогузки сжирали все почки, быстро и без остатка.
Возможно, тот бедняга-ученый, который этих гусениц открыл, носил фамилию Златогузник или Златогузкер, во всяком случае никакой другой причины называть гусениц таким именем не обнаруживалось, поэтому я до сих пор не могу понять, почему эти твари называются гусеницы-златогузки. Ни у одной из тех, которых я когда-либо видела на дубе, не было золотистого зада, даже желтизны никакой не было, а нити, которые тянулись у них из раздутых задниц, когда они переползали с ветки на ветку или вообще спускались вниз на землю, были светло-серого цвета, как паутина. Но ведь и дерево, у которого все почки, побеги, листья, цветы, желуди – вся жизнь которого воплощена была в этих буро-коричневых, поросших пучками щетинок гусеницах-златогузках, тоже совершенно бессмысленно называлось дубом летним – разве не так?
Иногда некоторые гусеницы падали на землю. Может быть, это были особо слабые экземпляры или же они неловко карабкались по веткам, а может быть, просто хотели куда-нибудь уползти. Этих гусениц тут же уничтожали: их втирали в гравий коваными каблуками ботинок, давили камнями, тыкали палками. Пока мы не доучились до седьмого класса, никому из нас и в голову не приходило ничего другого, гусеницы нас не интересовали, и даже учитель биологии не знал, какие у них бабочки. Потому что эти гусеницы никогда не превращались в куколок, а если и превращались, то где-нибудь в другом месте, – для нас они все равно оставались гусеницами. Или же все происходило за одну ночь: всегда наступало такое утро, когда их уже не было, и мы гадали, то ли их всех кто-то сожрал, то ли они превратились в бабочек и улетели, то ли распались на атомы, рассыпались во прах – все это было просто непостижимо и до того взбудоражило мою фантазию, что однажды весной, в седьмом классе, я достала под партой из кармана вязаной кофточки бабушкин ножик для чистки картошки, взяла пробку от винной бутылки, аккуратно вырезала всю сердцевину, засунула в отверстие трех гусениц, найденных накануне в школьном дворе, и закрыла его решеткой из швейных иголок. Получилась первая в своем роде пробковая тюрьма для животных.
Поначалу изучение поведения гусениц-златогузок в столь причудливых архитектурно-социальных условиях протекало еще более-менее удачно; на большой перемене выяснилось, что моя затея вызвала не только восхищение, но и подражание, и даже мои подопытные, выделяя капельки ядовито-зеленой жидкости, неустанно грызя клещевидными жвалами тесные прутья решетки, протискивая между ними передние лапки и прижимаясь хитиновыми панцирными головками к заграждению из благородной стали, вели себя в точности так, как и должны вести себя заключенные.
У меня была только одна серьезная проблема: я понятия не имела, чем кормить гусениц-златогузок. Я прекрасно знала, что обычно они питаются зеленью дуба на нашем школьном дворе, но эту зелень они уже уничтожили. Возможно, где-нибудь неподалеку, скажем на кладбище или в парке, водились такие же деревья. Но ведь если я найду, например, другие летние дубы, то, судя по тому, что я о них знала, они тоже наверняка объедены догола точно такими же гусеницами. Так что я стала подсовывать моим гусеницам сквозь решетку листья с других деревьев, потом пыталась покормить их травинками, потом – огрызками яблок и свекольными очистками. Но мои гусеницы, явно не способные научиться чему-то новому, всё кусали и кусали только прутья решетки, хотя уже отнюдь не так боевито, как поначалу, и не желали питаться ничем другим, даже друг другом. В конце концов на пятый день эксперимента, около половины третьего, посреди урока немецкого, как раз когда мы писали диктант, заключенные умерли – все вместе и почти одновременно, – причем с момента заключения в темницу и до самой смерти они внешне ничуть не изменились, даже не похудели нисколько.
Когда я пошла в восьмой класс, то в первые дни у меня было какое-то странное настроение. Я часто плакала, причем безо всяких на то причин, тайно покуривая в туалете для девочек. После этой процедуры мне, как правило, становилось легче, но зато усиливалось чувство какой-то пустоты, хотя, надо признаться, я редко использовала туалет по его прямому назначению, чтобы облегчиться в двух общеизвестных смыслах. Пустыми оставались теперь и коробочки от сигар «Вырви-глаз», которые я забросила, проведя все лето в молодежном лагере, да так и не вспомнила о них, и теперь они валялись в том уголке родительской квартиры, который только бабушка продолжала называть детской.
Хотя уроки биологии у нас бывали по расписанию регулярно, и, надо сказать, для большинства из нас это был не самый противный предмет, однажды во вторник, на второй неделе октября, во время третьего урока секретарша директора велела нам всем идти в зал, который использовался редко – только для общих мероприятий. Из-за той тошноты, которую вызывала – по крайней мере у меня – атмосфера всеобщей сходки школьников под девизом «Будь готов – всегда готов!», я прозвала этот зал, изменив первую букву исходного слова, «зал-кал».
В этот вторник на сцене не стояла обычная трибуна для оратора; вместо нее там были поставлены в ряд деревянные, кубической формы ящики, образуя своего рода кулисы; еще там было что-то вроде стола, составленного из школьных парт, похожих на те, что стояли у нас в классе. Пахло немного иначе, чем обычно, – то ли зоопарком, то ли цирком. Почему-то не выступил перед нами директор, нас не заставили петь песню, и никакие клятвы мы тоже не должны были произносить. Нас не стали рассаживать по классам, а разрешили сразу сесть кто где хотел, и мы, ученики старших классов, могли сесть в первые ряды, потому что психованных «мелких», которым мы обычно должны были уступать места впереди, на этот раз, кажется, в зал не допустили.
Какой-то мужчина, которого я никогда раньше не видела, открыл дверь слева от сцены. Откинув тело назад, он сделал комически длинный, но в то же время изящный шаг, одним махом оказавшись у маленькой боковой лесенки, и, высоко вскинув ногу, переступил разом через все три ступеньки, словно лесенка была не подмогой, чтобы подняться на сцену, а напротив – каким-то барьером. Он небрежно подтянул наверх вторую ногу и, подобно опытному гимнасту, даже не пошатнувшись, замер в левом углу сцены.
Только теперь мужчина посмотрел на нас; он рассматривал нас долго, медленно переводя взгляд с одного человека на другого, и так ряд за рядом, с первого до последнего, словно все мы были буквами какого-то текста, а он плохо умел читать или как будто он в уголовной полиции отвечает за поджоги и ему нужно среди сотен переодетых чиновниц отыскать одну – террористку-поджигательницу, и он опознал ее, но выдавать не хочет. Когда мужчина смотрел на меня, дважды подряд, и притом оба раза очень долго, словно я была каким-нибудь особенно неотчетливо написанным удвоенным «с», я сначала пожалела, что не ношу очков, ведь тогда бы я могла их ему одолжить, и мне так захотелось подсказать ему, кто я и что я, но у меня никак не получалось сообразить, как это сделать. Но уже через мгновение мной овладело явственное чувство, будто я и есть та самая поджигательница, которая начинает задумываться о том, не признаться ли ей во всем самой, просто для того, чтобы отвести от него возможное подозрение в сокрытии истины или лжесвидетельстве.
Мужчина попытался улыбнуться. То, что у него получилось, напоминало старую резинку от трусов на моей рогатке, которую я иногда просто так, не собираясь ни в кого стрелять, натягивала от нечего делать: его губы, такие же грязновато-белые, измученные, растянулись от одного уголка немого рта до другого. Глаза же жили словно отдельно от его рта: большие, темные, они почти не двигались, уставившись на нас с каким-то непостижимым стоически-лунатичным выражением, которое я до сих пор так хорошо помню потому, что много лет спустя встретила точно такое же выражение во взгляде другого мужчины, в краткий миг перед оргазмом.
Неожиданно высокий, напоминающий звон стакана под струей воды голос этого не толстого, но и не худого, не молодого, но и не старого мужчины внезапно вывел нас из состояния того гипнотического одурения, в которое погрузили нас его глаза. «Моя дорогая молодежь! – сказал он. – Меня зовут Бизальцки. Я думаю, мы с вами проведем вместе поучительный, но удивительный час».
И тут Бизальцки начал, наконец, распаковывать свои вещи: он доставал прозрачные сосуды странной формы, заткнутые пробками; в них была какая-то жидкость – может быть, просто спирт – и внутри плавали не очень понятные издали, но, кажется, не совсем похожие на рыб существа; вынимал большие и маленькие коробочки, прикрепленные к разделочным доскам скелеты, потом извлек большую круглую корзину с крышкой, сопровождая свои действия пронзительными восклицаниями: «А что у нас здесь, ну-ка!» или «Ох, что мы сейчас увидим!».
Те экспонаты, которые выкладывал на стол Бизальцки, заставили меня предположить – кстати, я, как выяснилось, была почти права, – что он своего рода зоолог-любитель, который, годами наслаждаясь созерцанием своей коллекции, затем принялся кочевать из школы в школу, являя собою коллекционера птиц, рептилий и насекомых и одновременно импресарио своего музейно-фермерского предприятия, ибо он привез с собой, как мы поняли по его красноречивому жесту, указывающему на корзину, не только законсервированных животных, но и кое-что живое.
Объясняя, что именно находится в сосудах, где и как он все это заполучил, Бизальцки пускал колбы и сосуды по рукам. С легким отвращением или с любопытством, иногда с тем и с другим одновременно, мы разглядывали обезображенных консервирующим раствором, поблекших от солнца и электрического света, выглядящих абсолютными трупиками и все же – подобно богемским стеклянным чертикам в бутылке, выдутым вручную, или выскочившим из японских сувенирных раковин бумажным драконам – танцующих в своих текучих могилках какой-то странный танец экзотических лягушек, пещерных мокриц, саламандр, игуан и змей.
«Трюфельку всей коллекции», как причудливо выразился Бизальцки, я не забуду до конца дней своих, если, конечно, болезнь Альцгеймера не освободит меня от этого мучительного воспоминания, – во всяком случае, до начала второй фазы климакса я не смогу этого забыть, как и того невероятного физиологического возбуждения, которое впервые в жизни загадочным образом охватило меня при виде этой консервированной драмы, этого натуралистического примера животной жестокости: в большой, похоже, старинной пузатой банке, на самой поверхности той жидкости, которую Бизальцки называл «особый секретный раствор», покачивались две маленькие, изящные, покрытые сероватой слизью гадюки, которые вцепились одна в другую. Каждая из них почти наполовину заглотила другую с хвоста Но оторвать эту половину ни одной из них не удалось, обе змеи, видимо, так и задохнулись, поперхнувшись половиной тела своей соперницы.
За картиной битвы и смерти змей последовали сосуды с «компотом», но я больше ничего не способна была воспринимать, слишком уж занимало меня подозрение: а что, если не только спиртовой раствор, но и вся эта сцена взаимного пожирания – дело рук самого Бизальцки? «Компот» – этот сбивающий с толку кулинарный термин, как обозначение всего многообразия погруженных в раствор или нырнувших в него, а может быть, брошенных туда в мертвом виде, лежащих на дне или плавающих на поверхности бывших представителей всевозможных семейств лягушек, саламандр и гадов, горячим шепотом произнесла моя соседка, вечно голодная каланча из седьмого «Б», когда я положила ей на колени последний экспонат – двухлитровую банку с медузоголовыми розовато-белыми аксолотлями.
Завершив показ банок с консервами в растворе, Бизальцки начал торжественно снимать крышки с квадратных коробочек и, опять пустив коробочки по рукам, стал знакомить нас с совсем другим методом консервирования: в коробочках под демонстрационным стеклом, расположившись ровными рядами и столбиками, хранились мумифицированные трупики палочников, богомолов, кузнечиков, древесных клопов, майских и навозных жуков, жуков-оленей и жуков-носорогов, а также всех отечественных дневных и ночных бабочек. «К сожалению, пока неполную, но весьма значительную коллекцию тропических бабочек и других насекомых», которая «тоже, разумеется», является его «собственностью», он решил с собой не брать, потому что она «слишком дорого стоит», чтобы демонстрировать ее «на столь скромных подмостках», сказал Бизальцки, и интонация, с которой он произнес эти слова, была вовсе не надменной, а скорее извиняющейся, но был в ней и оттенок досады, потому что мы проявили к этой части представления весьма умеренный интерес.
Несмотря на это, Бизальцки после демонстрации насекомых, которые по сравнению с первой частью показа вызвали только скуку, – возможно, исключительно для подготовки драматической кульминации своего спектакля – устроил еще и тягостную, сухую, как скелет, демонстрацию костей.
Весь исполненный сдержанности, упиваясь позой непризнанного, но зато абсолютно непреклонного исследователя, Бизальцки велел нам подойти к краю сцены. Там мы должны были стоять неподвижно, пока он с помощью китайской палочки – их ему якобы вручил один азиатский коллега, но, много вероятнее, он еще до войны стянул эти палочки в каком-нибудь китайском ресторане – не укажет на каждый из двадцати двух птичьих скелетов, белесые пористые части которых были соединены между собой с помощью проволоки, не назовет их латинские названия и не объяснит про них все досконально.
Уже в третий раз прозвенел звонок на перемену, «поучительный, но удивительный час вместе», о котором говорил Бизальцки, давно истек, да и солнце давно уже прошло точку зенита. Теперь оно таращилось на нас сквозь грязные стекла окон с двойными рамами и отвалившимися задвижками, косыми лучами освещая наши сгорбленные спины. Мы уже и шептаться-то перестали, вот до чего он нас довел. А Бизальцки невозмутимо читал свою лекцию дальше, словно магнитофон проглотил.
Прошла еще бездна времени, и тут я подумала: а почему этот Бизальцки не привез с собой ни одного чучела, с натуральными перьями и стеклянными глазами, хотя бы такое, как та растрепанная, пыльная, слабо напоминающая настоящую птицу мухоловка, которую я однажды нашла среди всякого малопонятного хлама в кабинете биологии, когда меня наказали и я должна была делать уборку в школе. Эту мухоловку я тогда стащила, посадила на дерево и наблюдала, как с ней яростно расправляются воробьи. Но все эти бесконечные кости какого-то вымершего, истребленного или находящегося под угрозой истребления стервятника напоминали мне разве что жалкие остатки жареного цыпленка, те косточки, которые я высасывала и облизывала дочиста, а под конец только в отчаянии урчала, как урчит у меня в животе пойманный в ловушку голод, натыкаясь на пустые стенки желудка.
Мы с такой обреченностью погрузились в пучину монотонного рассказа Бизальцки, что почти испугались, когда его рука, судорожно сжимавшая китайскую бамбуковую палочку, наконец опустилась, дойдя до правого края стола, где находился скелет последнего представителя той банды обреченных на заклание птиц, которые, словно сторожа, охраняющие особо ценный товар, стеной встали между Бизальцки и нами.
Трое мальчишек, стоявших рядом с выходом слева, пытались среди воцарившейся тишины бесшумно, на цыпочках, выскользнуть из зала. Я вытянула шею и одними глазами следила за их движениями, которые были легки, точны и ловки, словно у танцовщиков, изображающих леопардов в корейском фильме-балете для детей, который я видела, но ничего не поняла. Но зависть к ним у меня в душе быстро сменилась унынием и грустью. Я вдруг осознала, почему мне никогда не придет в голову спасаться бегством, причем совершенно неважно, в какой ситуации: мое глупое, страдающее припадками ярко выраженного безрассудства и при этом полностью выходящее из-под контроля тело сковывало меня и становилось непреодолимым препятствием.
Удалось ли тем троим мальчишкам прокрасться к двери и вырваться наружу, или же они оставили свое намерение, наблюдал ли за ними, кроме меня, еще кто-нибудь из «учащихся личностей» – как называл нас Бизальцки, – а может быть, не просто наблюдал, а даже собирался поступить так же – не помню. От внимания Бизальцки, у которого инстинкты охотника за мелкой дичью были в рабочем состоянии, этот индейский маневр беглецов, конечно, не ускользнул. Иначе зачем ему было с такой одновременно угрожающей и умоляющей интонацией произносить: «Ми-и-инуточку, пожалуйста!», растягивая «и» и делая на нем особый акцент? Когда сразу после этих слов я повернула голову к Бизальцки, большая круглая корзина с крышкой уже стояла посреди птичьих скелетов, которые были сдвинуты в сторону и теперь уже явно не играли никакой роли.
По-прежнему было тихо, до того тихо, что мне показалось, будто стенки корзины – может быть, оттого, что ее только что подняли наверх, а значит, трогали руками, – короче говоря, мне стало казаться, что я слышу тихое поскрипывание ивовых прутьев – время от времени, через неравные промежутки. При этом у меня возникло какое-то неясное предчувствие опасности, которое погрузило загадочный скрип в оглушительный грохот, звучавший у меня в ушах и напоминавший соло барабанов в цирке перед последним тройным сальто канатоходца, – но, наверное, это просто сердце застучало у меня сильнее обычного и от этого кровь запульсировала в висках.
Бизальцки снял с корзины крышку, я привстала со своего места. Бизальцки положил крышку на пол у своих ног, снова распрямился и, делая круговые движения головой, словно избавляясь с помощью гимнастики от излишнего напряжения шейных мышц, оглядел ряды публики, потом по локоть погрузил руки в корзину, мгновение помедлил и извлек на свет гигантскую змею, придерживая ее обеими руками.
Лежащая в виде горизонтальной синусоидальной кривой рептилия на ладонях у Бизальцки представляла собой, как он объявил, тринадцатилетнюю, а может быть даже четырнадцатилетнюю, еще не достигшую взрослых размеров амазонскую анаконду, длина которой на тот момент составляла ровно два метра двадцать восемь сантиметров. Довольно крупная голова анаконды походила своей сердцевидной формой, а также цветом – как тускло поблескивающий графит – на обтянутый фольгой иностранный шоколадный сувенир, который я в этом году подарила своей бабушке на день рождения, но она его даже не попробовала, а при первой же возможности передарила толстому соседскому малышу, потому что как раз четвертого января этого года она узнала, что у нее сахарный диабет.
На голове у анаконды слева и справа виднелись вспухшие бугорки почти черных, обтянутых стеклянисто-прозрачной кожей безбровых глаз, к тому же казалось, что она постоянно ухмыляется, потому что складка кожи от тесно сомкнутых челюстей шла у нее до самой впадины под подбородком, а из середины щели между челюстями иногда высовывался напоминающий разветвление вен или веточку коралла длинный, раздвоенный темно-красный язык.
Змея Бизальцки была не первой в моей жизни, раньше я уже несколько раз видела змей. Видела однажды сразу трех только что вылупившихся обыкновенных ужей, потом разных других ужей, медянок, гадюк, гигантских тропических змей и удавов в террариуме, в Тропическом павильоне при зоопарке. И все-таки у этой змеи общим с ними было только то, что все они годились на дамские сумочки, – факт, вызывающий отвращение у большинства любителей животных. Эта змея одновременно была свободна – и поймана, совершенно реальна – и полностью абсурдна, ну, скажем, как если бы ручная амазонская анаконда появилась в политехническом институте.
Бизальцки что-то прошипел анаконде, которая потянула голову к его губам, – казалось, он хотел утихомирить грудного младенца Но анаконда по своим повадкам на грудного младенца была вовсе не похожа С полным спокойствием, не оказывая никакого сопротивления его манипуляциям – а такое сопротивление обычно бывает свойственно животным – и, похоже, соглашаясь с его действиями, она легла вокруг шеи Бизальцки в виде воротника. То, как она свисала с плеч Бизальцки, оплетясь вокруг его затылка засунув кончик хвоста в нагрудный карман его жилета, закинув головку назад, выглядело, пожалуй, безобидно или даже беспомощно, несмотря на всю силу, которую излучало ее гладкое тело, несмотря на то и дело молниеносно высовывающийся раздвоенный язычок и на застывшие глаза-жемчужины, – все это было, наверное, даже мило или, возможно, немножко смешно и забавно.
«Ну, – произнес Бизальцки каким-то низким, не своим голосом, словно святой Николай, который хочет проверить, как к нему относятся дети: больше радуются или больше боятся, – ну, кто из вас хочет взять в руки эту красотку?» «Ни-и-икто-о-о!» – раздалось в ответ на разные голоса.
И только я, одна-единственная, закричала: «Я хочу! Я!» Я настолько торопилась, что не пошла по ряду ни влево, ни вправо мимо ошарашенных школьников, чтобы выбраться в проход, а полезла прямо через спинки кресел второго и первого ряда к сцене.
Раскинув руки, вытянув шею и набычившись, в полной готовности любым способом принять анаконду – неважно, взять на руки или водрузить себе на шею, – я встала напротив Бизальцки, который держал змею, и сказала командным тоном, как будто никаких соперников у меня и быть не может, и одновременно так умоляюще, словно меня одолевает внутренняя уверенность, что я недостойна этого чуда, – короче, я еще дважды повторила: «Я! Я!»
Бизальцки со строгой озабоченностью и подобием какой-то священной торжественности окинул взглядом мою голову, схватил анаконду и одним умелым плавным движением рук, но с трудом, поднял ее в воздух. Он стоял, широко расставив ноги, с гордым выражением лица, и вовсе не похож был теперь на ученого, нет, он напоминал «Кукимуру, сибирского колдуна, разрывающего оковы», или богатыря из номера «Пять Лаокоонов» в цирке «Джипси», или Георгия-Победоносца, повергающего змея, или их всех вместе.
Несколько мгновений – но по моим ощущениям очень долго – Бизальцки медлил, а мы в замешательстве ждали, что будет. А он словно ждал какого-то внутреннего толчка, но наконец вдруг тигриным прыжком рванулся ко мне и медленно, торжественно возложил змею на мои покорно опущенные плечи, словно это был лавровый венок победителя. Если бы анаконда была мертва, как змей Святого Георгия, тогда этот шланг длиной два двадцать восемь был бы для меня солидным грузом, это точно. Но змея, несмотря на то что мы с ней проделывали, чувствовала себя явно очень хорошо; во всяком случае она точно была живая, хотя поначалу почти не шевелилась – видимо, Бизальцки на всякий случай покормил ее перед представлением. Она прикасалась к голой коже у меня на шее, и я чувствовала, как она дышит, ощущала, как под холодной чешуйчатой змеиной кожей пульсирует жизнь, ее собственная жизнь, но, может быть, еще и жизнь проглоченной целиком на завтрак какой-нибудь белоснежной крысы.
Возможно, от меня исходил незнакомый запах или змея просто заскучала и ей захотелось что-то предпринять – кто его знает. Известно одно: змея поползла вверх. Напрягая всю силу своих мышц, из которых она, собственно, и состояла, анаконда поднимала свое гибкое, стройное тело, отделяя его от моего, и, вопреки законам всемирного тяготения, устремлялась ввысь, пока ее тело не встало вертикально, балансируя на двух выпирающих позвонках у меня на затылке.
Честное слово, на мгновение я поверила, что это пресмыкающееся, которое согласно своей принадлежности к рептилиям должно ползать, обладает такой силой, что может на доли секунды, а возможно, и на несколько минут полностью преодолеть гравитацию и воспарить над землей, словно йог в автогипнотическом трансе, и подняться еще выше, до круглых шаровидных ламп на потолке этого зала-кала, пролететь сквозь потолок, мимо облаков, мимо Солнца, мимо Луны, прочь из атмосферы, пока не доберется до того пространства, где никакой силы тяжести нет, и будет блуждать по Вселенной в виде созвездия Змеи – знака зодиака, видимого только людям, во Вселенной рожденным.
Голос Бизальцки опустил нас с этих звездных небес на землю.
«Все, достаточно, достаточно», – прокричал он своим обычным пронзительным, стеклянно-стаканным голосом. Едва успело это «достаточно» дойти до моих сопротивляющихся внешним шумам барабанных перепонок, как Бизальцки с вороватой ловкостью протянул свои цепкие пальцы к анаконде, за несколько мгновений до того, когда она, казалось, должна была оторваться от моего тела, и тогда псевдоакробатические прыжки Бизальцки позволили бы ему ухватить лишь ее узкую длинную тень.
Мне стало грустно, хотя я испытывала и облегчение. Конечно, Бизальцки меня освободил, но слишком рано и вовсе не от того, от чего надо было. Опустив глаза, не слыша обращенных ко мне одной восхищенных возгласов, не слыша ликующего свиста, я брела, совершенно оглушенная падением из межзвездного пространства назад на землю, неся в душе оттиск змеиных чешуек, назад к своему месту в середине третьего ряда, мимо пятнадцати или двадцати школьников, которые поочередно вскакивали, стараясь не мешать мне, пока я шла мимо них.
Каланча из седьмого «Б» обняла меня за шею – наверное, чтобы дать мне понять, что и она тоже считает, что я совершила геройский поступок; может быть, она чувствовала, как сильно мне не хватает чего-то такого, что было у меня там, на сцене. Рука каланчи мягкой тяжестью повисла, касаясь моей груди; мне хотелось сидеть вот так долго и не двигаться, и я подумала – наверное, от голода, который снова дал о себе знать, – что от «фальшивой змеи» примерно столько же удовольствия, как и от «фальшивого зайца»[1]1
Простое блюдо из рубленого мяса.
[Закрыть] или от «холодной собаки».[2]2
Десерт из печенья, кокосового масла и какао.
[Закрыть]
Бизальцки придерживал пальцами правой руки кончик хвоста анаконды, которая сворачивалась кольцами, и, преодолевая сопротивление змеи, запихивал ее обратно во мрак большой бельевой корзины. «Вот так, – сказал Бизальцки, завершающим жестом окончательно закрывая крышку корзины. – Конец представлению, всё, больше ничего не будет. А сейчас будьте так добры, достойно, без шума очистите, пожалуйста, территорию. Всего доброго, до новых встреч».
«Какую территорию?» – подумала я, и потом: «Когда же будут эти новые встречи?» Но тут уже послышалось шарканье множества ног, заскрипели стулья, раздались стоны и возгласы, их становилось все больше и больше; выпущенная на волю публика встрепенулась. Каланча из седьмого «Б» освободила меня из своих объятий, но тут же схватила за руку, которая безвольно болталась, свесившись с подлокотника, и потянула меня за собой, как тащит усталый дошкольник свою новую большую мягкую игрушку.