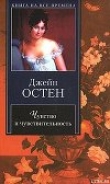Текст книги "Животная любовь"
Автор книги: Катя Ланге-Мюллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Хотя мы с нею выходили из зала медленно и были, кажется, последними, мы все-таки уже почти успели добраться до распахнутой двери в коридор, когда кто-то сзади легонько хлопнул меня по спине между лопаток. Уже готовая наорать на обидчика, я резко обернулась. Передо мной снова стоял Бизальцки. «Иди-ка, голубушка, одна», – сурово сказал он каланче из седьмого «Б», и та меня мигом отпустила.
Бизальцки отступил на шаг и стал разглядывать меня с ног до головы, как делала иногда моя бабушка, говоря, что я расту «быстро, как тот толстый тополь во дворе». Но Бизальцки заговорил совсем о другом: «Ну и как впечатление?» «От чего?» – спросила я. «От чего, от чего, – передразнил он, – от анаконды, конечно!» Я не могла понять, почему Бизальцки по поводу моей встречи с анакондой так уверенно говорит «конечно», но, чтобы ему не показалось, что я смущена или вообще тупая, я довольно быстро нашлась и ответила: «Прекрасное впечатление!» «Вот как, прекрасное? Ну и прекрасно, – немного иронично заявил в ответ Бизальцки и спросил: – А по биологии у тебя что?» «Пять», – потупившись, скромно ответила я. «Значит, ты любишь животных?» – сделал вывод Бизальцки, словно ботаники, явно лучшей половины всей этой науки, и вовсе не существовало. Но я тем не менее ответила: «Да, – и потом, до сих пор не могу понять почему, добавила: – Например, люблю мух, крыс, гусениц-златогузок». Тут даже Бизальцки не мог скрыть своего удивления. «Ну, в общем-то, да, понимаю, – наконец сказал он. – Но эта гусеница-златогузка – наказание одно, у нее бабочки такие некрасивые, никчемное, абсолютно никчемное существо, для коллекции это пустое место». «А я никогда златогузниц и не видела, всегда только гусениц», – сказала я. «Нет, девочка моя, – назидательно произнес Бизальцки, – она называется не златогузница, такое окончание годится только для дневных бабочек: капустница, траурница, крапивница. А из кокона гусеницы-златогузки выходит маленький ночной мотылек-коконопряд, гузка у него такая коричневатая, живет он совсем недолго. А вообще я эту бабочку-златогузку никогда еще живьем не видел. Ну ладно, ты лучше вот что мне скажи: если вся эта нечисть – мухи, крысы, даже гусеницы – греет тебе сердце, если анаконда не вызывает у тебя отвращения, а биология наверняка твой любимый предмет, тогда, может быть, ты захочешь отправиться вместе со мной в экспедицию, весной, когда зацветут деревья? Ты сможешь охотиться вместе со мной на мелких зверьков, ловить бабочек, собирать жуков и прочих насекомых, подкарауливать ужей, проводить время на берегах ручьев, среди нагретых солнцем камней в поле. Скажи мне, как тебя зовут, и я дам тебе знать, когда пора будет отправляться в путь».
«Хорошо, договорились», – пробормотала я и, не поднимая глаз и не говоря больше ни слова, бросилась к выходу. Я чувствовала, что щеки у меня горят огнем, в ушах шумит и от этого кружится голова. Чего хотел от меня этот дядька? Утащить меня, бросить прямо в логово природы, ко всем этим травяным клопам, кротам, мокрицам, – почему уж тогда сразу не к ядовитым грибам? Он раскинет над тобой гигантский сачок для ловли бабочек, запрет тебя в банку для препаратов, усыпит хлороформом, расправит как следует, и потом начнется: распялит, зафиксирует, проткнет булавками, пригвоздит к месту, приклеит к холодному дну глубокой, гигантской коробки.
Все это и еще более страшные картины – причем я уже знала, что это примерно означает, – проносились у меня в голове, пока я шла по коридору, спускалась по лестнице, пересекала школьный двор. Я прошла через арку ворот, повернула направо и пристроилась к хвосту очереди: люди ждали конца перерыва в булочной.
За полцены я купила три «американки»[3]3
Выпечка в форме башенки из сдобного теста с глазурью.
[Закрыть] вчерашней выпечки, две съела по дороге, а третью доедала, сидя на скамейке в парке под каштаном и пытаясь всё забыть.
В последующие месяцы я практически не вспоминала о Бизальцки и о его странном предложении, и только амазонская анаконда то и дело бередила мои чувства – нет, скорее наоборот: мои чувства, они одни, напоминали мне о ней. И тогда, утром ли, когда я только что встала, или если я просто так где-нибудь сидела и скучала, у меня появлялось ощущение, будто змея, подобрав свой впалый живот, снова стоит на моих шейных позвонках, сворачиваясь в широкий обруч, а я помогаю ей удерживать равновесие, едва заметно покачиваясь – туда-сюда, туда-сюда… Я знала: стоит мне схватить себя за затылок, и эти галлюцинации прекратятся. Но я не протягивала руки к затылку, пока мне не становилось совсем больно или пока бабушка не хватала меня за плечо, тряся и приговаривая: «Ну ты же все-таки не цирковой тюлень!»
Однажды в начале мая следующего года, а мне между тем уже исполнилось четырнадцать, секретарша нашего директора вызвала меня с урока немецкого. Я не имела ни малейшего понятия, зачем меня вызвали; за все то время, пока я поднималась наверх, в апартаменты директора, мне так ничего в голову и не пришло. Не говоря ни слова, но с властным видом секретарша бежала впереди меня, и я уже начала задавать себе вопрос: не собирается ли директор устроить мне персональный допрос, и если да, то по какой причине, но я не могла припомнить ни одного своего проступка, который был бы настолько серьезен, чтобы оправдать эти чрезвычайные меры. Секретарша протащила меня через распахнутую дверь к массивному письменному столу и поставила прямо перед ним. Что находилось на столе, мне было не видно, все заслоняло какое-то растение с мелкими листочками, побеги которого, видимо, уже в течение многих лет беспрепятственно оплетали переднюю часть письменного стола и его правую ножку.
Директор появился в кабинете бесшумно, возможно у него были мягкие тапочки. Я заметила его только тогда, когда он, не произнося ни слова и не глядя на меня, проскользнул мимо меня и уселся за свой стол.
Наверное, руководитель нашей школы только что побывал в туалете, в том самом, где двери запираются на ключ и куда имеют право ходить только преподаватели, а может быть – в своем личном директорском туалете, и, как и у нас в туалете, ему нечем было там вытереть руки, потому что, перед тем как сесть за стол, он несколько раз обтер ладони о свой расстегнутый синий пиджак.
Но вот наконец директор посмотрел на меня, неприязненно, мельком, словно я какая-нибудь щетка для натирки полов, которую наша уборщица, становясь в старости все более забывчивой, опять забыла убрать. Я знала, что теперь настала моя очередь.
«Добрый день, господин директор», – промолвила я и снова замолчала. Ученик обязан поздороваться первым, но за этими словами не должно следовать никакого текста, открыть рот он имеет право еще только один раз – когда прощается.
«Фамилия», – приказным тоном произнес директор. Я сказала, как меня зовут и из какого я класса. Правой рукой директор выдвинул ящик письменного стола, порылся в нем и швырнул на полированный стол красного дерева какой-то светло-коричневый, весь исписанный, франкированный, проштемпелеванный со всех сторон и уже вскрытый конверт. «У вас дома что, нет почтового ящика?!» – заорал директор. «Есть», – ответила я. «Тогда будь добра, сообщай своим поклонникам ваш адрес. Ты вообще представляешь, что будет, если все мои ученики будут получать свою почту через меня, или ты считаешь, что я ваш почтовый голубь?»
Директор замолчал и через стол пододвинул ко мне конверт. Я предпочла оставить пока конверт на столе и не трогать его, и у меня хватило осмотрительности, чтобы не отвечать на последний вопрос директора, который, весьма вероятно, был риторическим. Я вообще опустила глаза и перестала на него смотреть.
«Ну давай, бери письмо, наконец, и марш обратно на урок!» – приказал директор.
Я взяла в руки конверт, который и вправду был разрезан сбоку каким-то довольно тупым ножом или чем-то подобным, сунула его, словно грязный носовой платок, за пояс джинсов и, пробормотав положенное «До свидания, господин директор», повернулась к двери, которая по-прежнему была распахнута настежь.
«Минуточку!» – бросил директор мне вслед, прямо в мою пригнувшуюся, устремленную вперед спину. Это было точно то же самое слово, которое когда-то произнес Бизальцки, но в устах директора оно звучало куда коварнее, даже с какой-то подковыркой, словно он разыгрывал из себя комиссара, который только притворился, что допрос уже окончен.
Мне пришлось опять развернуться, причем я знала: директор ждет, когда я преодолею смущение и осмелюсь поднять на него глаза; только после этого он продолжит разговор.
Мне все-таки удалось взглянуть на него, потому что на мгновение у меня появилось чувство, что какая-то незримая, сильная рука хватает меня за волосы и откидывает голову назад. На этот мой единственный взгляд директор среагировал как старый клоун, которому подали реплику, или как радио, когда нажали кнопку: «Кто, собственно, такой этот Бизальцки?» – спросил директор с притворным равнодушием.
Скорее удивленная, чем испуганная, стояла я, не произнося ни слова, приоткрыв рот, как канарейка, которая собиралась искупаться, но всю воду из птичьего бассейна внезапно вылили. Так, значит, отправителем письма, которое уже пригрелось у меня за поясом, притерлось и больше не хрустело, был не кто иной, как Бизальцки? Неужели директор не по недоразумению, а намеренно вскрыл письмо? Он что, прочитал его, или же фамилия «Бизальцки» значилась на конверте?
«Ну так что?» – в крайнем нетерпении вскричал директор и начал беспорядочно барабанить пальцами по красному дереву.
«Чего вы от меня хотите?» – ответила я, значительно более дерзко, чем собиралась и чем мне – судя по опасной складке, которая пролегла меж бровей директора, – было позволено. Но я все-таки продолжила все тем же возбужденным тоном: «Господин директор, разве вы не помните? Этот Бизальцки был здесь, у нас, прошлой осенью, он показывал нам свою коллекцию: заспиртованных ящериц, птичьи скелеты, бабочек и всякое такое. Я еще живую змею на шее держала».
«Опять пошло вранье, – сухо сказал директор, – но что поделаешь, в четырнадцать-пятнадцать лет все начинают врать. Гормоны роста, да, это они сбивают с толку, все становится с ног на голову».
Говоря эти слова, директор в какой-то момент перестал барабанить по столу, его руки, причем обе, исчезли под столом. Теперь он сидел как-то немного сгорбившись, шумно дышал, словно после спортивной тренировки, впившись в меня расширенными зрачками своих глаз, и выражение этих глаз было в тот момент очень мрачным. Потом он отвел глаза и приказал: «Всё, иди. На сегодня я тебя отпускаю».
Когда я, лелея надежду, что теперь-то мне наконец удастся отсюда уйти, повернулась к двери, там стояла секретарша, причем, наверное, уже давно, судя по тому, что на губах у нее играла та самая, знаменитая нервная улыбка, прикрытая толстыми свисающими щеками, которые на более высокой стадии нетерпения она порой сильно раздувала.
«Весь твой класс, все, кто там, внизу, сидит, на следующем уроке наверняка будут писать какую-нибудь идиотскую работу, а тебя директор отпустил», – сказала я себе самой, медленно спускаясь по лестнице. Было очень тихо, я была одна и совершенно свободна. Я почувствовала, как становлюсь безразличной, или мятежной, или безмятежной. Я уже ничего не соображала, я хотела вырваться наружу, на улицу, неважно куда, как и что. Позже, когда-нибудь, я вернусь назад, домой, снова приду в школу, но не сейчас.
Под каштаном, в тени которого была проглочена уже не одна «американка», я сняла туфли и вытащила из-за пояса письмо. Письмо действительно было от Бизальцки, очень короткое и отпечатано на машинке. Только два имени Бизальцки написал от руки: мое – вверху и свое – внизу. Хвостик от последнего «и» в имени «Бизальцки» длинной волнистой линией протянулся на пол-листа до самого правого края.
Бизальцки просил меня приехать в ближайшее воскресенье в семь утра на вокзал в Б., расположенный вблизи орошаемых полей. Он будет ждать меня в течение десяти минут, не более.
Я сложила письмо Бизальцки так, что оно превратилось в маленький квадратик – словно это была одна из тех школярских записок, исписанных подлыми доносами, которыми мы тайно обменивались. Я смотрела на свои пальцы, ногтями с силой прижимая края перегибов неподатливой бумаги.
Ну что ж, значит, этому самому письму с приглашением в стиле повестки, написанному тоном воинского приказа с распоряжением явиться или выдвинуться в поход, с очаровательным оттенком принуждения, – вот ему-то и суждено стать основанием для моего первого свидания с существом мужского пола, со старым нелепым растрепой, у которого и имени-то никакого больше нет, кроме как Бизальцки, да и отзывается он на него, только если отец родной его позовет, а отец, наверное, уже давно умер.
Я не знала, какое чувство во мне преобладает – разочарование или волнение – и отчего я больше волновалась: от возмущения или просто надеялась, что Бизальцки написал письмо в таком тошнотворно приказном тоне от смущения или, может быть, учитывая мой юный возраст и соблюдая конспирацию.
В черепушке у меня, поверх раскаленных углей фантазии, варилось что-то такое, что мне абсолютно точно не нравилось, причем неважно, под каким соусом я пыталась все это себе преподнести.
Как обычно в таких вот безвыходных ситуациях, я хотела для начала спрятать причину моего мучительного состояния, в данном случае письмо Бизальцки, в укромное место, где хранилась уже куча свидетельств моих неразрешимых проблем: то есть в свой портфель. Довольно долго я соображала, где он сейчас, пока не вспомнила, – и с удивлением отметила про себя, что никакая паника меня не охватила, да-да, мне было, как выяснилось, абсолютно все равно, окажется ли мой портфель завтра в классе, возле моего места в среднем ряду, где я его оставила, или нет.
Я вскочила, засунула мятый комок, в который превратилось письмо Бизальцки, обратно в конверт, а конверт – за пояс джинсов, которые сзади оказались абсолютно сырыми. Зад у меня совершенно заледенел, ноги тоже ничего от холода не чувствовали, и такими же мокрыми, но хотя бы теплыми руками мне пришлось натягивать на ноги размякшие от росы туфли.
Те фонари, которые пока еще никто не успел расколошматить, уже зажглись, я медленно тащилась вдоль домов, их шершавые стены на ощупь были такие же теплые, как кончики моих пальцев, и добралась до угла улицы, на которой жили мои родители и мы с бабушкой.
Бабушка сидела в нашей общей с ней спальне, в полумраке, слушала «Мадам Баттерфляй» и потягивала яичный ликер для диабетиков. Я потерлась щекой о ее круглое плечо, закутанное в шерстяную кофту грубой вязки, и спросила, не сможет ли она до воскресенья дошить мне платье из перлона с узором в виде географической карты. Бабушка тихонько подвывала – она всегда так делала, когда слушала музыку и пила ликер. Ее морщинисто-нежная, влажная щека притронулась к моему лбу, она кивнула, а потом оттолкнула меня.
«Да» моей бабушки решило все дело. Вот в этом новом перлоновом прикиде я и отправлюсь, ну, туда, на встречу с Бизальцки.
Поезд еле тащился, как бывало всегда в выходные дни, и это майское воскресенье не оказалось исключением. Но все равно без пятнадцати семь, опередив Бизальцки, я была уже на вокзале в Б.
Солнце светило, но пока еще не очень пригревало. Запахи коровника и свежей земли, долетавшие с полей, перемешивались с теми, которые струились у меня из-под мышки: мыло «Любимое» и свежий пот. Я заглянула в вырез своего платья и решила посмотреть, как у меня бьется сердце; оно билось сильно, но ровно, и хотя я уже тогда считала, что это биение целиком зависит только от моего дыхания – даже если я дышу совсем не глубоко, – я стала смотреть, как от биения сердца ритмично приподнимается и опадает моя левая грудь. Свое сердце я воспринимала как сильное, похожее на хищную раковину, маленькое и, в общем, механическое нечто, которое способно жить только внутри меня и в то же время ведет совершенно самостоятельную жизнь.
Какая-то низкорослая тетка в спешке толкнула меня плечом, я подняла, наконец, глаза и оглянулась. Там, сзади, посреди зала ожидания, стоял Бизальцки и ждал, когда я к нему подойду.
На голове у него была кепка из мягкой кожи, козырек был свернут набок и свисал над правым ухом, из-под шерстяной куртки без пуговиц торчал мятый ворот неглаженой светло-желтой рубахи, которая была расстегнута до середины груди, и под ней виднелось что-то похожее на мех. В первый момент мне показалось, что Бизальцки притащил с собой какое-то животное – морскую свинку или черного котенка – и засунул под рубашку, прямо на голую грудь, но это были просто густые волосы.
Остальная одежда Бизальцки выглядела так, как я и ожидала: внизу, под бриджами в коричневую и бежевую клетку, сшитыми на английский лад, которые правильнее было бы назвать панталонами, виднелись защитного цвета гольфы, обтягивавшие его мощные икры, а на ногах были сандалеты из грубой кожи. Грудь крест-накрест пересекали два ремня; на одном, более коротком, висел полевой бинокль, на длинном – алюминиевая ботанизирка, напоминавшая солдатский котелок или же посуду из фабричной столовой, да и брякала она точно так же, когда Бизальцки, наконец, сделал несколько шагов мне навстречу.
Он остановился прямо передо мной и, прижав локоть правой руки к телу, выбросил вперед ладонь для приветствия, и лопаточка толстых пальцев, напоминавшая тесно спрессованные сосиски в вакуумной упаковке, оказалась ровно на уровне моей груди.
В ответ я протянула свою руку, схватила ладонь Бизальцки – довольно неловко схватила, потому что места было маловато, – и пожала ее, что для него было, похоже, полной неожиданностью, так как его рука ответила на мое рукопожатие только тогда, когда я уже отдернула свою.
«Ну что ж», – сказал Бизальцки после короткой неловкой паузы; видимо, он хотел, чтобы его возглас прозвучал бодро, но получилось что-то вымученно-сиплое, словно он понятия не имел, что ему теперь делать со мной среди этой бескрайней местности, среди чахлых кустов и топких полей с ручейками навозной жижи.
Я молчала, и Бизальцки, как мне показалось, наугад выбрал какое-то направление. Я пошла за ним, стараясь не отставать, но и не забегать вперед, чтобы видеть его лицо хотя бы сбоку.
Довольно долго, наверное часа два, мы бежали либо друг за другом, либо рядом, не обменявшись ни словом, словно посторонние.
Я, в общем-то, смотрела только на Бизальцки; то, как он вышагивал, выбрасывая вперед длинные ноги, пружинисто сгибая колени, но ступая по земле с величайшей осторожностью, словно под ним была зыбкая почва, заложив руки за спину, низко наклонив вперед голову и механически кивая, напоминало мне либо заводную курочку, либо известное в свое время изображение Ленина в Финляндии, когда он позирует фотографу, пытаясь выглядеть великим мыслителем, который прогуливается, погруженный в решение важных проблем.
Ни единого раза Бизальцки не посмотрел на меня, неотступно глядя на дорогу перед собой.
То и дело он садился на корточки, когда замечал что-нибудь интересное, явно не предполагая, что это может заинтересовать и меня. Издавая малоинформативные звуки вроде «о-о», «ах», «ничего себе», он хватал найденное пальцами или вырывал из земли и тут же складывал в свою алюминиевую банку – неважно, было ли это «нечто» животного, растительного или вовсе не природного происхождения. В эти моменты, которые, впрочем, случались не часто, я от скуки начинала воображать, будто мне повстречалось изгнанное людьми из своего круга, неразборчивое от голода и уже почти обезумевшее человеческое существо, но я ни в коем случае не должна помогать ему в поисках пищи, иначе оно заметит меня, нападет, умертвит и сожрет. Но всерьез углубиться в эти фантазии я не могла. Я ведь понимала, что Бизальцки обо мне попросту забыл. Мое перлоновое платье с глубоким вырезом, а также я сама и хорошая погода – короче, абсолютно все, что не было ползучей тварью или хотя бы не производило хлорофилл, было для Бизальцки пустым местом, то есть ему было наплевать почти на весь мир.
Меня стал мучить голод, я ужасно хотела пить, болели ноги в новых дешевых туфлях; но моя боязнь заговорить с Бизальцки или как-нибудь иначе напомнить ему о том, что я здесь, возрастала с каждым километром, что я отмеряла, идя по его следам, брошенная без внимания, как мусульманская жена, как бродячий пес, который время от времени прибивается к чужим людям, неважно к кому, и бежит, бежит за ними, иногда очень долго, просто так, по привычке, из стремления проявить лояльность, которая способна преодолеть даже предшествующий скверный опыт общения с этими двуногими особями, пытаясь предпринять хоть что-то, чтобы избавиться от одиночества.
Делать было нечего – я решила воспользоваться любимым рецептом своей бабушки: если хочешь выстоять, сожми зубы покрепче, держи хвост пистолетом и заставь время работать на тебя. Хвост я и без того держала пистолетом, от скрипа собственных зубов мне действительно становилось легче, а что касается времени, то хотя мне не до конца было ясно, как оно «работает» и что производит, но все-таки я, по крайней мере, знала, что оно – проходит, причем проходит даже время Бизальцки, а значит, и мое.
Мои глаза были прикованы к зеленым пяткам Бизальцки, которые при каждом шаге слегка высовывались из поскрипывающих сандалет; слушая, как стучит мое сердце, я отсчитывала секунды, остававшиеся до конца бесконечности, и шла за ним практически след в след.
Вдруг Бизальцки остановился, вытянулся, правой рукой прижал к глазам бинокль, а левой стал энергично подзывать меня и, словно заблудившийся в океане мореплаватель, который внезапно увидел вдали землю или первые признаки близкого берега, что есть мочи завопил: «Бронзовки, бронзовки, вот они, там!» Я тоже невольно вскрикнула, коротко, почти беззвучно, от испуга, но в ту же минуту меня объял ужас и дух перехватило от подозрения, что у Бизальцки и вправду начался приступ сумасшествия.
Я тоже выпрямилась: во-первых, мне срочно надо было набрать в легкие побольше воздуха; кроме того, мне было интересно, что там такое ему почудилось.
Сколько времени я уже не видела горизонт? Там была синева и ни единого облачка. Мы оказались на небольшом возвышении. Прямо перед нами, в плоской низине, тесно друг к другу стояли цветущие яблони примерно одинаковой высоты.
«Ну, давай, – сказал Бизальцки, бросив на меня взгляд после того, как бинокль помог ему удостовериться в своей правоте, – иди трясти». «Что, – спросила я, – что я должна трясти?» «Яблони, конечно!» – крикнул Бизальцки. Обрадовавшись, что Бизальцки вспомнил обо мне и наконец-то нашел мне применение, я бросилась к яблоням. В два счета я домчалась до яблонь, ухватилась за ствол первого же попавшегося мне дерева высотой метра два с половиной, не больше, и принялась изо всех сил трясти его, словно человека, из которого пыталась выбить признание.
Сверху заструились сотни бело-розовых лепестков, прямо мне на голову. «Как красиво, – подумала я, – словно снег».
Возможно, по той причине, что они не были столь нежны, как лепестки, и поэтому чуть дольше задержались на тычинках, я заметила этих странных, угловато-круглых, отливающих зеленоватым золотом, чем-то напоминающих лакированные чемоданчики, довольно крупных тварей только тогда, когда, буквально через доли секунды, они, вместе с совершенно безобидными веточками и лепестками, посыпались мне за шиворот и в глубокий вырез платья. Но даже теперь, когда я, не выпуская из рук ствола дерева, сама пыталась встряхнуться, потому что по груди, по спине, вокруг талии начали ползать жуки и я ощущала их копошение и укусы, – даже теперь до меня еще не дошло, что эти чудовища, которых сверху, с веток, валилось все больше и больше и у которых я уже смогла разглядеть лапки, щупальца, жвала, это и есть те существа, которых Бизальцки несколько минут назад приветствовал такими воплями, а именно – бронзовки. Даже сегодня, хотя я давно уже не пытаюсь задавать природе и преданным ей ученым слишком простые вопросы, мне трудно заставить себя смириться с мыслью, что бронзовки живут на яблонях, а муравьиные львы – это вовсе не муравьи с львиными гривами и не львы, которые питаются муравьями, а крохотные личинки сетчатокрылых, которые строят в песке воронковидные ловушки для ловли насекомых. То, что эти лаковые многоножки в любом случае не были личинками, это я все-таки сообразила, а то, что я долго не могла или не хотела догадываться, чем они были на самом деле, уже не могло усилить моего ужаса и постепенно накатывающего отвращения, но и слабее оно от этого не становилось.
Так или иначе, я перестала держаться за ствол и бросилась бежать прочь от яблоневой рощи, то и дело засовывая руки себе за шиворот и под юбку. Потом бросилась на землю и, дрыгая ногами, стала кататься как одержимая, издавая пронзительные крики.
Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем ко мне вернулся рассудок и я вспомнила, в какой ситуации нахожусь, сообразила, что я не одна и что мои кувыркания на земле для дамы малоприличны. Наверное, в какой-то момент я просто выбилась из сил и неподвижно замерла.
Я осторожно приоткрыла глаза, увидела, как в воздухе танцуют белые мушки, или звездочки, или точки, а сзади и над ними брезжило большое, плоское, молочно-белое, словно низкая луна в тумане, хмурое лицо Бизальцки с черными строгими глазами и узкими губами, искривленными презрительной усмешкой.
Возможно, Бизальцки стоял вот так, наклонившись надо мной и заложив руки за спину, уже давно. Нетерпеливо подергивая выставленной вперед ногой и дожидаясь конца моего буйного припадка – не знаю, как он расценил мой поступок, – он разглядывал меня с отстраненным интересом, словно я была каким-нибудь заурядным вонючим лютиком, оказавшимся в явно чуждой для него среде.
Пытаясь сообразить, что мне теперь делать, я вдруг с неотвратимым ужасом поняла: ведь Бизальцки наверняка видел мои голые ноги и поперечинку моих трусиков, он слышал, как я визжала, пронзительно и безостановочно, словно помойная крыса, угодившая в бочку с машинным маслом. Я непроизвольно сжала кулаки; слезы стыда, стыда и злости на саму себя, навернулись мне на глаза, и я тут же зажмурилась, крепко-крепко. Больше всего на свете я хотела бы сейчас закопать себя в землю, прямо здесь, где я и так лежала, в эту тучную землю пашни, жирную и черную, такую же черную, каким отныне я видела весь мир вокруг себя.
«Будь добра, встань, пожалуйста, и приведи в порядок свою одежду», – услышала я голос Бизальцки.
Но что толку было в его словах? Я была не совсем мертва, но абсолютно живой меня тоже нельзя было назвать, я могла только слушать, что мне говорят, и всё, – но, поскольку у меня хватило сил сообразить, что такое вот зомбированное состояние скоро станет для меня непереносимым, я заставила себя сквозь пелену нескончаемых слез взглянуть в лицо реальности и неумолимому Бизальцки.
Явно желая показать мне, что мое нынешнее состояние вызывает у него только скуку и что он не намерен повторять свое требование, Бизальцки протянул мне руку и, придав своему чуть дребезжащему голосу подчеркнуто официальный оттенок, сказал слова, которые обычно произносят тоном дружеского участия: «Ну, давай, вставай».
Я собрала остатки сил, энергично, с шумом втянула носом слизь, которая чуть было не потекла у меня из носу, и схватилась за руку Бизальцки, – на ощупь она была прохладной, сухой и какой-то приятно мягкой, как вялый лист большого комнатного розана, который стоял за креслом моей бабушки.
Я посмотрела на запачканные носы своих новых красных туфель, кое-как разгладила перлоновое платье, всё в зеленых пятнах от травы и желтых – от глины, которое, слава богу, и без того отличалось пестротой расцветки, застегнула синюю вязаную кофту, но меня все равно колотило как в лихорадке, и от холода я прижала руки к груди.
Деланное, гневное покашливание, которое послышалось через пару минут, ясно показывало: Бизальцки смотрит прямо на меня и хочет мне что-то сказать.
Но когда я наконец переборола себя и краешком глаза взглянула на него, я поняла, что и он смотрит на меня через силу.
Лицо у Бизальцки было красное и покрыто бисеринками пота, обеими руками он рылся в карманах своих штанов. Я не могла понять, что это означает, но тут Бизальцки вынул наконец одну руку из кармана, протянул мне мятый билет на электричку, еще раз откашлялся и сказал: «Я думаю, тебе ясно, что ты меня жестоко разочаровала. Работа биолога-исследователя требует мужества, самообладания, непредвзятости, осмотрительности, выдержки, системы, но главное – уважения, уважения к чудесам природы. Ничего этого, как мы только что видели, у тебя нет. Ты – недисциплинированная, несамостоятельная, невнимательная, эгоистичная, невоспитанная, ты – неженка и нытик, короче говоря, для научной работы в лесу и в поле ты непригодна. Вот тебе билет. К вокзалу ведет прямая дорога, которой мы пришли сюда. Отправляйся. И чтобы больше я тебя никогда не видел».
Я выхватила билет у него из рук, развернулась и побежала. На шее у меня от натуги пульсировали вены, словно сопротивляясь чему-то большому, живому, с ногами и головой, а я пыталась проглотить это живое – и не могла. Я непрерывно плакала. Ног под собой я уже не чувствовала. Голова казалась раскаленной и пустой, как пончик в кипящем масле. Я пыталась сосредоточить все свои мысли на тех пятидесяти пфеннигах, которые сэкономила, потому что теперь мне не надо брать обратный билет и можно купить на эти деньги два стакана лимонада, замечательного холодного лимонада, который я куплю сразу же, в вокзальном киоске, если, конечно, он открыт, и наконец-то смочу пересохшую слизистую горла и желудка.
Это случилось в понедельник после осенних каникул. Дуб, который и на этот раз ничего, кроме златогузок, на свет не произвел, утром свалили, распилили на куски и вынесли из школьного двора. Я сидела рядом с каланчой из десятого «Б» на ступенях лестницы, ведущей в котельную, мы жевали «американки», которые я купила на ее деньги, и каланча рассказывала мне, что она не будет никуда поступать, а хочет выучиться на парикмахера, на мужского парикмахера, потому что рост у нее что надо и потому что мужчинам нравится, когда волосы им моет молодая девушка. «Вот увидишь, сначала я их как следует намажу шампунем, потом – массаж кумпола, капитальный массаж, тут уж они у меня начнут мурлыкать как коты, станут мягкие как воск и начнут совать мне в карманчик халата купюры, пачками, не считая», – мечтательно говорила каланча, и в этот момент секретарша директора, которая наверняка неслышно подкралась к нам сзади, схватила каланчу за плечо и, перекрывая пронзительный вой новой сирены, оповещавшей о конце перемены, заорала ей прямо в ухо: «У вас сейчас урок, вот и идите на урок, да поживее! А подружка ваша отправится к директору».