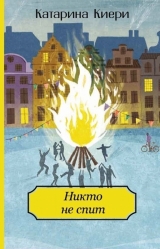
Текст книги "Никто не спит"
Автор книги: Катарина Киери
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
18
Диски Юсси Бьорлинга всё еще лежат в пакете на письменном столе. Возьму их завтра с собой – вдруг можно сдать через школьную библиотеку.
Осторожно отклеиваю записку: «Элиас, сдай диски не позже пятницы. Сигне». Загнув клейкий край листочка, я изучаю почерк: уверенная рука, никаких колебаний, буквы ровно стоят плечом к плечу, говоря в один голос.
«Nessun dorma», последний номер. Включу – и будь что будет. Пусть разревусь, пусть даже умру – плевать. Делаю погромче и откидываюсь на спинку стула.
Но я не рыдаю и не умираю. Листая книжечку с текстами, вижу, что эта вещь записана в 1944 году, шестьдесят лет назад. 1944 год. Перед глазами одна за другой проплывают картины. Не знаю, откуда они берутся – наверное из фильмов. Сам-то я, понятное дело, этого времени не застал. Вдруг меня разбирает смех: представляю, как сижу в опере и слушаю Юсси Бьорлинга. Шестнадцать лет, набриолиненные волосы зачесаны назад, фрак великоват. Кто сидит рядом? Конечно, Сигне – в длинном платье, на шее такая штука из перьев. Время от времени она бросает на меня многозначительные взгляды, а сама на седьмом небе от счастья: поет великий Юсси Бьорлинг! Может быть, она еще обмахивается веером. Хотя веер – это, наверное, из восемнадцатого века.
Музыка затихает. Я снова включаю тот же трек.
В голове возникает другая картинка. Все те же сороковые годы, я лежу на узкой кровати в съемной комнате, мечтательно уставившись в потолок. Окно приоткрыто, ветер колышет светлую занавеску, из патефона доносится эта музыка, только треска больше и звук глуше. На мне белая рубашка и галстук, наутюженные брюки и черные ботинки. Я о чем-то думаю, о чем-то мечтаю. О ком-то. О ком?
Раздается стук в дверь, на пороге стоит отец:
– Это Юсси Бьорлинг?
– Да, – отвечаю я, убавляя громкость.
– Нет, не надо тише. Классная музыка!
Отец улыбается, покачивая головой в такт музыке. Он тоже неплохо смотрелся бы в опере, рядом со мной и Сигне, только приодеть его надо. Белый такой, гладкий шарф. И цилиндр. Меня снова разбирает смех.
– Что такое? – спрашивает отец.
– Ничего. Просто подумал кое о чем.
Он мотает головой, вслушиваясь, и вытягивает шею с таким видом, будто вот-вот подхватит мелодию оперным голосом.
– Как называется эта песня? – спрашивает он, как только музыка затихает.
– Это не песня. Это ария, – я поправляю его с улыбкой.
Как там Сигне сказала? Словно буря уносит, когда слушаешь эту арию.
– Ой, прости, – с нарочито серьезным видом отзывается отец. – Конечно же, ария.
– Она называется «Nessun dorma».
– Точно, «Nessun dorma».
– Только я не знаю, как это переводится.
– «Никто не спит».
– Что?
– «Nessun dorma» означает «Никто не спит».
– Откуда ты знаешь? Ты понимаешь итальянский?
– Ну, пару слов знаю. И слышал, наверное, по радио.
Никто не спит. Картинка возвращается: я лежу на кровати, уставившись в потолок, о ком-то мечтая. Нетрудно догадаться, что текст о каком-то влюбленном, который не может уснуть. Сигне права: в оперных текстах сплошная чепуха.
Отец все стоит на пороге. Кивает в сторону музыкального центра:
– Это из тех дисков, которые та пожилая дама… как ее звали, Сигрид?..
– Сигне.
– Точно, Сигне. Это из тех дисков, которые она принесла?
– Да.
– А ты… еще к ней заходил? После того случая с джемпером?
Снова этот вкрадчивый тон. Как будто вопрос крайне деликатный.
– Нет.
Не то чтобы я не хотел говорить. Просто не знаю, что еще сказать. Что видел ее сегодня во дворе? Но с какой стати мне вдруг рассказывать о такой мелочи отцу? И еще более странно было бы сообщить ему, что Сигне – бабушка Юлии. И что Фредрик на самом деле ее брат, а не парень, как я думал.
– Слушай, я тут кое-что вспомнил. Ты недавно кому-то помогал с велосипедом. Кто это был?
Так долго отец не стоял на пороге моей комнаты уже лет сто. И вопросов столько не задавал, даже когда я выбирал профильный класс в гимназии.
– Девчонка из квартиры напротив.
– А, такая маленькая, светленькая.
Я киваю – точно, маленькая, светленькая.
– Она, наверное, дочка той женщины, которая так похожа на…
– …маму, – быстро вставляю я.
Становится совсем тихо.
Глубокая, бескрайняя тишина.
И в этой тишине эхом звучит слово «мама».
Эхо не утихает. Мы с отцом смотрим друг на друга.
«Nessun dorma». Никто не спит. Так ли это? Правда ли, что даже те, кого никто и никогда не сможет разбудить, не спят? Вокруг так тихо, что я слышу, как отец сглатывает.
– Эта маленькая девчонка… ты с ней знаком? То есть… ты, кажется, с ней иногда разговариваешь?
– А что?
– Просто интересно. Ты быстро нашел общий язык с соседями. Здорово!
Общий язык? С кем это я нашел общий язык?
– Ну, мы несколько раз говорили.
Про кровь из носа. Про смерть. Про Юлию.
– Как ее зовут?
Я смеюсь:
– Мне она сказала, что ее зовут Эсмеральда. Но на самом деле – Анна. Она со странностями.
Отец улыбается, по-взрослому снисходительно. Потом медленно, почти театральным тоном произносит:
– Кто из живых существ желает каждую секунду быть тем, кто есть, и там, где есть?
Я вопросительно смотрю на него.
– Это из стихотворения. Вернер Аспенстрём.
Как-то это на него не похоже – цитировать стихи и говорить по-итальянски.
Как-то это не похоже на меня – слушать оперные арии и говорить «мама».
– Скажи еще раз.
– Что?
– Эту строчку из стихотворения.
– Кто из живых существ желает каждую секунду быть тем, кто есть, и там, где есть?
19
Дверь школьной библиотеки открыта, но никого из сотрудников не видно. И вообще ни души: внутри пустынно, тихо и спокойно. За библиотекарской стойкой находится небольшой кабинет, я заглядываю туда, но и там пусто. Бросаю взгляд на часы: до урока еще пятнадцать минут, могу и подождать. Кто-то должен появиться – не могут же оставить школьную библиотеку совсем без присмотра.
Рядом со стойкой – вертушка со сборниками комиксов. Я беру один наугад и собираюсь сесть на диван за стеллажами.
Зайдя за стеллажи, вижу, что на одном из диванов уже кто-то сидит. Терес из нашего класса. Она смотрит на меня. Я оглядываюсь, думая увидеть рядом Андреаса, но его нет. Первый импульс – повернуться и уйти: у меня нет ни малейшего желания сидеть под наблюдением. Но просто сбежать – как-то глупо. Я сажусь на диван, кладу диски Юсси Бьорлинга на столик между нами и принимаюсь листать комиксы.
Я чувствую, что Терес смотрит на меня, но не удивляюсь: она все время на меня смотрит после того случая с учительницей Карин.
Тоббе после ни словом не обмолвился о той неловкой ситуации. Разумеется, он молчит. Разумеется, я тоже молчу. Мы о таком не говорим. О таком никто не говорит. А теперь уже, наверное, и весь класс забыл, как будто ничего и не было. Только взгляды Терес остались.
Трудно сосредоточиться на чтении, когда на тебя пялятся. Я на секунду поднимаю голову, встречаюсь взглядом с Терес: журнал, который лежит у нее на коленях, она не читает, даже не листает, а смотрит на меня. Я листаю комиксы, пытаясь понять хотя бы, что на картинках.
– Что это за диски? – вдруг спрашивает Терес.
Ее голос так внезапно нарушает тишину библиотеки, что я вздрагиваю.
– Чего?
– Что это за диски – вот эти, на столе?
Тон не слишком дружелюбный – скорее как у охранника в магазине, который подозревает, что я что-то украл, и хочет проверить сумку. Я чувствую себя ребенком, боюсь заговорить писклявым детским голосом.
– Это нашей соседки. Юсси Бьорлинг, – нет, голос звучит почти как обычно.
– Соседку зовут Юсси Бьорлинг?
– Нет, это…
И тут я вижу, как она ухмыляется. Наблюдает за мной с ухмылкой.
– Шутка! Я знаю, кто такой Юсси Бьорлинг. Точнее, кем он был.
Слышу, как кто-то вошел в библиотеку. Вижу за стеллажами сотрудника. Кажется, его зовут Лассе. Встаю с дивана: наконец-то есть повод отойти.
– Почему ты ничего не говоришь?
Терес произносит слова тихо, но в голосе слышны злоба и обвинение, вопрос больше похож на угрозу.
Никто меня здесь не держит: ни Терес, ни кто-либо еще. Я волен делать что захочу: могу пойти и спросить библиотекаря о том, о чем собирался, могу плюнуть и просто выйти в коридор, могу уйти из школы, могу пойти домой, у меня даже хватит денег на билет в Стокгольм. Но я никуда не ухожу, а оборачиваюсь и смотрю на нее.
– Ну что? Почему ты ничего не говоришь? Почему никогда ничего не говоришь?
Теперь голос звучит громче. Я не понимаю, что она имеет в виду. Не понимаю, что должен говорить. Не понимаю, почему именно Терес, которая ничем не отличается от миллиардов людей на земле, учинила мне допрос. Но я не ухожу, а стою на месте и смотрю на нее. Как тогда, в классе. И смотреть ей в глаза мне почему-то не трудно – наоборот, от этого как-то легче и спокойнее.
– Ты о чем?
Голос у меня тонкий и немного шершавый.
– Ты никогда ничего не говоришь. Та учительница, которая заменяла нашу, – ты что, не мог объяснить ей, что у тебя нет мамы? Или сказать, чтобы заткнулась, да что угодно. Или послать меня к черту, чтобы не лезла в твои дела. Ты что, даже «заткнись» никому не можешь сказать?
Она сильно покраснела, смотрит на меня широко раскрытыми глазами. А я вспоминаю, что недавно все-таки сказал двоюродному брагу Тоббе, чтоб он заткнулся, как ни сложно в это поверить.
– Сколько уже времени прошло? Сколько лет?
Я представляю Терес тридцати– или тридцатипятилетней: выглядит совсем как сейчас, а дома двое детей и муж. Работа у нее самая обычная – например в государственной страховой кассе. Она ходит на все родительские собрания и возит детей на футбольные тренировки. Живет в типовом коттедже. Наверняка она хорошая мама. Потом пытаюсь представить себя тридцати– или тридцатипятилетним. Не получается. Вижу себя с отцом за кухонным столом – сидим, смотрим во двор через окно.
– Осенью будет три года, – говорю я.
Терес вздрагивает, будто не ожидала ответа, и смотрит на меня, разинув рот.
– Почти три года, – говорит она. – То есть… ладно, я понимаю… это, наверное, просто жуть, но… То есть… три года все-таки.
Умолкнув, она оглядывается по сторонам.
– Почти три года прошло – можно ведь уже и заговорить.
Я прячу свободную руку – не ту, в которой держу диски, – в карман брюк. Зябко. Терес смотрит на меня, взгляд становится мягче.
– Я помню, как ты играл на саксофоне в актовом зале, в шестом классе. Там вся школа была, все слушали. Я смотрела и думала, что ты ужасно смелый. И помнишь еще, – продолжает она, – как у нас была дискотека то ли в четвертом, то ли в пятом классе. Ты побеждал во всех танцевальных конкурсах.
Я мотаю головой:
– Нет, не помню.
– Но так и было, – она встает с дивана. – Сейчас урок начнется.
Терес в последний раз внимательно смотрит на меня, а потом уходит. Я остаюсь, пытаясь угадать, многое ли из того, что мы сказали – точнее, сказала Терес, – услышал библиотекарь. Надо пойти в городскую библиотеку и сдать диски там. Немедленно. На остальные уроки плевать.
Письмо № 123
Правда ли, что никто не спит? Правда, что ты тоже не спишь? Ворочаешься с боку на бок, не можешь успокоиться? Это правда?
Сегодня я был на реке. Лед еще лежит, плывет темными пятнами тут и там, чернеет вдоль берегов. Но сегодня я видел волны – легкую беспокойную рябь.
Ты и раньше ворочалась, не могла успокоиться, правда?
Может быть, оттого я тебе и пишу? Потому что тебе никак не уснуть?
Э.
20
Я полулежу на диване, уставившись в телевизор, и вот уже несколько минут безуспешно пытаюсь понять, что происходит на экране. Ручная камера снимает нескольких мужчин, которые носятся по саду. Иногда кто-то забегает в дом, кто-то выбегает. Одни что-то жарят на гриле, гремя посудой и перекрикиваясь, другие играют в крокет. Одежды на них почти нет, один вообще голый и злой, да к тому же пьяный. Может быть, это документальный фильм. Документальный фильм о мужчинах, которые бегают по саду. Звонит телефон, я слышу, как отец выходит из кухни в коридор, чтобы взять трубку.
– Элиас, это тебя.
Мне никогда никто не звонит.
– Здорово, это Густав.
Голос у него усталый, как в конце долгого дня. Как будто он тоже валяется на диване и смотрит ту же программу о мужчинах, бегающих по саду.
– Здрасте.
– Я просто хотел…
Чем-то мне нравятся люди, которые начинают разговор словами «я просто хотел».
– Мы с тобой на днях говорили, и ты не то чтоб горел желанием сыграть на концерте…
Не горел желанием. Хорошее выражение.
– Черт, зря я позвонил. Тот старый шлягер, «Shame, shame, shame»…
– Угу.
Если не знать Густава – как он обычно держится и как говорит, – то можно подумать, что он пьяный, как тот голый мужик в телевизоре.
– Может быть, ты передумал?
Слова звучат так, будто он вовсе и не надеется. Никакого задора в голосе. Мне это нравится.
– Саксофон можно взять у нас.
– Да, вы говорили.
– Точно, говорил.
«Необычайное сиянье моря». Эту песню я играл в актовом зале, в шестом классе, когда Терес смотрела и думала, что я смелый. Разве я был смелым? Помню только, как нервничал.
Мне почему-то нравится, что Густав такой заторможенный. С одной стороны, меня так и подмывает сказать: «Да, я передумал. Конечно, сыграю». С другой стороны, совсем не хочется.
– Это, прямо скажем, не шедевр.
– Что?
– Ну, песня эта. Особенно в оригинале: дамочка, которая ее поет, явно прогуливала занятия по вокалу. Но если подойти творчески, то…
Отец стоит у раковины на кухне и ставит тарелки в буфет. Он смотрит на меня, но как только я поднимаю глаза, тут же отводит взгляд.
– Shame on you, if you can’t dance too! [4]4
Позор тебе, если не умеешь танцевать (англ.).
[Закрыть]
Густав выкрикивает слова в телефонную трубку, а потом коротко, хрипло хохочет. Смех резко обрывается.
– Да уж, черт-те что. Но нам нужен саксофонист.
Вообще мне нравится слушать голос Густава в телефонной трубке. Пусть говорит, хотя зря тратит время: я не соглашусь. Я даже не уверен, что еще умею играть, – может, все забыл. Я, кажется, больше никогда…
– Ничего не выйдет.
Отец быстро оборачивается и смотрит на меня, как будто я говорю с ним. «Ничего не выйдет». Уверен, раньше я таких слов не произносил.
Густав вздыхает. Интересно, а те мужики все еще бегают в телике?
– Ну да, ничего не выйдет.
Он повторяет за мной, констатируя факт: не выйдет, ничего не выйдет.
– Ладно, всего тебе, парень. Пока.
Я кладу трубку.
Что-то у нас на кухне с освещением. Свет какой-то ясный, открытый. И с отцом что-то новое: он ставит тарелки в буфет, и его окружает свет – прохладный, прозрачный, простой. Вечер, озаренный лучами простого света. И какое-то знакомое, мимолетное чувство: не пойму, что это. Может быть, грусть или тоска по чему-то. А может быть, и то и другое. Мне хочется сфотографировать этот свет. Никогда в жизни не хотелось ничего фотографировать, у меня даже фотоаппарата нет. Я все смотрю, смотрю на кухню. Отец, наверное, уже удивляется, глядя на меня. Тарелки убраны.
– Густав – он такой, – произносит отец.
– Да уж, Густав есть Густав, – отвечаю я.
Больше мы об этом не говорим.
21
Дует ветер, но все равно тепло. Уже садясь на велосипед у школы, я чувствую, что по дороге домой ужасно вспотею. Ездить медленно я не умею, никогда не умел, и теперь жалею, что с утра надел такой теплый свитер. Вот если бы его снять и остаться в одной куртке, то было бы вполне сносно, но я, разумеется, этого не делаю: светить своим бледным торсом меж высоких сосен на школьном дворе – только этого не хватало.
Я вытаскиваю велосипед на широкий тротуар через дыру в заборе, и вдруг на меня наваливается усталость: зачем, ну зачем я себя мучаю? Почему не зайти в школьный туалет, чтоб снять там свитер и запихнуть его в сумку? Почему я не могу решить даже такую простую задачу? Поворачиваю назад и через несколько минут возвращаюсь в джинсовой куртке, застегнутой на все пуговицы, и со свитером в сумке.
На улице, конечно, теплее, чем раньше, но все же не лето. Я вздрагиваю, когда ветер задувает под куртку, а металлические кругляшки на обратной стороне пуговиц касаются кожи, как холодные капли. Странное чувство, как будто я сразу и одет, и раздет.
Проезжаю мимо людей, которые бредут по тротуару, сбившись в стайки. Похоже, никто никуда не спешит. Все сбросили зимнюю одежду, несколько девчонок из нашей школы идут мне навстречу, повязав куртки вокруг пояса, и едят мороженое. Я пытаюсь представить себе их реакцию, если бы я, именно я, ехал, расстегнув куртку, трепыхающуюся на ветру, и выставив на всеобщее обозрение грудь. Наверное, померли бы со смеху. Правда, сначала дождались бы, когда я скроюсь из виду.
Я кручу педали в ровном темпе, и в такт постепенно вплетается мелодия, которая крутилась в голове весь день. «Shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame, shame on you, if you can’t dance too». Шлягер, о котором говорил Густав. Не могу вспомнить, почему он мне знаком, где я его слышал. Может быть, в рекламе по телевизору.
«Shame on you, if you can’t dance too». Что там Терес говорила? Что я побеждал во всех танцевальных соревнованиях? Слабо припоминаю потные челки, дрыганье рук и ног в классе с задернутыми занавесками. Лимонад, попкорн и липкие пятна на полу. И – да, я, кажется, неплохо дрыгал и руками, и ногами. От этой мысли странно колет где-то в груди, и на этот раз дело не в металлических кругляшках. Элиас танцует? Нет! Shame on you [5]5
Позор! (англ.).
[Закрыть]. Мне должно быть стыдно?
Люди не торопясь прогуливаются стайками – кто пешком, кто на велосипедах, а я кручу педали в одиночку. Наверное, у меня удручающий вид. Но что сделать, чтобы стало иначе, – не знаю. Последняя поездка на велике в компании Тоббе и его двоюродного братца особого удовольствия мне не доставила.
Повернув за угол, я въезжаю во двор и сразу вижу их. Они сидят на крыльце: Юлия накинула на плечи тонкую темно-красную куртку, Сигне хищной птицей осматривает двор.
Мне хочется немедленно повернуть назад, чтобы не встречаться с ними, только не сейчас, но Сигне уже пронзила меня соколиным взглядом и не собирается отпускать.
Я заранее слезаю с велосипеда: хочу пройти последние метры пешком, чтобы выиграть немного времени. Зачем мне это время – не знаю. Вспоминаю, что куртка надета на голое тело.
Юлия меня не заметила, она улыбается солнцу. Сигне, наоборот, не сводит с меня взгляда, пока я веду велосипед к стойке у крыльца. На ней пальто и темно-синий берет, надетый чуть набекрень. Из-под берета торчат пряди седых до белизны волос и светятся на солнце.
Здесь, у стены, очень жарко – только бы не забыться и не расстегнуть куртку. Сигне приветственно кивает:
– Не думай, что я благодарю Бога за прекрасную погоду.
Я киваю в ответ, не понимая, почему мое появление навело ее на мысль о Боге.
– Я вообще в него не верю. Разве что в случае острой необходимости.
Юлия смеется, не открывая глаз:
– Что ты такое говоришь? С чего мне думать, что ты благодаришь Бога?
– Я не с тобой разговариваю, – отрезает Сигне.
Юлия открывает зелено-карие глаза и оглядывается по сторонам, словно спросонья. Обнаружив меня, она будто слегка вздрагивает.
– Привет… – произносит Юлия, почему-то удивленно. Не могла же она так быстро забыть, что я здесь живу.
Сигне оглядывает двор. Около качелей играют двое малышей в резиновых сапогах. Я сразу представляю теплые влажные ноги, обутые в резину, и в ту же секунду чувствую прикосновение металлических капель к животу.
– Напоминаний из библиотеки мне не присылали, следовательно, диски ты сдал.
Судя по удивленному взгляду Юлии, бабушка не рассказывала ей про наши общие дела.
– Благодарю, молодой человек, – твердо произносит Сигне, коротко улыбнувшись.
Юлия смотрит на меня, подняв брови. На лбу образуется морщинка, и еще я вижу новые веснушки.
– Да что вы… – я вдруг запинаюсь, не зная, как продолжить, – пустяки.
Фраза, вежливая до отвращения. Мне нравится Сигне, я не хочу быть невежливым с ней, но мне не нравится стоять в куртке на голое тело перед Юлией, которая морщит лоб, и играть роль воспитанного молодого человека, который охотно помогает пожилым дамам.
– Могла бы и меня попросить, – обращается Юлия к бабушке.
Сигне фыркает, глядя на гипс Юлии:
– Вот еще, инвалидов отправлять с поручениями!
Я следую за взглядом Сигне: интересно, она знает, что произошло? Знает ли она, что «молодой человек» не только помогает пожилым дамам, но и ломает пальцы юным?
– И к тому же, – добавляет Сигне, – это наше с Элиасом дело.
Юлия снова поднимает брови.
– Вот как! – удивленно усмехается она.
Сигне и не думает объясняться, а просто смотрит перед собой. Еще раз взглянув на нее, Юлия, видимо, решает не задавать лишних вопросов. И я этому рад.
– Но тебя, Юлия, я хочу попросить о другом.
Мне пора домой, остальное уже не мое дело. Я делаю шаг к подъезду, Сигне это сразу замечает и жестом останавливает меня. Затем обращается к Юлии:
– Проводи меня до квартиры, а потом пойди вместе с Элиасом к нему домой и спроси, не могут ли они с отцом одолжить нам щепотку разрыхлителя для выпечки.
Мне очень хочется возразить, и краем глаза я вижу, что Юлия в замешательстве, но ни один из нас, конечно, не решится спорить с Сигне.
Хорошо бы, по крайней мере, сбегать домой, снять куртку и надеть свитер. Но тут я вспоминаю, что надо пристегнуть велосипед, а когда вхожу в подъезд, Сигне уже поднимается по лестнице вместе с Юлией, и у меня нет никакой возможности обогнать их, не толкаясь.
Юлия стоит у меня за спиной и ждет, когда я отопру дверь. Замок, как назло, заклинило, и я начинаю заметно нервничать. Как только мне наконец удается повернуть ключ, в голову приходит безумная мысль: что, если мы, я и Юлия, действуем по плану, который заранее составила Сигне? Что, если нужен ей вовсе не разрыхлитель, а повод отправить Юлию ко мне в гости?
Куртка, надетая на голое тело, ужасно раздражает. Хочется снять ее, но пока Юлия здесь, об этом и речи быть не может.
Я бросаю сумку в свою комнату и резко закрываю дверь. Правда, сразу жалею об этом: к чему такой дурацкий демонстративный жест? Но теперь уже ничего не поделать.
Юлия стоит у входной двери, держа в руке куртку, с поникшим и растерянным видом.
– Проходи, – говорю я.
Она разувается, вешает куртку и медленно следует за мной на кухню.
Я не имею ни малейшего представления о том, где отец хранит разрыхлитель, если он вообще у нас есть. Догадываюсь, что не в холодильнике, – все-таки уроки домоводства не прошли даром. Я оглядываю шкафы и полки, будто в поисках подсказки.
– Как у вас красиво.
Я поворачиваюсь к ней. Она говорит спокойно и дружелюбно, обводя кухню каре-зеленым взглядом. И все равно внутри у меня все закипает. Что значит «красиво»? Ничего особо красивого у нас тут нет. Все как у других. А чего она ожидала – что бедный Элиас и его несчастный отец-одиночка живут в грязи и запустении? Что у нас на кухне валяются пустые коробки и бутылки?
Я открываю рот, но не знаю, что сказать. Юлия снова морщит лоб и качает головой. Я вдруг понимаю, что сверлю ее недобрым взглядом, оттого она и морщится. Уже второй раз за несколько минут я жалею о своем поведении. И еще эта чертова куртка – снять бы ее уже, в конце концов.
Разрыхлитель? Где отец хранит разрыхлитель? Я открываю кухонный шкаф, на верхней полке стоит несколько небольших банок. Я встаю на цыпочки и вытягиваю руку. Куртка задирается до пупа, раздражение растет. Потянись я еще немного – и достану, но тогда уж и соски будет видно.
– Слушай… не обязательно…
Юлия говорит осторожно, почти боязливо – наверное, опасается моей непредсказуемой реакции.
– Ничего, – отвечаю я, забираясь на стул. – Просто тут немного…
Не знаю, что говорить дальше. Мой мозговой центр разучился складывать слова. Я бесцельно переставляю банки и коробки с места на место.
Юлия смеется – осторожно, будто зондируя почву:
– Немного что?
Я смотрю на нее: вот она стоит у нас на кухне с загипсованной рукой, сломанным мизинцем и новыми веснушками на носу. Ее бабушка недавно ставила для меня диски Юсси Бьорлинга. И она еще спрашивает – что? Как вышло, что именно она оказалась именно у нас на кухне? Сколько ей лет? И вправду ли ей интересно, «что?» Интересно, что куртка надета на голое тело, что я зря захлопнул дверь своей комнаты, что я ругаю себя за прищуренный взгляд, – ей и вправду это интересно? Хочет ли она знать, что, когда она рядом, со мной происходит что-то странное: я волнуюсь, мне ужасно хочется в туалет, но я ни за что не пойду, пока она здесь? Хочет ли она знать, что я совсем не привык принимать гостей, я не знаю, как вести себя, когда в доме люди, что да, такой вот я одиночка, что есть, то есть, и я не знаю, как может быть иначе.
Одной рукой я держусь за верхнюю полку, другой – за дверцу шкафа. Стою на стуле и смотрю на Юлию, а ее лицо – сплошной вопрос. Я, кажется, что-то искал. Заглядываю в шкаф.
– Разрыхлитель, – говорю я сам себе.
В глубине шкафа стоит круглая банка. Дотянувшись до нее, чувствую, что на липкой крышке скопилась пыль.
– Стало быть, разрыхлитель у вас есть.
– Угу.
Я верчу жирную пыльную банку в руках. На дне значится срок годности.
– К сожалению, уже год как испортился.
– Вы, наверное, не очень часто печете, – смеется Юлия.
Я слезаю со стула, придвигаю его к столу.
– Да, не очень.
Она набирает воздуху в легкие, будто собираясь что-то сказать. Кажется, что слова вот-вот соскользнут с языка, стоит ей приоткрыть рот. Снова появляется морщинка над переносицей. Юлия делает выдох – и слова, наверное, улетучиваются вместе с дыханием, распавшись на мелкие частицы.
Она поворачивается и выходит в прихожую.
А я стою на месте, вместо того чтобы пойти следом и посмотреть ей в глаза.








