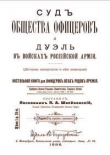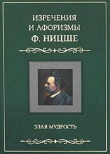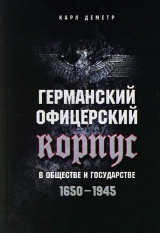
Текст книги "Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945"
Автор книги: Карл Деметр
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 7
Заключение: два мировоззрения
Романтика офицерской профессии и то, как интерпретировали ее нацисты, – это вопросы, в которых трудно разобраться, если не рассмотреть, хотя бы кратко, происхождение и эволюцию дворянства, а также его роль в обществе. До сих пор при изучении дворянства использовался или чисто генеалогический подход либо исторические и литературные сведения. Если рассмотреть его с социологической точки зрения, мы увидим тут два разных аспекта: один – профессиональный, или военный, второй – экономический. Вместе они образуют некий параллелограмм вокруг нашего предмета. За всю известную нам историю как Германии, так и Европы в целом доминирующим фактором была сначала военная, а затем экономическая мощь. Но экономический фактор никогда не лишал военную силу ее значения в определении конечного результата. Описание того, как эти два фактора формировали земельное и городское дворянство в Германии, можно найти в приложении 4. Здесь, для решения нашей непосредственной задачи, я приведу лишь основные тезисы, которые имеют фундаментальное значение для последующего изложения и будут постоянно встречаться в той или иной форме.
На всех стадиях своего развития, кроме последней, старая Пруссия по своему жизненному укладу и культуре мало напоминала большие имперские торговые города юга и запада. К востоку от Эльбы феодальные порядки сохранялись очень долго; у юнкеров не было других возможностей приложения своих сил, кроме крупных фермерских хозяйств и службы в прусской армии, и это в значительной степени определило характер старого прусского дворянства – оно в основном придерживалось консервативных, феодальных взглядов, презирало интеллектуалов и высоко ставило воинские добродетели.
С другой стороны, на юге и западе страны государи не стремились придать своей армии исключительное значение, поэтому социальный статус офицера там был не столь высок, чтобы дворянство стремилось не допускать буржуазию в армию или презирало любую другую карьеру. Напротив, дворяне чувствовали себя свободными в выборе профессии, предпочитая юриспруденцию и управление государством. В то же время зарождение городской элиты (явление для Пруссии почти неизвестное), которая сама приобретала статус аристократии, вынуждало земельное дворянство чаще вступать в контакт с миром предпринимательства и коммерции, денег и идей. Со временем эти две группы – городская и сельская – слились друг с другом, и общепринятые взгляды приобрели более либеральный характер по сравнению с Пруссией. Офицерство в значительно меньшей степени состояло из дворян, а профессиональный и коммерческий мир был не полностью буржуазным.
Часть вторая
Образование
Глава 8
Два принципа: воля и интеллект
Уровень образования в германском офицерском корпусе не поддается описанию или анализу каким-либо научным методом или методом исторической социологии. Дело в том, что уровень образования – дело сугубо личное и сильно зависит от конкретного человека. Офицерский корпус составляет единое сообщество, которое выходит за рамки суммы индивидуумов, его составляющих, и общие замечания о его образовательном уровне могут в лучшем случае быть либо простым сводом статистических данных, либо набором бессодержательных банальностей. Поэтому в этой главе я предполагаю выяснить основные принципы (не только чисто военные или технические), на которых основывалась подготовка германского офицера и его дальнейшее профессиональное образование. В целом я попробую проследить изменения, которые претерпевали эти принципы с течением времени в зависимости от перемен в общественном сознании и в целях обучения.
Проблема обучения и подготовки к какой-либо профессии, т. е. к выполнению каких-либо обязанностей, – это составная часть процесса разделения труда, который управляет всей человеческой цивилизацией. По мере роста населения борьба за существование обостряется, и потому природные способности приходится развивать. Это достигается за счет специализации и разделения на умственный и физический труд, то есть происходит выделение различных видов деятельности в различные группы профессий, которые в ходе дальнейшего развития делятся на более узкие специальности. Чем дальше заходит этот процесс специализации, тем больше знаний и навыков требуется для занятий каждой конкретной профессией. В патриархальном обществе, где экономика и общественная жизнь не выходят за рамки натурального хозяйства, такое обучение может происходить в кругу семьи – будь то родная семья ребенка или любая другая, обладающая монополией на образование. Воспитание и образование сосредотачивается в одних и тех же руках. Получение профессии по наследству приводит к возникновению соответствующего этой стадии развития института – наследственного статуса, наделенного исключительными правами. Монополия ведет к возникновению привилегий, вытекающих из статуса, и феодальная форма общественного устройства, основанная на статусе, коренится в патриархальном общественном строе.
Противоположностью этой системы служит мир городской буржуазии. Разумеется, в раннем Средневековье в Германии уже существовали города, большинство из которых возникло еще в эпоху римлян. Но только после того, как в конце Средних веков произошло увеличение их количества и доли живущего в них населения, они стали существенным фактором исторического развития. Своим происхождением они, по-видимому, обязаны разделению труда и в определенной степени соответствовали этому образующему принципу. В сущности, город испытывает на себе два разных типа влияния. С одной стороны, совместное проживание весьма способствует развитию «практической сметки», или, другими словами, здравого смысла, а с другой стороны, освобождение человека от необходимости трудиться на земле приводит к преобладанию «рационализма» как в мыслях, так и в действиях. Одной лишь проблемы нехватки свободного места достаточно, чтобы поднять сознание горожанина от горизонтальных архитектурных линий до вертикали, символизирующей развитие интеллекта. Мир подсознательного, инстинктивного, эмоционального и физического, определявший образ жизни горожанина и его цели, уступает свое место миру разума и интеллекта. В скученности города, включая средневековые города, сфера влияния семьи сокращается, в особенности в том, что касается образования, «интеллект» становится независимым и создает инструмент, в котором нуждается, – школу. Начиная с этого момента семья остается эффективным средством воспитания, но образование переходит в ведение школы; первая формирует характер и душу, а вторая дает знания. Все это, разумеется, верно лишь с оговорками, поскольку школа всегда претендовала на существенную роль в формировании личности, а не только в образовании. Но школа стремится воспитать ребенка главным образом посредством знаний и идей, научив его правильно мыслить.
По мере развития городской мир со свойственным ему рационализмом начинает изменять общий облик цивилизации. Экономика управляется городскими ремеслами и торговлей, городская денежная экономика преобладает над основанной на обмене сельской экономикой, и в результате село уступает городу в экономическом, интеллектуальном, социальном и политическом соревновании. Чем очевиднее этот факт, тем менее значимым становится понятие общественного статуса и связанной с ним системы профессиональной подготовки в семье. Школа, составляющая самую суть городской ментальности, расширила свои рамки и вторглась в семейную монополию на образование и профессиональную подготовку. В рамках данного исследования мы не будем углубляться в историю воспитания и профессиональной подготовки; мы только осветили некие основополагающие принципы, которые позволяют составить представление об исторических и социальных аспектах проблем, связанных с образованием офицеров.
В своем анализе мы периодически возвращались к противопоставлению города и села, разума и воли, интеллекта и инстинкта, рационального и иррационального. Эти противоречия, несомненно, можно выразить и другими словами, но тех, что были предложены, достаточно, чтобы показать, в чем заключается проблема. Так или иначе, я бы не хотел упустить возможность четко прояснить следующий факт: взаимодействие этих двух полярных сил не было характерно лишь для старой Пруссии, где знать владела крупными земельными угодьями и где поместное дворянство играло такую значительную роль в офицерском корпусе.
Оно также объясняет заметные различия между офицерским корпусом Пруссии и, например, Баварии, где роль дворянства была гораздо менее заметной и где дворянство в значительной степени отождествлялось с патрициатом. Все это, естественно, оказало свое влияние на природу офицерского образования.
Глава 9
Пруссия: первые военные училища
Первое, что обращает на себя внимание, – это то, что вопрос образования офицеров был, как и все остальное в армии, связан с развитием военной техники и тактики. Необходимость дать офицерам-кандидатам более высокую техническую подготовку и установить связь между теорией и практикой первоначально ощущалась лишь при подготовке артиллеристов. С конца Средневековья этот вид оружия приобретал все большее значение, и для его применения требовались математические знания, которые значительно превышали обычный для тех времен уровень. Желательно было, чтобы будущие офицеры осваивали эти знания в школе. Так возникли артиллерийские училища – старейшие военные академии, появившиеся в начале XVI века. Для остальных родов войск подобные заведения были учреждены лишь столетия спустя, и даже тогда их первоначальный замысел был связан не столько с военными надобностями, сколько с желанием поддержать пошатнувшийся статус рыцарства как элиты европейского общества. По ряду причин доходы от феодальных поместий неуклонно сокращались, и дворяне все меньше могли позволить себе путешествовать за границу для получения образования, как это было в прежние времена. Эти шаги были предприняты для того, чтобы разработать более быстрый, дешевый и систематичный способ удовлетворить потребность обедневшего дворянства в среднем образовании. Предполагалось обучать не только придворным манерам, иностранным языкам и фехтованию, но также давать политическое образование, основанное на знании истории, и знакомить с теорией и практикой искусства ведения войны.
Новый тип образовательного учреждения для молодых дворян обсуждался повсюду в Европе. Пионером в этом вопросе, по-видимому, был один из вождей гугенотов Франсуа де Ла Ну, автор «Трактата о политике и войне», опубликованного в 1587 году. Насколько нам известно, первое учебное заведение подобного рода было основано шурином принца Морица Оранского герцогом Бульонским в 1606 году в Седане. Первым германцем, последовавшим его примеру, был граф Иоганн VII Нассауский с его «Школой военного искусства и верховой езды» в Зигене, основанной в 1617 году; через год после этого ландграф Мориц Гессенский создал в Касселе колледж, носящий его имя, а затем сам Валленштейн в 1624 году основал военную академию в Гичине. Все эти честолюбивые планы были сведены на нет Тридцатилетней войной и были возобновлены только после ее окончания – на этот раз успешно – великим курфюрстом Бранденбургским. Один из его предшественников, герцог Альберт, в своем указе 1556 года уже упоминал о том, что необходимо уделять внимание науке и защищать тех, кто ее изучает, от их хулителей, но он не предпринял ничего для этой цели. Это было сделано только с основанием Прусского кадетского корпуса в Кольберге, дополнившего уже существовавшую к тому времени Военную академию, в которой изучались не только обычные учебные предметы, но также элементы математики и фортификации.
В то время и на протяжении всего XVIII века математика была связующим звеном между наукой вообще и военной наукой в частности и, более того, служила основой для той и для другой. Военное искусство считалось областью математики, точнее, ее практическим применением. Считалось, что при выполнении маневров во время сражений необходимо следовать формам геометрических фигур и что можно предсказывать падение крепостей при помощи арифметических вычислений. Наполеону, который был незаурядным полководцем, приписывают слова: «Чтобы быть хорошим генералом, необходимо знать математику. Она предоставляет массу возможностей проверить свои идеи. Вполне возможно, что своими успехами я обязан знанию математики». Представления о важности неких теоретических знаний привели к тому, что после Семилетней войны участились попытки повысить профессиональный уровень офицеров с помощью общего образования, для чего создавались военные школы. Однако, по общему мнению, непосредственный опыт участия в военных действиях имел гораздо большее значение, чем научное образование. Решающим моментом, определившим интеллектуальный уровень офицеров, стал пример здравомыслящего, но довольно недалекого короля Фридриха-Вильгельма I, который презирал всех ученых и «болтунов», а также грубого, необразованного принца Леопольда Анхальт-Дессауского: «Все, что выходит за уровень познаний хорошего унтер-офицера, – бесполезная зубрежка».
Но даже практические профессиональные навыки до Семилетней войны были редкостью в офицерской среде. На этот счет мы можем привести мнение такого компетентного судьи, как Фридрих Великий. В отличие от своего отца он был значительно образованней большинства своих современников и в весьма резких выражениях отзывался о нежелании своих старших офицеров постигать книжную премудрость: «Если опыт – это единственное, что нужно хорошему генералу, то самыми лучшими военачальниками были бы мулы принца Евгения Савойского». После окончания войны он предпринял ряд шагов, чтобы поднять уровень образования своих будущих офицеров и дать им больше теоретических знаний. В Шолпе и Кулме были основаны кадетские училища для юношей из дворянских семей Померании и Западной Пруссии, а в Берлине в кадетском корпусе был выделен элитный класс, получивший название Академия дворянства. Король распорядился в зимние месяцы проводить в помещении новой армейской инспекции занятия по географии и искусству фортификации, на которых должны были присутствовать наиболее способные офицеры. В дальнейшем он отобрал двенадцать лучших учеников и включил их в свою свиту, чтобы самому читать им лекции и чтобы они ознакомились с искусством настоящей войны. Хотя такие методы привели к созданию элиты – офицеров Генерального штаба, среди которых были действительно знающие люди, большинство фронтовых офицеров эти преобразования почти не затронули, и выпускников кадетских корпусов было слишком мало, чтобы заполнить все существовавшие вакансии. Общее образование и военная подготовка, как и прежде, зависели от случая. В целом уровень образования офицеров был довольно низкий, и главная тому причина – невозможность получить должную подготовку в сельских районах, откуда набиралась большая часть прусского офицерского корпуса.
Вследствие этого среди прусских офицеров отношение к техническим знаниям было примерно такое же, как у готской знати раннего Средневековья. Так, например, Прокопий Кессарийский в своей «Истории войн римлян с персами, вандалами и готами» пишет, что, когда дочь Теодориха Амаласунта хотела дать своему сыну образование, ее окружение возражало против этого. Умение читать и писать, говорили они, не означает храбрости, ребенок, который привык бояться своего учителя, никогда не станет храбрым воином. Теодорих не посылал готских юношей в школу, но он завоевал великую империю, не умея читать и писать. Подобная замена рационального мышления иррациональным оставалась довольно частым явлением вплоть до второй половины XIX века. Здесь мы имеем дело с фундаментальным вопросом образования, и то, как он решался, всегда зависело от мировоззрения и общих предпочтений. То, какое образование получают офицеры, имеет весьма важное значение и чревато серьезными долгосрочными последствиями.
Помимо принципиальных соображений, существовал целый ряд явлений социального и политического характера, обуславливавших тот факт, что в XVIII и начале XIX века в среде, в которой вращались офицеры-дворяне, любой интерес к книгам и науке считался постыдным. Нет причин не верить фон Марвицу, когда он говорит, что научные книги, а особенно популярные издания и учебники, написанные в духе рационалистического просвещения, которые появляются в огромных количествах, подвергаются нападкам и осмеянию со стороны влиятельных людей, таких как юнкеры и землевладельцы, а в католических областях еще и со стороны священства. Неудивительно, что влиятельные круги или их представители – общественные, политические и религиозные – чувствуют угрозу для своего авторитета и сопротивляются этому из чувства самосохранения, как если бы они столкнулись с революционной силой. Человек, втайне испытывающий подобные страхи, враждебно настроенный по отношению к школам и образованию, мог считать, что его опасения во многом подтверждаются Великой французской революцией, которую подготовили призывы «литераторов». Наступающий век нес с собой революционный дух рационализма, который оставил отпечаток на всей концепции военного образования. Он определил не только тот факт, что теперь государство должно было систематически заниматься образованием офицеров, но и его характер, и направление развития.
Глава 10
Пруссия: Шарнхорст. Экзамены и сопротивление реформе
Эпохальные изобретения ускорили рост производства, расширение торговли и коммуникаций, что привело к еще большему усилению позиций города по отношению к деревне. Уже на ранней стадии было отчетливо видно, что подобная экономическая экспансия (в отличие от культурного подъема) основывалась и могла продолжаться, только лишь опираясь на технические навыки и общее образование. Это привело к тому, что научные знания выросли в глазах общественности. Более того, одновременно с экономическим и политическим развитием шло непрерывное увеличение численности населения, отчасти вызванное экономическим ростом. Поскольку старые классовые барьеры перестали быть препятствием для подъема по социальной лестнице, почти все профессии были заняты штурмом, и поскольку образовательный ценз, необходимый для занятия той или иной должности, постоянно повышался, само образование стало одним из признаков высокого социального положения. Различия в уровне образования все больше заменяли различия в знатности происхождения, и городская буржуазия все больше и больше вытесняла земельную аристократию из социальной и публичной сфер жизни. Происходившая на протяжении всего XIX века борьба за конституцию и германское единство, с параллельными изменениями в национальной экономике, в сущности, занимала только буржуазию, – ее можно описать как форму борьбы буржуазии за освобождение от влияния аристократии и феодализма. Даже состав Франкфуртской ассамблеи, «парламента профессоров», может служить ярким примером характерного для того времени тождества между буржуазией и национализмом. Было бы чудом, если бы дух времени не затронул офицерский корпус в то время, когда даже в Пруссии, как мы убедились, все больше и больше офицеров набиралось из буржуазии. Вопрос социального происхождения офицеров имеет самую непосредственную связь с вопросом их технического образования и подготовки. Первый составляет сердцевину второго.
Основные направления, по которым шла реорганизация, сохранились вплоть до Первой мировой войны, и главным действующим лицом этого процесса в Пруссии был Шарнхорст. Сам он окончил небольшое военное училище из тех, что появились даже за пределами Пруссии после Семилетней войны, и его мировоззрение основывалось не на традициях прусской армии, а на рационализме XVIII века. У него было четкое представление о губительности – с военной точки зрения – тех принципов, которые Пруссия довела до крайности: принадлежность к аристократической крови и презрение к образованию. Он замечал, что при выборе кандидатов на ту или иную офицерскую должность значение имели лишь связи, а не способности или знания, что исключительные способности не делали человека популярным и что многие семьи посылали в армию самых ленивых и бездарных сыновей. В последние годы (1795—1801) своей службы в Ганновере он убедился, что молодые люди, выделявшиеся своими способностями и трудолюбием в артиллерийском училище, оказались также лучшими на поле боя и что пожилые генералы, смотревшие на своих учеников свысока, оказались практически бесполезными. Шарнхорст собственноручно записывал эти выводы и в результате пришел к убеждению, что офицеры должны получать хорошее общее образование, включающее военные науки.
Когда его сделали ответственным за реформу прусской армии, его убеждения заставили его выдвинуть требование, чтобы каждый офицер, вне зависимости от того, в каком роде войск он служит, сдал общеобразовательный экзамен. Этот принцип получил силу закона после выхода королевского указа от 6 августа 1808 года о назначении унтер-офицеров. В то же время соответствующий пункт правил ограничивался или, скорее, разъяснялся следующим замечанием: «Главное требование к хорошему офицеру не знания или технические навыки, но присутствие духа, быстрота восприятия, точность и аккуратность, не говоря уже о подобающем поведении». В этом важном замечании нет ничего неверного, но подтекст и смысл, который оно придает всему остальному, показывает, какие смутные представления о значении образования и воспитания были у ведущих умов того времени. В самом деле, это показывает, что борьба между воспитанием и образованием все еще продолжалась. В то же время именно нелогичность этого замечания определила образовательную программу для прусского офицерства на последующие сто лет.
По вполне понятным причинам освободительные войны были неподходящим временем для реформы офицерского образования и вообще для осуществления какой-либо интеллектуальной программы. Единственное, что имело значение в это трудное время, – это военные действия, в самом непосредственном смысле этого слова, и «бумагомаратели» были мишенью для насмешек. Лишь в последовавшие за тем долгие годы мира образовательная идея смогла снова расправить крылья, и военные училища Шарнхорста постепенно заняли свое место в армейском порядке вещей. Вскоре, однако, стало понятно, что между теорией и практикой по-прежнему лежит огромная пропасть. Проблема заключалась не в том, что не хватало молодых офицеров или кадетов, стремящихся получить требуемое образование, дело заключалось в общей ситуации, сложившейся в то время в Пруссии. Из доклада комиссии под руководством принца Вильгельма, рассматривавшей этот вопрос в 1825 году, мы узнаем, что молодые люди поступали в дивизионные училища, где они должны были обучаться в течение трех лет, в восемнадцать или девятнадцать лет. Но, как показала практика, у них не было почти никаких начальных знаний, а они уже достигли такой стадии в своем умственном и физическом развитии, на которой люди перестают быть восприимчивы к основам технических знаний. Они также больше не придерживались моральных стандартов, необходимых для своего благополучия. В дивизионных училищах проявилась тенденция к пренебрежению как учебой, так и нравственными принципами. Ученики усваивали материал очень медленно и поверхностно, и к тому времени, когда они могли сдать офицерский экзамен, они были уже в таком зрелом возрасте, что это затрудняло всю их дальнейшую карьеру.
Чтобы исправить сложившееся положение, комиссия рекомендовала «уменьшение срока обучения в дивизионных школах с трех лет до одного года и принимать туда лишь тех, кто уже имеет необходимые познания по тем предметам, которым раньше обучали в этих школах. Но, поскольку сыновья небогатых офицеров не могли получить необходимый уровень образования дома, предполагалось, что определенное количество мальчиков будет получать все нужные им знания на более ранней стадии, в гимназиях. Они должны были дать им тот элементарный уровень знаний, который до того времени они получали в дивизионных школах, но слишком поздно и всегда не полностью. Такое учреждение даст им те образовательные преимущества, которые обеспечивают своим детям состоятельные родители, желающие, чтобы их сыновья сделали карьеру в армии. К тому же дивизионные школы перестанут давать невежественному рабочему классу возможность претендовать на высокие армейские должности. Конечно же путь к вершинам военной карьеры не должен быть закрыт или затруднен для всякого, кто постарается с помощью таланта и упорного труда преодолеть препятствия, обусловленные его происхождением. Тем не менее не в интересах армии, чтобы посредственные и необразованные люди за государственный счет достигали уровня, на котором они начинают требовать более высокого вознаграждения еще до того, как научатся приносить больше пользы. Поэтому мы делаем следующее предложение: в каждой провинции в гимназиях нужно выделить несколько сот мест для сыновей нуждающихся офицеров, где они могли бы обучаться в течение четырех лет, начиная с тринадцатилетнего возраста, и, если их родители живут далеко, им должны быть предоставлены стол и кров, а также они должны быть обеспечены форменной одеждой».
Как видно из доклада, взгляды, принятые среди правящих классов в 1825 году, существенно отличались от тех, что господствовали во времена Шарнхорста и Бойена. Какой резкий откат назад демонстрирует нам этот отрывок! В нем не найдется и строчки, которая не дышала бы плохо скрываемым отвращением к «соревнованию» с «невежественным рабочим классом», желающим вступить в государственные дивизионные школы. «Посредственным и необразованным людям» должно быть указано на их место, хотя бы только в отношении «нежелательных» кандидатов на офицерские должности. Для «правильного» контингента (что означает сыновей из дворянских семей старой Пруссии) нужно расстелить ковровые дорожки, хотя, по общему признанию, их тоже следует признать «посредственностями». Здесь вопрос набора офицеров был тесно связан с вопросом об образовании. Однако предложение о предоставлении стипендий провалилось, натолкнувшись на противодействие министерства образования, а также в связи с нехваткой средств.
Но второй тип дивизионных школ закрыли в 1828 году, и тогда поместное дворянство и офицеры стали все громче жаловаться на то, как трудно им стало давать сыновьям образование. Положение существенно изменилось с тех пор, когда Фридрих-Вильгельм I вынужден был чуть ли не силой отправлять сыновей сельских дворян в кадетские школы. У этих людей теперь был влиятельный представитель в лице генерала фон Рюделя-Клейста, который поддерживал их требование, чтобы государство позаботилось о подготовке их сыновей к экзамену на звание унтер-офицера. К этому времени (1835) Бойен давно уже перестал быть военным министром, но кронпринц (впоследствии Фридрих-Вильгельм IV) очень его уважал и интересовался его мнением. Как и другие военные, Бойен резко возражал против требований юнкерства. Государство, заметил он, содержит армию за счет налогов, которые платят все граждане, и это обязывает все классы служить в ее рядах, поэтому нельзя позволить какому-либо одному классу присваивать себе единоличное право на все офицерские должности, а следует принимать наиболее способных. Кроме чисто военных познаний, офицер, если он не хочет лишиться уважения других классов, должен обладать таким уровнем образования, который соответствовал бы требованиям времени.
Под этим Бойен понимал так называемое «общее образование», и буквально на следующий год этот принцип был впервые воплощен в учебном плане для прусских офицеров.
В конце концов новый и типично буржуазный идеал общего образования был безоговорочно принят и нашел свое выражение в приказе Фридриха-Вильгельма IV от 14 февраля 1844 года о наборе офицеров в действующую армию в мирное время и об организации кадетского корпуса. Во вступительной части указа (основные положения которой были воспроизведены почти без изменений в 1861 году) открыто говорится, что «наблюдавшийся в последнее время в нашем обществе рост уровня профессионального и общего образования делает необходимым, чтобы офицеры, наравне с остальными членами общества, получали хорошую подготовку и сдавали экзамены такой степени сложности, какая позволила бы им сохранить уважение, которым они в настоящее время пользуются, и, если понадобится, легко сменить профессию». Вся формулировка этого заявления о намерениях выдает нежелание, неприязнь и ощущение форс-мажора, который чувствовался, когда армейский мир или, по крайней мере, язык военных приказов вынужден был признать образовательный идеал буржуазных «конкурентов». Как сказал один из наиболее авторитетных авторов того времени: «Офицерский корпус воспользовался интеллектуальными достижениями своего времени, но относился к ним с недоверием. Он научился извлекать из них практическую пользу, но не усвоил стоявших за ними идей».
Такое отношение преобладало среди офицеров прусской армии в течение долгого времени, и его типичным примером может служить принц Прусский, ставший впоследствии императором Вильгельмом I. Столкнувшись с «постоянно растущими стандартами общего образования», он заявил, что полностью согласен с повышением технической сложности экзаменов для кандидатов на офицерские должности. «Но как, – вопрошал он, – могут сыновья нуждающихся дворян и бедных офицеров получить требуемое образование? Где они найдут деньги, чтобы дать своим детям хотя бы среднее образование? Подобные семьи живут в сельской местности или в маленьких городках. Там можно получить лишь такое образование, какое ранее было необходимым условием для поступления на службу, после чего они получали дальнейшее образование и постигали основы военной профессии, обучаясь до семнадцатилетнего возраста в дивизионных школах. Но теперь все поменялось. Помня о том, что подобные семьи тесно связаны с прусской армией и являются хранителями ее духа, который привел к победам во многих сражениях, я полагаю, мы не можем лишать их средств к существованию и подвергать опасности их будущее. Если мы это сделаем, наша армия может приобрести совершенно иной характер». В связи с этим принц призывал увеличить бюджет кадетских училищ и выделить для сыновей офицеров бесплатные места в гимназиях, как уже предлагалось ранее. Как мы знаем, это последнее предложение не было принято, но система кадетских училищ постоянно расширялась, и большую часть учащихся составляли сыновья нуждающихся дворян и офицеров.