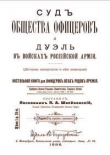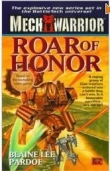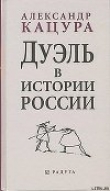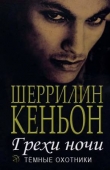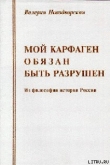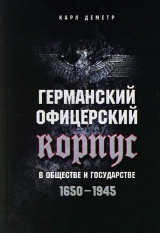
Текст книги "Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945"
Автор книги: Карл Деметр
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Следовательно, от этой комиссии не стоило ожидать каких-либо реальных реформ. Ее проект был отложен из-за возражений военного министра и министра юстиции, однако и переделанный проект не снискал одобрения у Фридриха-Вильгельма IV, который тем временем сменил своего предшественника на престоле. Мы не знаем, какие возражения он выдвинул, также неизвестно, каким было отношение нового короля к вопросам чести и к самим дуэльным поединкам. Мы все же можем сделать заключение, опираясь на документы, оставленные новым военным министром, уже пожилым Бойеном, который в свое время пользовался полным доверием монарха. В конце концов, Фридрих-Вильгельм IV наверняка не стал бы посылать за Бойеном и сообщать ему свое мнение о реформе судов чести, если бы они не беседовали с глазу на глаз. Бойен в молодые годы, чтобы быть точным – в 1815 году, – как-то раз бросил вызов Вильгельму фон Гумбольдту, предложив драться на пистолетах; дуэль, к счастью, закончилась без кровопролития. В начале 30-х годов он написал, что дуэлей, похоже, невозможно избежать в любом государстве, законы которого направлены на то, чтобы дать гражданам максимальную свободу, возможно, согласующуюся с целями, ради которых существует государство. Более того, написанные им слова о том, что честь нужно ставить выше, чем саму жизнь, внесли свой вклад в развитие национального характера.
Впрочем, это было простым повторением laisser faire, laisser aller (пусть все идет своим чередом), спетым в другом ключе, в другой постановке и в других костюмах.
У самого Бойена такой либеральный настрой мысли странным образом смешивался с консервативными представлениями об основанном на классах обществе. Перед комиссией 1841 года он изложил мнение о том, что честь офицеров – не единственный вопрос, подлежащий обсуждению; это также вопрос посева семян нового и вразумительного закона о сословной и буржуазной чести, ибо если бы такой закон был выработан, он ответил бы на настоятельную необходимость времени. Он надеялся, что суды чести для офицеров вскоре можно будет сочетать в каждом регионе с другими законами, действующими среди владельцев феодальных поместий и их ровней. Они будут применимы для высших чиновников провинциальных правительств и в конечном итоге для всех других сословий и организаций, которые смогут их применить и которые будут в них нуждаться. На самом деле он пошел дальше и (несмотря на то что он, похоже, официально не ставил этот вопрос перед комиссией 1841 и 1842 годов) пожелал, чтобы трибуналы чести действовали для младших офицеров и солдат запаса. Грандиозные идеи подобного рода опирались на общие представления класса и, несомненно, были весьма близки романтику, занимавшему трон. Однако единственный раздел этого общего проекта для государства и общества был частью, относившейся к офицерскому корпусу. Это был сектор общества, который, как мы уже видели, был занят культивированием духа товарищества на психологической и социологической почве. Более того, в Пруссии считалось особенно пикантным присваивать себе мантию средневекового кавалера. «Таким образом, – подводит итоги биограф Бойена, – весь его труд служил лишь для укрепления единственного бастиона – военного и аристократического духа класса»; следовательно, он служил консолидации и легализации этого причудливого положения офицерского корпуса внутри растущего организма конституционного государства, в котором он (корпус) заявлял о себе столь разными способами.
Глава 17
Пруссия: дальнейшие усилия, советы чести и реакция
Бойен принялся за работу, опираясь на директиву, полученную им от Фридриха-Вильгельма IV. Работая без посторонней помощи, он создал проект целого ряда правил по судам чести (всего 54 пункта), равно как и комплекс из 36 пунктов относительно «обращения с делами чести, дабы максимально предотвратить дуэли среди офицеров прусской армии, и о наказаниях, которые должны налагаться по этому поводу». В целом оба проекта Бойена получили одобрение высшего командного офицерства. Единственным человеком, который не одобрил предложение в первоначальном виде относительно того, что суды чести должны стоять на страже офицерской чести, был принц Вильгельм, который впоследствии стал регентом, королем и императором. Тогда принц отверг основной тезис проекта, впрочем не выступив против него в окончательном варианте. По ряду деталей проект получил целый поток комментариев, однако в сущности это была работа одного Бойена. Формально проект был разделен на две отдельные части: «Регуляции для судов чести» и «Регуляции для процедуры судов чести, когда расследуются споры и оскорбления, происходящие между офицерами, и по наказаниям за дуэли среди офицеров». Оба свода регуляций (правил) были изданы 20 июля 1843 года.
В самом первом разделе первого свода регуляций отход от взглядов, высказанных Фридрихом-Вильгельмом III, проявился в изменении формулировок. Раньше ключевой фразой была «основательность мысли», теперь она превратилась в «поведение, несовместимое с правильным понятием о чести или с принципами, управляющими статусом офицера». Ранее главный критерий относился к персональной этике, теперь же на первый план выводилась коллективная этика, а стандартом считалась уже не «чистая нравственность», а простой обычай[23]23
Спектр таких дел, подлежащих рассмотрению на судах чести, следовательно, можно расширить, без учета правонарушений младших офицеров, однако у них были специальные «скамьи», составленные также из офицеров. Такое расширение касалось и офицеров жандармерии, офицеров запаса, не занятых по службе офицеров, а также вышедших в отставку офицеров, сохранивших право ношения униформы. Офицеры ландвера также были охвачены. Потеря возможности продвижения по службе была вычеркнута из списка наказаний, которые могли рассматриваться на судах чести. Как справедливо заметил принц Пруссии, было нечто весьма неприятное относительно младших офицеров, голосующих за применение наказания к их старшим офицерам. Но конечно, такое сокращение власти трибуналов влекло за собой уменьшение авторитета всего института в целом, и не было замены, чтобы возродить более мягкие наказания, такие как предупреждение, лишение права носить униформу и тому подобное. Между тем одно улучшение состояло в более строгой регуляции процедуры.
[Закрыть]. Второй свод регуляций в общем следовал приказам от 13 июня и 29 марта 1829 года, однако он по-прежнему не стремился положить конец серьезным дуэлям, возникавшим по действительно веским причинам.
С другой стороны, судам чести была придана исключительная юрисдикция по всем ссорам и предполагаемым афронтам, случавшимся среди офицеров, помимо тех, что могли возникнуть непосредственно в ходе деяний по ходу службы. В таких случаях было обязательным обращение в суды чести. Надо иметь в виду, что были два различных органа: трибуналы чести с исполнительными функциями и советы чести, игравшие лишь посредническую роль.
Если дело само по себе не могло привести к мирному урегулированию или если стороны отказывались от примирения, трибунал чести должен был составить формальное признание того, что конфликт существует и что никаких дальнейших извинений по этому поводу от сторон не требуется. Впрочем, одно обстоятельство могло во многом лишить эти условия эффективности: стороны могли привести заседание трибунала чести к мертвой точке, объявив, что они не могут сдерживать себя узами вердикта трибунала, «в силу особых условий, которые управляют статусом офицера». Дополнительно к трибуналам учреждались суды за дисциплинарный проступок в случае состоявшихся дуэлей (хотя, если не применялись пистолеты, суды не проводились). Последнее было средством, которое, по сути, ставило уголовный проступок под прямой надзор государства и таким образом до некоторой степени делало его легальным.
Это заходило слишком далеко даже для принца Пруссии, как бы он ни хотел выказать свою доброжелательность корпоративному духу офицеров. Разумеется, ему возражали по основным принципам этой целостной реформы, ссылаясь на роль, приписываемую трибуналам чести как органам прежде всего морального характера. Принц быстрее всех заметил противоречивую, чтобы не сказать гротесковую, идею сделать их третейскими судьями. Тщетно пытался он выбросить этот пункт из проекта и со скепсисом, свойственным Фридриху-Вильгельму III, сочетавшим решительность и отчаяние, настаивал на том, чтобы наказания в первую очередь поставить в один ряд с общепринятым мнением, а затем довольно жестко укрепить. Это в любом случае могло бы заменить крупные полумеры менее значительными.
Однако меры, страдавшие от подобной непоследовательности, вероятно, не могли оказывать должного влияния, которое было необходимо для преодоления старых, традиционных предрассудков или, скорее, глубоко укоренившихся инстинктов. Большинство офицеров рассматривало обращение в суд чести как скрытый способ отказа от вызова, то есть как бесчестный сам по себе прием, и эта идея впоследствии почти не пользовалась благорасположением. Поэтому 16 мая 1844 года, почти год спустя после выхода в свет этих регуляций, сам король обнаружил, что он должен усилить наказания за намеренное введение в заблуждение судов чести, и добавил пункт об увольнении со службы. Мы не можем сказать, применялось ли на практике такое наказание. В любом случае даже оно по-прежнему казалось королю «чересчур мягким», и он, очевидно, не был доволен собственной работой, хотя большая часть ее, разумеется, была проделана Бойеном. На самом деле проект о реляциях страдал непримиримыми противоречиями, даже если оставить в стороне конфликт с гражданским правом.
Поэтому неудивительно, что комитет обороны Национальной ассамблеи во Франкфурте предложил суды чести полностью упразднить. К ним относилась презрительно не только большая часть офицерского корпуса, но и общественность, ибо под их компетенцию подпадали «расследования политических мнений и тенденций, разговоры, проводимые в общественных местах, и сплетни». Неизвестно, как бы принималось это предложение или каким оно могло быть, если бы Национальная ассамблея смогла завершить эту работу. Тем не менее 8 марта 1849 года на ассамблее была представлена декларация, в которой 119 депутатов заявили, что они не желают принимать участия в промежуточных выборах в комитет обороны, «потому что все члены этого комитета уже представили свои взгляды лишь с одной стороны (то есть справа) и что все они, видимо, одного политического цвета». Недовольные, таким образом, не «могли убедить себя, что комитет, который по-настоящему предполагает, что создаст нечто новое, должен состоять почти полностью из технарей ортодоксальной школы». Этот образец сарказма проливает свет не только на ситуацию во Франкфурте, но и на положение дел, которое сохранялась еще несколько лет после этого.
Один из высших духовных иерархов военной ортодоксии, Эдвин фон Мантейфель, в письме к историку Ранке, которое он написал в 1871 году, указывал, что верит в следующие слова: «В армии, в которой я был взращен, просто никто не просил судью дать вам сатисфакцию. Вы сами добивались ее для себя. Вы вытаскивали пистолет, и, если другой человек отказывался драться, вы изрядно колотили его с помощью своих друзей». Каким бы отрезвляющим ни казалось это грубоватое письмо, ясно одно: узкая тропинка к новому представлению о чести, с таким тщанием расчищенная Фридрихом-Вильгельмом III, быстро заросла при его старшем сыне Фридрихе-Вильгельме IV, а при его втором сыне Вильгельме след ее полностью исчез из поля зрения.
Принц Вильгельм, как мы видели, не одобрил регуляции по судам чести, изданные при его старшем брате. Впрочем, было очевидно, что он желал отложить их в сторону, едва заняв трон. Прошли десять триумфальных лет, в течение которых он реформировал армию, преодолел внутренние проблемы и завоевал Францию. Затем он энергично взялся за это дело. В 1872 году Вильгельм учредил большую комиссию, состоявшую из высших командных офицеров. Они доложили, что «в общем регуляции при исправлении» доказали, что они чего-то стоят, что советы чести следует сохранить, даже в роли третейских судей. Вновь и вновь они настаивали на том, что их работа не напрасна, а совет чести должен как можно быстрее завершать свои посреднические функции – в течение двадцати четырех часов или около того. За мошенничество следует наказывать со всей суровостью, а наказания должны доходить вплоть до увольнения со службы. Только четыре генерала были против обязанности приведения на суд чести. Трибунал, говорили они, следует созывать не для того, чтобы уладить споры, а лишь для того, чтобы определить пределы, в каких ссора нанесла ущерб чести профессии или была способна сделать это. Кое-кто поддерживал такую точку зрения, но, разумеется, они считали незначительными делами рассмотрение почвы для ссоры и ее урегулирование, одновременно полагая главным «правильное» поведение.
К ним относился генерал-лейтенант фон Пап, который занимал самую крайнюю и в то же время наиболее логичную позицию. Его главная мысль состояла в том, что лучший судья и охранник собственной чести – сам офицер. Следовательно, каждый офицер должен быть в состоянии судить собственное поведение без вмешательства третьей стороны. Суды чести не должны вмешиваться и вступать в дело перед дуэлью, а все наказания за участие в дуэлях должны быть отменены, кроме тех, которые назначают, если дуэли не связаны с исполнением военного долга. Другими словами, дуэльные поединки должны быть законной деятельностью только для офицеров, но более ни для кого. Говоря в целом, такова была позиция королевской комиссии, которая и была принята в конечном итоге. Она рекомендовала полный отказ от второго свода регуляций от 20 июля 1843 года и была одобрена королем. Одно оставшееся обязательство заключалось в том, что в случае частной ссоры, затрагивавшей честь офицера, совет чести должен включиться в самый последний момент, когда вызов на дуэль получен другой стороной. Задача совета ограничивалась тем, чтобы тут же составить рапорт, если возможно (но не обязательно), перед дуэлью, которая должна была состояться, и затем, согласно общей традиции офицерства, предпринять попытку к примирению. И в качестве последней меры следовало попытаться разобраться, соответствуют ли условия дуэли тяжести дела. И наконец, если дуэль все же состоится, президент или член совета должен присутствовать на ней в качестве свидетеля и проследить за тем, чтобы соблюдались традиционные формальности. Что же касается судов чести, то их действия в связи с дуэлями ограничивались случаями, когда одна сторона из поссорившихся наносила обиду чести профессии в провокационной манере либо еще более резко. Одновременно тайный приказ делал дисциплинарный проступок в случае особых дуэлей (за исключением поединков на пистолетах) делом тайным.
Регуляции 2 мая 1874 года (приложение 16), таким образом, предоставляли судам чести право объявлять, позволяет ли обычай офицерской среды искать примирения (то есть мирного урегулирования ссоры). В результате зачастую дуэли не проводились, если стороны считали предпочтительным решить дело мирным путем. Следует отметить один существенный пункт: «Офицера, который способен на безрассудное оскорбление чести своего товарища-офицера, нельзя терпеть в армии в большей степени, чем того, кто не способен защитить свою честь». Иными словами: если вы вынуждаете своего товарища-офицера драться на дуэли, нанеся ему оскорбление, то будете уволены со службы, а он уволится сам, если не сможет бросить вам вызов.
Регуляции предварялись несколькими возвышенными словами о понятии чести – «прекраснейшем драгоценном камне» «товарищества» офицеров, – которая заставляет выполнять свой долг как можно лучше, об истинной дружбе, об уважении к другим сословиям и профессиям, о «давно испытанной традиции рыцарства в офицерском корпусе и о «высоких обязанностях» последнего. Эти благородные призывы не могли скрыть того факта, что текст самих регуляций давал очень мало для механизма практического разрешения конфликтов. Вознося рыцарский дух офицерства, Фридрих-Вильгельм ГУ и Бойен попытались построить новую концепцию офицерской чести. Она должна была быть более благородной и чистой, чем коллективное представление о ней, которого придерживались ранее. Придаваемые ей этические стандарты должны быть более рафинированного свойства. Классовый дух был возведен до статуса абсолюта, суверенного принципа поведения. Если, согласно регуляциям 1843 года, роль советов чести, хотя и ограниченная на практике во многих деталях, была довольно действенной, то сейчас она была сведена к нулю. Непоследовательность прежней системы была устранена, однако на ее месте возник гораздо более серьезный конфликт – между новой конституцией судов чести и гражданским правом современного законного и конституционального государства.
Глава 18
Германия: победа принципа личной чести над коллективной
В начале этой части была предпринята попытка провести исторический анализ и составить социологический очерк о двух радикально разных концепциях юстиции, двух расходящихся взглядах на жизнь. Эти два представления теперь стояли лицом к лицу. В 1874 году чисто «классовая» система, соответствовавшая феодальному представлению о государстве и правосудии, предстала как совершенно устаревшая. Это во многом определялось огромным преобладанием в государстве военного элемента, которое основывалось на впечатляющих успехах прусско-германской армии в трех войнах предыдущего десятилетия.
Однако головокружительный престиж меча был обречен постепенно померкнуть в памяти о тех ярких победных днях; мало-помалу силы, определявшие общественное развитие, сместились и сформировали новый образчик отношений – гораздо более сдержанный и уравновешенный. Борьба идей, точек зрения и партий, стремившихся к власти и влиянию, не могли игнорировать особое положение, которое занимал в государстве офицерский корпус – положение, самой поразительной чертой которого была юрисдикция его трибуналов чести. До какой степени имела место борьба идей внутри самого офицерского корпуса – это вопрос, на который, вероятно, никогда не будет дан точный ответ. Между тем несомненно, что в нем наблюдалось настоящее брожение. Свидетельства тому можно обнаружить во многих жалобах самих офицеров, которые доходили до депутатов парламента, особенно левых, и каковые, таким образом, становились темой широко распространенных политических дискуссий. Вопрос оставался в силе благодаря публичности, которую пресса придавала самым серьезным дуэльным поединкам.
В рейхстаге эта тема впервые прозвучала в 1885 году, в соответствии с петицией от берлинского портного по имени Pep, который потребовал «на почве истории и целесообразности», чтобы дуэли были запрещены или сведены до минимума. Для достижения этого он предлагал ввести суровые наказания для нарушителей закона, а также для членов судов чести. Инициировал этот вопрос в парламенте депутат центральной (католической) партии по имени Рейхеншпергер. Вначале, 26 ноября 1886 года, он сделал это в общей форме, но позднее, начиная примерно с 1900 года, он, в частности, ссылался на мнение самих военных, выступивших против дуэлей. В те тридцать лет, которые оставались до Первой мировой войны, в рейхстаге периодически звучали аргументы за и против дуэлей, особенно среди офицеров, и при этом доводы никогда не варьировались. Консерваторы и национал-либералы защищали дуэли потому, что они призывали к мужеству, прогрессисты и социал-демократы возражали против них на конституционной и социальной почве, в то время как центральная партия характеризовала их как противоречащие христианству. И даже консерватор граф Вестарп заявил, что «он и его друзья твердо убеждены, что дуэльные поединки противоречат закону Божьему и человеческому», однако одновременно он продолжал предостерегать парламент против нападок на догматы офицерского корпуса.
Правое крыло и само правительство цеплялись за идеи, вдохновленные регуляциями 1874 года, однако речи их представителей, лишенных понимания психологии тех, к кому были обращены, мало влияли на публику, которая в основном с ними не соглашалась. Тем крепче было постоянное давление, которое в этой связи партии большинства оказывали на военачальников. Отчеты о соответствующих дебатах в рейхстаге в течение этих лет красноречиво это иллюстрируют. Первое впечатление, которое они производили на каждого, кто читал их, – обе стороны говорили главным образом о недоразумениях, поскольку, выступая с различных позиций, они хотя и использовали одинаковые же слова, но имели в виду разные вещи. Однако постоянные откровения и разоблачения того, что происходило в армии, и непрекращающиеся протесты партий большинства, вероятно, послужили причиной того, что сами правящие круги были склонны ограничить дуэльные поединки настолько, насколько это было в их силах, и, что особенно важно, – пытались трансформировать само представление о чести.
Произошедшая целая серия сенсационных дуэлей, в которых участвовали некие сомнительные личности, побудила императора Вильгельма II вмешаться. Он вновь обратился к докладу комиссии 1837 года и регуляциям по трибуналам чести, изданным Фридрихом-Вильгельмом III, и через них к основополагающим принципам прусского антидуэльного эдикта 1688 года. Существенный вопрос заключался в том, должен ли, и если да, то до какого предела, проступок, который нанес оскорбление, оставлять его автора удовлетворенным. Иными словами, может ли человек, признанный виновным в проступках достаточно серьезных, чтобы его можно было квалифицировать как преступника, драться на дуэли и будет ли это все еще классифицироваться как мера, приносящая удовлетворение другому человеку того же сословия. Все согласились с тем, что это качество сохранится, если затронута личная нравственность человека, и что коллективная честь и обычаи будут обусловлены факторами индивидуальной морали. Это вернуло императора к вопросу о том, что предпринять, чтобы советы чести могли играть более весомую роль, чем та, которую они исполняли в течение прошлых пятидесяти лет, и в особенности со времен регуляций 1874 года. Он предложил искать решение вопроса в достижении компромиссов. Сами дуэльные поединки должны быть устранены, и, более того, советы чести должны вменять в обязанности – и это было новаторской мыслью – вступаться за честь человека, который был безвинно оскорблен. Нанесшую обиду сторону следует вынуждать устраниться от дуэли, а если обидчик откажется сделать это, то он должен предстать перед трибуналом чести. Это было личное указание Вильгельма, которое легло в основу публикации 1 января 1897 года «Дополнительных правил к вводному приказу к регуляциям от 2 мая 1874 года по офицерским трибуналам чести в прусской армии».
Совершенно новым и психологически важным в этих «Дополнительных правилах» было то, что совет чести должен был «вмешаться» в защиту офицера, который был оскорблен без провокации. Это на деле могло означать, что при определенных обстоятельствах совет чести мог также повлиять на мнение товарищей-офицеров, которые могли бы сдерживать обиженного человека, не допуская умаления его достоинства и уважения к нему. Это, разумеется, был своего рода психологический эксперимент, успех которого во многом зависел от нравов офицерского корпуса и косвенно также от лидерских качеств командующего офицера. С другой стороны, это влекло за собой риск, что роль совета чести могла сводиться лишь к консультативной функции, а решения по всем серьезным вопросам будут приниматься высшей властью, и в качестве последней инстанции – самим императором, что на самом деле и предусматривали «Дополнительные правила». Так развивались события вплоть до Первой мировой войны, и по всем признакам это был именно тот фактор власти в отношении дуэлей, который должным образом поддерживал чисто коллективный «феодальный» дух, мало-помалу сводя его на тропинку «буржуазной» морали. Почти нет сомнений в том, что большинство офицеров приветствовало это; они были рады заполучить сильную руку в таком деликатном деле, как освобождение их от языческого обожествления чести, от того, что Теодор Фонтень назвал «идолопоклонством».[24]24
В романе Фонтеня Effi Briest, который написан в конце XIX века, тайный советник Вюллерсдорф должен был сказать насчет дуэлей: «Та грандиозная чепуха, которую вы услышите о «Божьем суде» – это, разумеется, ерунда, абсолютная чушь. Но в остальном это верно. Наш культ чести – идолопоклонство; но нам приходится подчиняться этому до тех пор, пока люди будут верить в идолов».
[Закрыть]
Направление реформ теперь искали другими способами. Разумеется, это не совпадало с тем, что катехизис, опубликованный в 90-х годах прусским капелланом доктором Рихтером (который использовался кандидатами в конфирмацию во всех кадетских школах Пруссии и в военных учреждениях), назвал поединки на дуэлях аморальными, пагубной защитой человеком своей чести, защитой того, что у человека невозможно отнять, если только он сам не согрешит и не покроет себя позором. Мужество, говорилось в катехизисе, никогда нельзя доказать насилием над законом Господа, но следует подчиняться ему, несмотря на силу предубеждений. Человек вполне может верить религиозным учениям, как романам, поскольку они влияют на слушателей в их последующей карьере.
Это частично повлияло на то, что фон Гееринген, прусский военный министр (который в других случаях упорно защищал принцип дуэли), заявил в рейхстаге в 1913 году, что «все, кто служили в армии определенное количество времени, вышвырнут меня вон, если я скажу, что взгляды офицерского корпуса на необходимость дуэлей постепенно, начиная с 1897 года, претерпевают значительные перемены. Многие дела по вопросу чести теперь улаживаются мирным путем; однако до 1897 года немыслимо было решить их иначе, кроме как путем поединка». В предыдущие годы тот же фон Гееринген уже указывал на семьдесят одно предложение о примирении, которое было сделано начиная с 1897 года, то есть почти по пяти случаев в год.
Лейтенант-полковник Фишер, связной военного министра с дуэльным комитетом в рейхстаге, в меморандуме, написанном для его шефа за несколько месяцев до Первой мировой войны, писал: «Такие убеждения (о необходимости дуэлей) не будут длиться вечно. Они изменяются со временем и вскоре полностью исчезнут». В последние несколько лет перед 1914 годом офицерские суды чести все чаще высказывали мнение, что офицер, возможно будучи пьяным, произносил оскорбительные слова или соблазнял жену другого человека, и таким образом от него нельзя требовать сатисфакции. Он должен просто исчезнуть из офицерского корпуса, и, следовательно, в дуэли отпадает необходимость. Здесь на первый план выдвигается личная мораль. А может, это было «истинным духом рыцарства и настоящей христианской моралью», как заявил военный министр Фалькенхайн в рейхстаге 13 марта 1914 года, говоря об усилиях, которые армия предпринимала в «давно прошедшие времена», пытаясь положить конец дуэлям?
Несмотря на все пробелы, статистика по дуэлям между офицерами в XIX веке достаточно интересна, чтобы оправдать мое стремление привести ее здесь. Цифры впервые были использованы, когда Бойен составлял проект указа о трибуналах чести. Они показывают, что с 1817 по 1929 год (то есть в последние тринадцать лет перед регуляциями Фридриха-Вильгельма III) всего из тридцати девяти серьезных дел, в среднем по три в год, привели к наказаниям: двадцать четыре из этих дуэлей закончились ранами, пятнадцать – смертью. Однако даже если и был вынесен судебный приговор (один за двадцать лет), то через несколько месяцев за ним следовало помилование, самое большее, через восемнадцать месяцев. Один человек, который был приговорен к суровому телесному наказанию, был прощен через шесть месяцев, «пожизненный заключенный» – через год, еще один «пожизненный» – через шесть лет. Четыре случая ареста сопровождались освобождением от службы, но похоже, что последний был вновь возвращен на службу в результате амнистии через четыре или двенадцать месяцев.
Между 1832 и 1842 годами, когда строгие регуляции 1829 года были в силе, ежегодные доклады главного аудитора по военной юстиции показывают, что двадцать девять случаев дуэлей (в среднем 2,5 в год) вызывали наказания – то есть немногим более, чем раньше. В пяти случаях поединки завершились гибелью одного из участников.
Первые четырнадцать лет действия регуляций 1843 года (то есть с 1843 по 1856 год) приводили ежегодно в среднем к исполнению 4,6 наказания, и эти цифры едва ли намного изменились в период с 1856 по 1961 год, ибо процентное содержание оставалось постоянным за последние двенадцать лет (с 1862 по 1873 год) существования этих регуляций. Согласно абсолютным цифрам, показатели поднялись до восьми, но мы должны помнить, что реорганизация 1860—1861 годов почти удвоила действующую армию.
С другой стороны, между 1874 годом (годом регуляций Вильгельма I) и 1885 годом (единственным периодом, в котором сохранились соответствующие цифры) ежегодный процент служащих офицеров, наказанных за участие в дуэлях, возрос с восьми до двенадцати.
Как только приказ Вильгельма II 1897 года помог восстановить базовый принцип, поддерживаемый Фридрихом-Вильгельмом III, ежегодная цифра для служащих офицеров сразу сократилась до четырех процентов, и с начала века до Первой мировой войны она снижалась еще больше.
Между тем данные для офицеров резерва оставались довольно постоянными. Хотя они заметно поднялись после 1876 года, они всегда были гораздо ниже, чем показатели для служащих в армии офицеров. Приказ 1897 года едва ли сократил эти цифры, и в результате с тех пор они казались больше по сравнению с цифрами для служащих офицеров. Этот факт вызывал частые дебаты в рейхстаге, что было также замечено и обсуждалось военным министром и военным кабинетом. Самое правдоподобное объяснение этого заключается в том, что офицеры резерва не рисковали своей жизнью, как это делали регулярные военнослужащие и как это было принято в закрытом круге офицерского братства и среди равных им в социальном отношении людей. Можно подозревать, что у резервиста имела место постоянная готовность получить оскорбление. У него имелась тенденция считать, что, находясь лицом к лицу с офицером, он хотя бы своим мужеством должен доказать, что является равным регулярному военному.
Я должен повторить, что эта статистика покрывает лишь наиболее серьезные дела о дуэлях, но даже так, взятые как целое, они показывают, что в последние сто лет перед Первой мировой войной регуляции по дуэлям и судам чести, выпущенные суверенами Пруссии, продолжали оказывать все большее влияние на представление офицеров о чести, чем, например, во времена Вильгельма I.
По вопросу дуэльных поединков среди офицеров баварский военный министр издал меморандум 1858 года (см. приложение 17). Однако нет необходимости обсуждать этот вопрос подробно, поскольку статья 61 германской императорской конституции 1871 года применила прусские правила и регуляции (включая регуляции по дуэлям и судам чести) к непрусскому контингенту в германской армии, включая баварцев.
Тем не менее был еще один вопрос, по которому Бавария существенно расходилась с Пруссией и другими государствами Германии: 1 января 1870 года процессы всех военных трибуналов в Баварии были сделаны доступными для общественности[25]25
Политический подъем 1848 года вылился в реформу баварского криминального следствия согласно закону от 10 ноября 1848 года. Приказами от 14 апреля 1856 года, 7 июля 1862 года и 31 марта 1863 года вводилась система криминальной процедуры, применяемая также к армии, где, хотя все еще в узких пределах, вводился принцип публичности со стороны военных, притом что в гражданских судопроизводствах неограниченная публичность уже была повсеместно признана. Офицеры и военные власти получили доступ к следствию, доступ для не имеющих офицерского патента офицеров и рядовых солдат был предоставлен на усмотрение командующих офицеров. Гражданские лица доступа к материалам следствия не имели. С 1862 года и далее, впрочем, доступ к главным слушаниям был разрешен родственникам, родным со стороны супруги и охранникам обвиняемого. И только с введением распорядка военного криминального следствия от 29 апреля 1869 года (вступил в силу с 1 января 1870 года) полный доступ гражданских лиц и военных на баварские военные суды был разрешен.
[Закрыть]. В последующие годы в рейхстаге и в прессе часто признавалось, что сокращение числа дуэлей среди офицеров-баварцев, по сравнению с другим контингентами, объясняется тем, что процессы выносились на публику. Газета Kolnische Volkszeitung проявляла особый интерес к этой проблеме, а статья, опубликованная 18 августа 1901 года, заставила прусского военного министра просить у своего баварского коллеги статистику дуэлей за прошедшие четыре года (1897—1900). На основании данных баварцев пруссаки рассчитали сравнительные цифры: соотношение служащих офицеров за 1900 год, в частности, было 7:1. В отношении дуэлей среди регулярных офицеров, впрочем, пропорция составляла 18:1 и была 10:1, если туда включали резервистов.