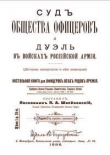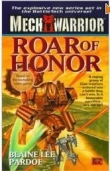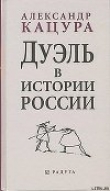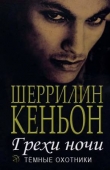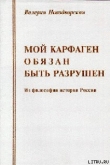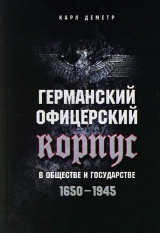
Текст книги "Германский офицерский корпус в обществе и государстве. 1650–1945"
Автор книги: Карл Деметр
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 15
Дуэли: причины появления и попытки их искоренения
Основные элементы, на которых основывались воинская жизнь, с одной стороны, и воинская честь – с другой, были весьма разнородными, – этот факт нам необходимо помнить, если мы хотим понять исторический и социологический смысл борьбы между ними, которая продолжается, хотя и в скрытой форме, до сегодняшнего дня. Классический пример тому – офицерский корпус старой германской армии, и это связано с тем, что офицерство (по крайней мере, прусское) произошло от рыцарства – сообщества, в котором впервые сформировался синтез этих двух составляющих и в котором эта форма была развита сильнее, чем где-либо еще. Историческое развитие дуэли[18]18
Термин «дуэль» часто встречается в средневековых юридических документах, однако он относится к юридической дуэли, которая часто была допустима. Например, император Фридрих II признавал дуэли в случае lèse-majesté, убийства человека и приписываемого ведовства. В гражданских случаях также истцам и ответчикам было приказано драться на дуэлях, обычно считалось, что победитель прав, а тот, кто отказывался драться, признавался виновным. Когда у дочерей королей, князей и дворян было более одного поклонника, дуэли между ними имели место в качестве «испытания». «Однако, – пишет бранденбургский советник Иоганн Фридрих Шульце в своей книге Corpus Juris Militaris, Берлин, 1693, – поскольку такие суды не только в защиту Господа, но часто, как пишут нам историки, стоят жизни невинному человеку, в то время как виновный торжествует победу и таким образом нарушается справедливость. Все церковные, светские и естественные законы, так же как законы нации, объявляют такую злонамеренную практику недопустимой, и на самом деле нехристианской, запрещенной и подлежащей полному запрещению».
[Закрыть] и ее порождения – трибунала чести ясно свидетельствует о раздвоении идеалов, часто приводившем к тому, что обе стороны оказывались в состоянии конфликта не только друг с другом, но и сами с собой. Эта была очень серьезная проблема для офицерского корпуса, и ее развитие с начала XIX века до Первой мировой войны привело к тому, что элементы обращенной «наружу» классовой чести были постепенно вытеснены – не без драматических возвратов к прошлому – элементами обращенной «вовнутрь» личной чести.
Сама по себе дуэль – это война в миниатюре. Но не только внешние факторы создают естественную связь между дуэлями и офицерской профессией. Есть и внутренние факторы, и это гораздо важнее. Когда офицер, будь он виновен или нет, получает вызов или чувствует, что его честь настолько оскорблена, что никакая возможная в рамках закона компенсация не может быть достаточной, его противник как бы ставит перед ним вопрос: «Хватит ли у тебя физической смелости рискнуть жизнью ради чести?» В этот момент возникает вопрос: «Что такое честь и чего требует от меня моя честь?» Эта трудная проблема касается жизни человека и существования его семьи. Отношение к ней социальной группы, как таковой, или отдельной личности в значительной степени зависело от того, на какой стадии развития находилось в тот момент понятие чести.
Самая частая психологическая причина дуэли – жажда мести и стремление к самоутверждению, являющиеся одними из самых основополагающих человеческих инстинктов. Историю может заботить только вопрос о том, какого выхода искал себе этот основной инстинкт, а нас интересует лишь его современная форма: дуэль чести. Как показали исследования, эта форма появилась относительно недавно. По примеру Испании и Франции в Германию она проникла с XVI века, а потом, когда в ходе Тридцатилетней войны в Европе произошло смешение народов и культур, приведшее к брожению умов и распалившее страсти, практика дуэлей получила широкое распространение во всех классах общества. Но еще в 1617 году император Маттиас издал указ против «совершенно устаревшей, беззаконно узурпированной справедливости и самосуда» и, чтобы предотвратить дуэли, постановил, что в случаях нанесения оскорблений власти должны немедленно созывать судей и улаживать вопрос или рассматривать его в кратчайшие сроки, чтобы уязвленная сторона как можно скорее получила сатисфакцию.
Разумеется, эти дела чести были разновидностью кровной мести и таили в себе угрозу для имперского и общественного согласия. Имперская конституция того времени требовала, чтобы князья всячески боролись с этим явлением, поэтому начиная с XVII века во всех немецких землях существовало антидуэльное законодательство, где было прописано, что дуэли противоречат законам божеским и человеческим, а также здравому смыслу. С точки зрения законодателя, дуэлянт брал закон в свои руки, и это было несовместимо с концентрацией государственной власти и юрисдикции в руках абсолютного монарха или законного правительства. Однако во времена Бисмарка все эти моменты, включая конституционный, в значительной степени перешли от правительства к парламенту. Поэтому, чтобы судить о том, какое влияние оказывали дуэли на жизнь общества, необходимо более внимательно рассмотреть дуэльный кодекс в новой империи. В частности, мы должны обратить внимание на отношение офицерского корпуса к попытке государственной власти повлиять на его корпоративное представление об этом предмете.
Первый прусский закон против дуэлей датируется 17 сентября 1652 года. В этом документе великий курфюрст выразил свое негодование в связи с тем, что «не только молодые люди, уволенные в отставку после наступления мира, который был заключен незадолго до этого милостью Божьей, но и множество других, незаконопослушных граждан повсюду, где бы они ни находились, ищут повод для ссор и поединков. Это приводит к тому, что повсеместно люди не могут встретиться друг с другом без того, чтобы это не привело к скандалу, или драке, или к возникновению шума и беспорядка, который пугает пожилых людей и порядочных женщин, а также наносит ущерб домовладельцу и нарушает общественное спокойствие». Далее курфюрст запретил «под страхом телесных наказаний и смертной казни все преднамеренные оскорбления, беспорядки, потасовки и вызовы на дуэли». Он обещал защиту «каждому, кто будет защищать свои права законным путем». Следует заметить тот факт, что дуэль все еще отождествляется с обычной дракой и закон относится к ней соответствующим образом. Более того, в заголовке третьей части «Законов и правил войны» этого же курфюрста участие в дуэли приравнивается к бунту.
Несмотря на недвусмысленность этого указа, мнения юристов по поводу дуэлей разделились. Немало их посчитало, что этот вид дуэлей (т. е. споры, затрагивающие вопросы чести) может быть разрешен в тех случаях, когда знатный человек подвергся оскорблению и не может найти судью, или противоположная сторона отказывается явиться в суд. Если же оскорбленная сторона может найти судью, она обязана защищать свою честь в обычном суде. Другие ведущие юристы возражали, что дуэли должны быть запрещены вне зависимости от того, что послужило поводом для ссоры. В кратком комментарии, сделанном гражданским лицом в XVII веке, заслуживает внимания тот факт, что юристы, которые считали допустимой дуэль с участием знатного человека (поскольку они полагали, что такие люди защищены от судебных преследований), скорее всего, сами принадлежали к высшему сословию. Эти возражения могут толковаться настолько широко, что найти им основания в законе невозможно. Тем не менее это делает их тем более значимыми, поскольку привилегии, применимые только к самой верхушке, распространялись таким образом на все дворянское сословие.
Однажды начавшись, процесс, разумеется, пошел дальше, и эти оговорки распространились на общественные классы, которые стояли близко в социальном и профессиональном отношении к мелкому дворянству, а именно на юристов и государственных служащих высокого ранга.
Служба закону и правосудию могла наравне с военной службой принести человеку дворянское звание или, по крайней мере, привилегии, сравнимые с привилегиями мелкого дворянства. По-видимому, в период зарождающегося абсолютизма стало складываться убеждение, что человек, носящий оружие, будь он офицер, чиновник или даже студент, имеет право быть своим собственным судьей по мелким юридическим вопросам. Подобная идея позволяет понять, откуда впоследствии появилось представление о «возможности дать удовлетворение», которое сплотило те слои общества, к которым это было применимо, и укрепило в них чувство принадлежности к привилегированному классу. Какую большую роль играл этот социологический фактор, особенно в Баварии, в формировании социального происхождения офицерского корпуса, мы видели в первой части. Тем не менее, с точки зрения конституции и политики в целом, это конкретное выражение классовой солидарности было анахронизмом, совершенно несовместимым с абсолютной государственной властью. Целью внутренней политики Гогенцоллернов того времени было строительство централизованного государства и подавление центробежных тенденций, для чего им было необходимо подавить эгоистичное упрямство своих вассалов и заставить их повиноваться.
Тем не менее в предисловии к своему исчерпывающему эдикту от 6 августа 1688 года о дуэлях курфюрст Фридрих II, впоследствии первый король Прусский, настойчиво старался подчеркнуть, что «всемогущий Господь дал право карать лишь Его Величеству и поставил на земле государей, наделенных властью использовать меч, чтобы пресекать злодеяния и несправедливости. Самоуправство, которым, по существу, является дуэль, ведет не только к пренебрежению божескими законами, но и к умалению авторитета судов, назначенных государем, оно навлекает на страну и ее жителей гнев Божий, подвергает опасности души дуэлянтов, за которые Христос заплатил столь дорогую цену, а также наносит ущерб добропорядочным жителям. Дуэли и другие подобные беспорядки часто уничтожают и калечат тех из нас, кто хорошо и порядочно служит и может служить нам и в будущем, Священной Римской империи и нашим землям, своей отвагой, опытом и добродетелями, как на гражданском, так и на военном поприще и в других сферах, включая молодых людей, обучающихся в академиях, находящихся в самом расцвете юных лет. Итак, эти бессмысленные потасовки теперь грозят сделаться почти распространенным явлением в наших землях и особенно при нашем дворе и в нашей армии… И следовательно, – продолжает курфюрст, – я принял решение усилить запрет моего предшественника на дуэли и провозгласить этот эдикт против всех подозрительных и незаконных дуэлей, поединков и нарушений мира и установить постоянный закон и распорядки, которые положат конец таким безответственным злодеяниям, дабы полностью искоренить дуэли, обеспечить каждому человеку его доброе имя, его честно заработанную репутацию и миролюбивое умонастроение и ввести самые суровые наказания всем преступникам без исключения, а также другим правонарушителям, которые намеренно попирают нашу вечную и милостивую конституцию». Далее в шестнадцати длинных статьях, составленных с образцовой ясностью и четкостью, следовало перечисление мер наказания с подробными, исчерпывающими списками дел. Простой вызов и принятие его карались увольнением со службы или конфискацией трехлетнего дохода наряду с заключением в тюрьму. Если дуэль все же проводилась (даже если не была пролита кровь), участников приговаривали к смертной казни, и такое же наказание применялось в случае, если дуэль проводилась за границей; секунданты подвергались наказаниям на тех же принципах.
«Те, кто разоблачают их, между тем будут вознаграждены нами: им будут переданы вещи и имущество виновных преступников и нарушителей этого эдикта». Это обещание, которое, возможно, не является деликатным в психологическом смысле, свидетельствует о твердом намерении автора и может быть объяснено предположением, что составитель закона пребывал в неком отчаянии, столкнувшись с неискоренимо упорной практикой поединков на дуэлях.
В ходе XIX столетия огромное значение придается попытке с помощью этого эдикта (сверх общего обещания о защите и покровительстве, впрочем, слишком общего, чтобы иметь практическую ценность) принять поистине эффективные меры, чтобы люди могли, не прибегая к дуэли, ограничиться сатисфакцией стороне, оскорбленной действием или словами. На этот счет в статье 11 указано, «что все оскорбления, не важно, состоящие из взглядов или жестов, дурных или обидных слов, должны в соответствии с тяжестью и обстоятельствами быть наказаны в суде согласно устному или письменному приказу посредством временного отстранения от службы, денежным штрафом, тюремным заключением или наказанием или, в случае аристократа, изъятием права на ношение меча. Такие деяния, как удары, затрещины или швыряние предметов в голову и т. д., влекут за собой наказание в виде тюремного заключения на три или четыре года. Но предварительно, до заключения виновного под стражу, он должен в присутствии других почтенных людей заявить, что он готов получить такие же удары и оскорбления от обиженной им стороны, и объявить устно либо письменно, что он поступил жестоко и неразумно, и попросить оскорбленную сторону простить его и забыть все это дело». Позднее среди всех пасторов распространилось правило, что один раз в год, в конце воскресной службы, они должны были напомнить своей конгрегации об этом эдикте. В последней статье эдикта даже запрещалось «всем подряд, к какому бы сословию или достоинству они ни относились, осмеливаться подавать нам ходатайство или прошение о снисхождении, например, в связи со счастливыми родами нашей королевы, рождением или свадьбой одного из наших принцев или принцесс и тому подобным, дабы не вызвать нашего негодования и недовольства».
Этот эдикт 1688 года дает нам представление о двух аспектах социальной жизни, которыми историки склонны пренебрегать, но которые помогают нам в понимании интеллектуального и социального развития в период после Тридцатилетней войны, когда мир современных государств еще только принимал свои формы. Эдикт также позволяет взглянуть на мир конституционных и этических идей, господствовавших в Пруссии. Для нас ценно то, что мы имеем дело с первым тщательно разработанным планом полного искоренения дуэльных поединков. Этот план до некоторой степени логичен: он не только угрожает дуэлянтам наказанием, но и идет дальше, устанавливая определенные правила для обеспечения обиженной стороне сатисфакции, посредством обыкновенного судебного процесса.
О тщательности, с которой курфюрст занимался этим предметом и пытался, по крайней мере, подстраховаться от всех возможных случайностей, свидетельствует тот факт, что его эдикт во многом был воспроизведен в законе, изданном его преемником в 1713 году. И все же Фридрих-Вильгельм I ограничил пределы применения смертной казни: для дуэлей без фатального исхода предписывалось лишь тюремное заключение сроком от восьми до десяти лет, а если в результате дуэли один из участников погибал, то наказание зависело от «летальности» раны.
Фридрих Великий подтвердил эдикт 1713 года, не добавив к нему ничего от себя. Его личная точка зрения на сей счет изложена в диссертации, которую он написал в 1749 году, – «Основания, на которых должны составляться или отменяться законы».
После прочтения прославленного трактата Esprit de Lois («Дух закона») Монтескье, в котором философ назвал честь принципом монархии, Фридрих, осуждая практику дуэлей, применял следующие выражения: предубеждения; ложные взгляды; спутанные идеи о вопросах чести; эта варварская мода; это ошибочное представление о чести, которое стоит жизни столь многим хорошим парням, от которых страна могла бы ждать, что они сослужат ей великую службу.
Он все еще полагал, что дуэль можно простить в том случае, если в ней участвовал военный, который мог быть уволен со службы и не сможет служить ни в одной стране Европы. Другими словами, Фридрих Великий сам был вынужден отступить, когда на практике столкнулся с классовым сословным менталитетом, классовыми обычаями и классовым деспотизмом своего офицерского корпуса. Он справедливо и обоснованно полагал, что эту трудную, щекотливую проблему может разрешить одно лишь общественное мнение. Поэтому он поддерживал идею созыва генерального конгресса всех князей и принцев Европы, которые были согласны подвергнуть остракизму любого, кто, презрев запреты, принимал участие в дуэли, и которые отказывали во всяческой защите этому сословию убийц и наказывали дерзких правонарушителей со всей строгостью.
Эта идея ни в малейшей степени не является свидетельством добрых намерений, которыми был движим просвещенный автор. Она отражает те невообразимые трудности, с которыми сталкивался даже абсолютный монарх величины Фридриха Великого, когда дело доходило до открытого столкновения с глубоко укоренившимся сословным самомнением и предрассудками офицеров, которые во всех прочих аспектах были ему всецело преданы.
Глава 16
Пруссия: введение трибуналов чести
В конце жизни Фридриха Великого в 1785 году был опубликован проект общего прусского гражданского кодекса, составленного канцлером фон Гармером с помощью Суареца. В этом проекте было высказано пожелание, чтобы дела о нанесенном оскорблении и применяемом наказании рассматривались в трибунале чести. Тяжелые наказания должны применяться к тем, кто участвовал в дуэлях, презрев решение трибунала или введя последний в заблуждение. Например, в случае смерти одного из дуэлянтов выживший участник дуэли должен понести наказание за убийство. Существенно, что идея суда чести, состоящего из представителей социально равных сторон, должна была впервые появиться в проекте общего гражданского кодекса Пруссии. Однако настоящей целью этой законодательной реформы, о которой долго мечтал Фридрих II, было внесение элементов германской юриспруденции в преобладающую систему римского права.
В любом случае прусский офицерский корпус, будучи традиционно аристократичным и привилегированным, уже воплотил в высокой степени типично германское представление о товариществе, и начиная с времен ландскнехтов этой концепции было придано новое значение. В XVII веке полковник находился лишь в частных контрактных отношениях с территориальным сувереном (правителем). Вследствие этого полк обладал в большой степени корпоративной автономией, в частности, имел собственный трибунал. Таким образом, офицерский корпус был правомочен самостоятельно решать, исключать или нет из своих рядов нежелательного члена. Начиная с конца XVII века и далее, до недавних времен, офицер классифицировался как нежелательный, если он отказывался драться на дуэли. Даже после того, как территориальные суверены отменили эту автономию в принципе, многие ее черты сохранились в каждом полку офицерского корпуса. Тем не менее было понятно, что идея суверена состояла в том, чтобы отобрать этот структурный элемент и встроить его в новую законную систему и порядок, который он должен был создать. Опыт, уходящий по крайней мере на столетие назад, показал, что в конце концов частная групповая юрисдикция, которой пользовались офицеры, могла привести к открытому столкновению с существующим законодательством. В целом, несомненно, мотивы, лежавшие в основе принимаемых мер, были чисто практического, эмпирического свойства; но они исходили из определенных принципов юриспруденции. Первой попыткой укрепить законный порядок и было внесение раздела о трибуналах чести в проект общего гражданского кодекса для Пруссии.
Между тем этот раздел так и остался проектом. Фридрих Великий, который, несомненно, был его вдохновителем, в следующем году умер, и его оппоненты взяли верх. Трудно сказать, можно ли было называть их сопротивление консервативным или анархичным, ибо прусский консерватизм, столкнувшийся с выдвижением новой и абсолютной концепции государства, принял подчеркнуто революционный тон. Каван, главный аудитор, несомненно, озвучил не более чем общее мнение офицеров, когда официально заметил, что «предполагаемые суды чести будет сложно примирить с самоуважением офицера и что означенное самоуважение может опираться в вопросах морали до некоторой степени на обычаи, а эти обычаи, как хорошо известно, имеют такое благотворное влияние на армию его величества, что настоящий дух и характер их ценятся весьма высоко». Эти высказывания старшего военного юриста привели к тому, что армейский совет стал возражать против проекта, рекомендованного высшей гражданской властью. Кабинет министров в приказе от 21 марта 1791 года посчитал, что в то время, как целью остается полное запрещение дуэльных поединков, введение трибуналов чести в армии будет самым неудачным шагом, ибо оно приведет ко многим нежелательным эффектам, воздействующим на дух армии. И поэтому было постановлено, что в отношении дуэлей между офицерами должно соблюдаться нынешнее и будущее законодательство, применимое к армии. Это означало, что раздел 77 преамбулы к общему гражданскому кодексу («Никто не имеет права искать справедливости по собственной воле») применялся в равной степени к офицерам, а раздел 79 гласил: «Споры следует решать, а наказания должны быть определены только судами, которым подчиняется каждый законопослушный житель государства».
Возможно, это выглядело так, словно обращалось внимание на букву закона, однако ничего не делалось, чтобы на практике улучшить положение – ничего, что могло бы перекинуть мост через пропасть, образовавшуюся теперь между законом земли и кодексом чести. На самом деле сам король воспринял эту пропасть как непреложный факт, ибо косвенно дал разрешение офицерам самостоятельно искать сатисфакции в вопросах чести и в то же время искренне признал, что вновь составленный гражданский закон неадекватен. Такое признание можно похвалить за искренность, однако невозможно назвать его мудрым. В любом случае законодатель спонтанно объявил себя банкротом и таким образом уменьшил власть государства. Как мог законник примириться с таким гражданским кодексом, где написано: «На аристократии, как первом сословии государства, лежит, по ее собственному выбору, главная ответственность за защиту государства и поддержание его внешнего достоинства и внутренней конституции».
И все же идея о разрешении ссор и других поводов для дуэлей среди офицеров судами чести продолжала жить. Если вначале она не нашла благосклонности в общественных дебатах, то все равно была далека от того, чтобы зачахнуть. В самом деле, она определяла направления, по которым этот вопрос развивался в течение последующих ста лет, и каждый Гогенцоллерн-преемник придавал вопросу различные нюансы – иногда подчеркивая корпоративный аспект, иногда – авторитарный. Реформа, если ее можно назвать таковой, началась в Пруссии в тот самый месяц и год, когда произошла «либерализация» набора в рекруты офицеров. Связь между этими двумя нововведениями и катастрофой под Йеной достаточно очевидна, а то, что эти события произошли в один и тот же месяц, делает связь еще более четкой.
На самом деле 3 августа 1808 года Фридрих-Вильгельм III издал важный приказ о наказаниях для офицеров. Он постановил, что офицер, ведущий распущенный образ жизни, не соблюдающий субординацию или выказывающий иную душевную низость, объявлялся непригодным для дальнейшего продвижения по службе. Вопрос должен был решаться большинством его сослуживцев-офицеров. Каждый офицер имел право обратиться за помощью к «суду чести» и, если он чувствовал, что его ложно обвинили, мог подать апелляцию и попросить провести расследование в другом полку. Это был своего рода манифест: «Если офицеры данного полка внимательно следят друг за другом, если старшие офицеры вовремя предупреждают своих подчиненных о том, что скрупулезное исполнение приказов должно стать для них вопросом чести, если доброе имя всего офицерского корпуса становится ответственностью каждого из них и если каждый ревностно, как это и должно быть, следит, чтобы ничто не отвлекало от службы, командующий офицер будет редко сталкиваться с неприятной необходимостью следить за дисциплиной офицеров, чье происхождение и образование должно гарантировать, что они не будут нуждаться в том, чтобы их побуждали выполнять свои обязанности». Дела, связанные с оскорблениями, по-прежнему не подлежали решению в судах чести. Однако это было сделано (как мы позже рассмотрим) в отношении всех прочих проступков в вопросах долга и поведения в частной жизни, которые могли бы опорочить истинное достоинство и доброе имя офицеров как группы или любого из них как члена этой группы. Более того, если допускалось, чтобы товарищество офицеров влияло на своих членов (что откровенно квалифицировалось как «слежение»), то оставался лишь маленький шаг до того, чтобы сделать «вопросы чести» в более строгом смысле этого слова объектом для судов чести. Прошло не менее двадцати лет, прежде чем такой шаг был предпринят.[19]19
Между тем раздел 77 предписывал, чтобы на ежегодных маневрах имелись трибуналы чести для каждого из двух батальонов, избранные офицерами из обоих батальонов. Их функция состояла в урегулировании из ряда вон выходящих дел, возникающих между офицерами, в течение года, а также «любых нарушений в поведении отдельного человека». Такая система также применялась к «другим частям армии», согласно решению военного министерства от 28 декабря 1817 года. В следующем году король учредил комиссию, чтобы та пересмотрела военный закон (в том числе суды чести и регуляции по дуэльным поединкам) и отдал ее в ведение, согласно письмам от 18 апреля 1818 года, государственному министру фон Бейме, а также генерал-майору фон Грольману. По их предложению генерал-майор фон Тиль был назначен им в помощь. Комиссия должна была работать в союзе с департаментом военного правосудия. После отставки Грольмана генерал-майор Рюль фон Лилиенштерн присоединился к Тилю в качестве помощника Бейме (20 апреля 1820 года). 31 октября 1825 года король переложил ответственность за комиссию лично на министра юстиции, фон Данкельмана, поручив ему довести работу до конца как можно раньше, при этом не халтуря. Данкельман пришел к окончательному соглашению с военным министром фон Хаке 30 декабря 1825 года и завершил свою работу (Государственный тайный архив Пруссии, военное министерство, Центральный департамент).
[Закрыть]
Декларация Фридриха-Вильгельма II от 21 марта 1791 года была слишком откровенна; и пагубные последствия, которые она породила, проявились в решении военного суда в 1809 году, который высказал еще более откровенное мнение о том, что в вопросах дуэлей применим не закон земли, но исключительно закон «чести». На это Фридрих-Вильгельм III отреагировал весьма остро. Что касается закона о дуэлях, то он твердо решил сохранить за собой право судить, заботясь лишь о том, до какой степени принимать в расчет «предрассудки» и позволить своему милосердию перешагнуть закон. Социальные условия внутри офицерского корпуса в годы, последовавшие за Наполеоновскими войнами, были таковы, что они давали повод для дуэлей среди офицеров почти каждый месяц, и очевидно, что они рассчитывали на то, что не обо всех дуэлях станет известно, а также полагались на милость суверена. В 1820 году эта милость фактически распространилась лишь на одно дело офицерского корпуса, а именно когда король, вопреки решению военного трибунала, оставил на службе лейтенанта, с которым незаслуженно грубо обращались, но он не бросил вызов своему обидчику. Генерал фон Борштель, командующий в Кенигсберге, где произошел этот инцидент, теперь должен был выполнить приказ короля. Далекий от мысли подать в отставку, он направил меморандум, в котором сделал ряд предложений о том, каким образом можно избегать дуэлей посредством судов чести (приложение 13). Борштель был справедливым и весьма энергичным офицером, всегда полным идей, встречавших одобрение короля.[20]20
Карл Гейнрих Людвиг фон Борштель внес важный вклад в победу при Гросберене и Денневице в 1813 году, но был приговорен к четырем годам заключения в крепости за неповиновение приказу Блюхера сжечь флаги мятежного саксонского полка и расстрелять зачинщиков. Он был помилован в 1815 году.
[Закрыть]
Предложения Борштеля попали на благодатную почву и привели к появлению приказа кабинета от 19 сентября 1821 года. Вопрос о судах чести для офицеров, таким образом, был вынесен если не на последнюю стадию, то на поворотный пункт. Теперь судам чести доверяли дела, в которых поведение офицера порочило не просто его самого, но и отражалось на чести всего сословия. Следовательно, с этого времени суды чести должны были стать компетентными органами, посредством которых офицерский корпус мог по собственной инициативе вмешиваться в ситуацию, чтобы обеспечить мирное, законное решение вопросов чести среди членов сообщества. С одобрения короля офицерское сообщество могло предписывать освобождение от службы и потерю офицерского статуса[21]21
Согласно приказу (АКО) от 1821 года только сержанты и капитаны могли подвергаться суду чести. Другой важный вклад состоял в том, что, когда трибунал голосовал, младший член должен был голосовать первым, чтобы сохранить тем самым максимально независимое суждение.
[Закрыть]. Появилось даже намерение преобразовать классовый дух и классовые интересы офицерского корпуса в первого и активного посредника для подавления дуэльных поединков.
Если оставить в стороне их естественный акцент на превосходство закона, государства или монарха, старые, направленные против дуэлей эдикты, выпущенные Фридрихом III и Фридрихом-Вильгельмом I, опирались лишь на постулаты личной христианской нравственности. Между тем в своем приказе Фридрих-Вильгельм III попытался подойти к делу по-другому. Впервые он в принципе признал существование классово сознательных офицеров и их коллективного представления о чести; он сделал это в надежде укрепить его элементами личной морали и чувством персонального достоинства. Например, в 1823 году в связи с дуэлью между неким Куртом фон Блюхером и актером по имени Стих Фридрих открыто заявил: «Я не стану терпеть офицеров, которые пытаются укрепить свое дворянское достоинство, проливая кровь в ответ на оскорбления, которые они же сами спровоцировали. И наоборот, я ожидаю, что они будут опираться ради этого на приличное, правильное поведение и станут избегать проступков, которые осуждаются по закону как морали, так и чести».
Такие же представления о «нравственности» и «истинном чувстве чести» и тот же призыв (фактически относящийся к 1808 году) к взаимной слежке и исправлению поведения в очередной раз прозвучал в приказе кабинета от 13 июня 1828 года (приложение 14). Там фактически прямо цитируется приказ от 15 февраля 1921 года, по вопросу о том, что дела, связанные с дуэлями, подвергаются рассмотрению на судах чести; и в этом контексте новый приказ добавлял: «Офицерский корпус, который положит конец дуэлям посредством соответствующего управления этими вопросами чести, получит мое благорасположение и докажет, что дух чести там сохраняется». Фактически это новое выражение королевской воли просто соединило более ранние приказы 1808, 1821 и 1823 годов; однако теперь было более четко провозглашено, что суды чести компетентны и по вопросам дуэлей – «с тем, чтобы противодействовать пагубному обычаю».
В приказе также содержался следующий пассаж: «Любой человек, который намеренным оскорблением приличных манер или беспричинно нанесенной обидой спровоцирует дуэль, будет немедленно осужден». Прошло не более девяти месяцев, прежде чем судебная ошибка на военном трибунале привела к тому, чтобы король объяснил свою точку зрения – также подстегнутую старым меморандумом Зитена о дуэлях (приложение 15). «Если, – говорил король в приказе кабинета от 29 марта 1829 года, – имеют место оскорбления, которые по текущим стандартам столь пагубны для личной чести, что их можно смыть только кровью, то отсюда следует, что тот, кто способен неосмотрительно наносить необдуманные оскорбления, показывает, что он более не может принадлежать сословию, о священном характере которого он утратил всяческое представление. Ибо для человека, которого он необоснованно оскорбил, утрата обидчиком своего статуса также составит полнейшее удовлетворение, и я желаю видеть, чтобы такое положение было признано всеми». Согласно этому решению офицеров призывали к тому, чтобы в будущем подобные дела служили для них ориентиром.[22]22
Неофициальный, но весьма авторитетный образец руководства офицерам по вопросам чести, который также дает представление о современных взглядах на этот счет, можно обнаружить в пространном послании от 12 мая 1828 года герцога Карла Мекленбургского, главнокомандующего гвардейским корпусом, своим офицерам. Меморандум герцога считался образцом для всех командующих полками в 50-х и 60-х годах XIX века во всех прусских подразделениях.
[Закрыть]
По сравнению с предыдущими приказами на сей раз гораздо более четко выражалось мнение, что оскорбленная сторона менее, чем обидчик, пригодна к тому, чтобы оставаться членом офицерского сословия. Другими словами, делалась попытка сместить центр тяжести чести с «внешней» на «внутреннюю» сторону и заменить коллективное представление о чести критерием личного достоинства и личной морали. Однако следующие два короля постепенно отбросили этот принцип, и представления, которых придерживался Фридрих-Вильгельм III, как было подчеркнуто выше, снискали расположение лишь при императоре Вильгельме П.
В 1837 году королевская комиссия по ревизии военного закона создала проект регуляций по судам чести и о наказаниях, которым должны были подвергаться офицеры в связи с вызовами и дуэлями. И вновь комиссия рассудила так, что одна из ее главных задач – это сделать все возможное, чтобы выявить странное непостоянство взглядов, которых обычно придерживались по вопросам офицерской чести. Например, в то время как посягательство на честь вышестоящего было бедствием, несовместимым с жизнью, нанесение подобного оскорбления на социально равного человека ни в коем случае не было возмутительным. Несомненно, таковы были глубинные представления самого короля, и все же комиссия быстро отошла от основополагающего принципа в самой преамбуле к проекту, потому что именно там утверждалось, что человек, чья честь была запятнана, ни в коем случае не должен был заботиться о том, будет ли наказан обидчик согласно гражданским законам. То, о чем он мог заботиться больше, чем о самой жизни, – это чтобы у его обидчика и общественности (особенно у равных ему по социальному статусу людей) сложилось хорошее мнение о нем. Исходя из этого соображения, комиссия заявила, что обычай проводить дуэли имеет «поразительную силу и жизнеспособность». Чувство чести, указывала комиссия, должно быть по самой своей природе невосприимчивым к влиянию власти, если не противостоять ей. Следовательно, оказавшись перед лицом неуменьшающейся власти старого классового духа, комиссия вновь капитулировала. Она сделала слабый жест в сторону реформирования функций трибуналов и обращения понятий офицеров о чести в вопрос личной нравственности, но быстро отреклась от старого представления о достоинстве как о вопросе, направленном «наружу» – то есть ориентирующемся на мнение остальных. По сравнению с убеждениями короля комиссия была глубоко ретроградной.